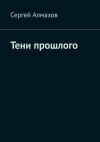Читать книгу "Сергей Прокофьев. Солнечный гений"
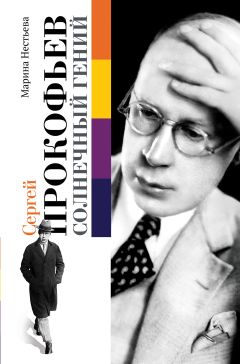
Автор книги: Марина Нестьева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Глава четвертая
Вокруг планеты всей
Америка
Первые успехи и первые разочарования
Невиданно и нереально, но Прокофьев добирался до Сан-Франциско почти четыре месяца. Обладая недюжинным чувством риска и чрезвычайно любопытный до всего нового, он посмеивался над теми, кто пугал его всякими ужасами и трудностями. Отважный молодой человек провел в Транссибирском экспрессе восемнадцать дней. Не привыкший терять время, занимался изучением испанского языка, много читал и даже ухитрялся работать. Поезд чудом проскочил через препятствия, связанные с нагрянувшей гражданской войной, и Прокофьев с жадностью вбирал в себя впечатления от гигантских сибирских просторов, снежной стихии под Омском, величавых рек Байкала и Амура. Подробно и весело описывал все это в письмах к друзьям и матери, оставшейся в сравнительно безопасном Кисловодске. Конечно, он беспокоился о ней, но ничто уже не могло остановить выбравшего свою планиду нашего героя, к тому же, как уже говорилось, он не предполагал уезжать надолго.
Наконец-то во Владивостоке Прокофьев получил японскую визу и обменял валюту. Транспортные и бюрократические проволочки задержали его в Японии еще на два месяца, где он даже дал концерты: …японцы «слушали внимательно, сидели изумительно тихо и …аплодировали технике» (7; с. 182).
Композитор спокойно и не без юмора воспринимал перипетии своего растянувшегося путешествия, стараясь обратить накладки в преимущества. Так, долгий переезд на теплоходе по Тихому океану до Сан-Франциско он не бездельничал, вносил в записную книжку новые музыкальные идеи – благодатная привычка, сопровождающая его на протяжении всего творческого пути.
Здесь самое место сказать о том, что Прокофьев, с детства очень одаренный в литературном смысле, в длительных поездках записывал не только музыкальные идеи, но и сочинял небольшие рассказы.
Они все были написаны преимущественно в период с 1917 по 1919 год, часть – в Петербурге и во время длительных поездок по железной дороге на Кавказ, часть – в Транссибирском экспрессе, который вез Прокофьева восемнадцать дней во Владивосток. Некоторые рассказы были сочинены в Японии в период двухмесячного ожидания парохода в Америку, и, наконец, на самом корабле, плывущем в Америку, а также в Нью-Йорке.
Любопытно, что и сегодня стиль этих рассказов более чем актуален. И их сюрреалистические особенности, и их, как сказали бы ныне, уклон в фэнтази. Вот несколько отрывков из этих рассказов. Первый – о приключениях маленькой девочки и ее взаимоотношениях с Мухомором и его царством, второй – о небывалом происшествии в Париже, связанным с оживлением Эйфелевой башни, и, наконец, третий о совсем уж фантастической ситуации, случившейся в «перевернутом» мире.
СКАЗКА ПРО ГРИБ-ПОГАНКУ
Саблино – Ессентуки
17 сентября – 1 октября 1917 года
И тут-то произошла замечательная вещь: под высоким деревом Таня увидела огромный красный гриб. Таня даже вскрикнула от неожиданности и в упоении замерла перед ним. Гриб был самый настоящий, можно сказать, живой – толстый, с красной как огонь шляпкой и с хорошенькими беленькими прыщиками на ней. Таня присела перед ним и осторожно потрогала его пальцем. Гриб был очень приятный на ощупь и даже как будто немного теплый. Боясь, как бы не повредить свою драгоценность, Таня принялась копать ногтями землю вокруг него и, после долгой и осторожной работы, вырыла весь гриб целиком. Осторожно, как куклу, завернула в свой фартучек и пошла назад…
Утром Таня проснулась с рассветом, разбудила няню и побежала в сад ловить бабочек. Улов не оказался более удачным, чем вчера… Таня только что собралась сесть на муравьиную кочку, чтобы отдохнуть, как взгляд ее упал на высокое дерево, и что-то ласковое вдруг мелькнуло в ее глазах: под вековым деревом она увидела огромный красный гриб, точь-в-точь такой, как пять дней тому назад.
Таня уронила сачок, тихонько вскрикнула от радости и побежала к нему. Наклонилась, нежно погладила его рукой, затем отступила на несколько шагов и полюбовалась, как он выглядел издали.
– Такой-то ты хороший, – покачала Таня головой, – и вдруг называют тебя поганкой!
К чрезвычайному ее удивлению гриб вежливо снял шляпку и, поклонившись, сказал:
– Поганкой называют нас те люди, у которых у самих душа нехорошая, а настоящее мое имя: Мухомор.
– Да ты и разговаривать можешь?! – изумилась Таня. – Вон какой же ты разумник!
– Мы горды, – сказал Мухомор, – и потому никогда ни с кем не говорим. Мы молчим даже тогда, когда жадные люди хотят нас съесть. Но зато в молчании нашем мы готовим яд, и горе тому, кто проглотит хоть кусочек!
БЛУЖДАЮЩАЯ БАШНЯ
Сибирский экспресс – Токио
12 мая – 8 августа 1918 года
Марсель Вотур был, во всяком случае, замечательным человеком, и его имя знали в ученых кругах Парижа. Пожалуй, кабинетные ученые, сокрывшие свои знания под темными очками, и утонченные мыслители, покоящие свои мысли под сводом высоких белых лбов, находили его немного чудаком, однако не отрицали у него ума, отточенного и гибкого, пускай и не всегда верно направленного. Поэтому они снисходительно улыбались и говорили, что если ум тянет его под землю в глубину Вавилонских раскопок, то фантазия, гораздо более сильная, уносит за облака, и поэтому часто он, со своими суждениями, висит в воздухе, впрочем, иной раз, возвещая оттуда прелюбопытные вещи. Но важно было то, что Марсель Вотур никому на шею не садился, никому своих мнений не навязывал, а исчезал на год или два в свою дорогую Ассирию, где при помощи широких связей и свободных денег мог вволю рыться в песках и развалинах, находил там тысячелетние таблички со странными клинообразными начертаниями, разбирал их, делал гениальные догадки и затем, возвратившись в Париж, разражался блистательной статьей самого фантастического содержания. Статья шумела, модный журнал, в котором она появилась, раскупался, в салонах восклицали, и друзья чествовали его обедом. Но на кафедры он не лез, с учеными на диспуты не вступал, никому своего мнения не навязывал – и всем было приятно, а ученые улыбались и говорили, что он, конечно, остроумен, но немного висит в воздухе…
Марсель Вотур направился вдоль по улице и минут через десять очутился у Сены. Там столпилось огромное множество народа, удивленного и возбужденного. Эйфелева башня, до сих пор возвышавшаяся на этом месте, исчезла. Публика растерянно искала ее глазами, но башня исчезла, точно растворилась в воздухе.
Два джентльмена в цилиндрах, окруженные плотными кольцами любопытных, в десятый раз рассказывали о том, что они видели. Джентльмены были из тех молодых людей, которые ложатся утром и встают вечером, покрыты золотистыми прыщами и потому называются золотой молодежью.
В три часа ночи они поехали от Марьетты к Александрине и были свидетелями феерической картины. Эйфелева башня вдруг задрожала, потом запрыгала на месте, затем сорвалась со своих устоев и зашагала, да, именно зашагала на всех четырех ногах, взяв направление в сторону, обратную от Сены. Что было дальше, джентльмены не видели, так как они до такой степени испугались, что выскочили из фиакра и без оглядки бросились бежать.
Марсель Вотур, едва выслушав их рассказ, протиснулся вон из плотного кольца и направился в ту сторону, куда ушла блуждающая башня. Вскоре он попал в другую толпу, собравшуюся перед большим зданием, у которого зиял разрушенный фасад. Часть фасада была совсем продавлена, раскрывая внутренность комнат, кабинетов, спален. В одной комнате виднелся накрытый для ужина стол. Апельсины рассыпались по скатерти и по полу. Говорили, что нескольких раненых увезли в санитарных экипажах. Очевидно, башня шагнула довольно грубо и своей ногою снесла кусок фасада.
Перед этим зданием Марсель оставался только лишь на какую-то минуту, как раз настолько, чтобы отдышаться. Затем сейчас же заторопился дальше.
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ВОЛЬНОСТЬ
Сибирский экспресс – Нью-Йорк
май 1918 года – 12 февраля 1919 года
На мягком пушистом облаке лежали два больших булыжника, а на них расположились две фигуры, укутанные в туманные одежды. Одна фигура была ультрафиолетовая, другая инфракрасная. Читатель, знакомый с физикой, сразу поймет, что обе они были невидимы для человеческого глаза. Да если и видимы, то слишком уж высоко надо было поднимать голову. Но это несущественно. Неважно также, что обе они были сестрами, что, несмотря на свою заоблачность, обе были дочками одного и того же земного отца, жившего когда-то в Кёнигсберге. Гораздо существенней то, что случилось. И, хотя этого никто не видел, так как, я уже сказал, слишком высоко пришлось бы задирать голову, но несомненность случившегося будет бесспорна, после того как ниже мы узнаем о последствиях, вытекших из случившегося.
Итак, одна фигура заломила руки и воскликнула:
– Ах, сестра! Могла бы ты только представить, как бесконечно надоело мне носиться на этом колесе с двумя крыльями!
Это была ультрафиолетовая фигура и звали ее Время. Другая фигура, инфракрасная, ответила устало:
– Представляю, сестра, ах, как представляю! Сама я мучаюсь тем же: без начала и конца все одно и то же!
Инфракрасную сестру звали Пространством. Прошло сто лет. Обе они сидели и молчали.
Одна из них бессознательно вертела колесо, которое махало своими двумя крыльями.
– Уйдем… – несмело сказала фигура, которая вертела колесо и имя которой было Время.
– Уйдем, – ответила другая, инфракрасная, – мир давно течет по заведенному порядку. Авось, и без нас не собьется, по инерции…
После этого обе фигуры обнялись и исчезли. …Между тем сестры, побродив средь трансцендентальных планов и не найдя себе интересного флирта, оглянулись на мир, который они так легкомысленно покинули.
– Милая, да там что-то неладно! – воскликнула сестра, которую звали Пространством. – Уж никак земной шар соскочил со своей оси?!
– Что ты говоришь! – забеспокоилась другая сестра.
– Уверяю тебя! Смотри: куда девалась пирамида?
С этими словами сестры устремились к тому облаку, на котором они любили сидеть.
– Горе нам! – закричала одна из них, – времени нет, и все столетия перепутались!
– О, несчастье! – крикнула другая, – пространство исчезло, и пирамида попала в Америку!..
Обе сестры схватили фараона за руки. Он… никак не мог понять, кто держит его руки. Как известно, одна сестра была ультрафиолетовая, а другая инфракрасная, и потому обе невидимы для глаза.
– Ваше величество, что за вольность? Пожалуйте в ваш гроб! – закричала сестра, – и как это он ходит без кишок и без сердца! – удивилась она, уводя его набальзамированное туловище внутрь пирамиды…
И сестры принялись приводить в порядок сбившийся с толку мир. Этот маленький переполох был им хорошей наукою о том, как опасно, никого не предупредив, покидать свое ответственное дело. Впрочем, сестры скоро справились со всеми беспорядками, мир вошел в колею, и все потекло по-старому: просто, ясно и обыкновенно…
Первые годы композитор постоянно курсирует между Америкой и Европой.
Надежды быстро покорить Новый свет не оправдались. Сергей Сергеевич остроумно замечал: «Американцы выглядят столь современно в своих автомобилях, поездах и самолетах, что иногда я жалею их – уж лучше бы они ездили на телегах, запряженных лошадьми, но с большей легкостью продвигались бы вперед в области искусства» (11; 57).
Ориентированные на исполнителей с громкими именами, но глухие ко всему новому, консервативные американцы на первых порах не поняли, кто перед ними. Правда, концерт в нью-йоркском зале Эолиан-холл вызвал некоторый интерес к «этому странному русскому». Мнения, как водилось в его жизни и раньше, разделились. Одни называли поразительным пианистом, другие отказывали в здравом уме. Все же некоторый положительный результат был: два нью-йоркских издательства предоставили заказ на фортепианные миниатюры – и возникли обаятельные «Сказки старой бабушки», пьесы ор. 32 (танец, менуэт, гавот и вальс) – оба произведения совершенно классические.
Судьба не сулила, как выяснилось, легкой жизни. Импресарио требовали минимального включения в программы выступлений собственных сочинений композитора. Он играл тогда много «чужой» музыки: Французскую сюиту Баха, «Карнавал» Шумана, «Картинки с выставки» Мусоргского, «Листок из альбома» Скрябина. В одной из программ знаменитого зала, Карнеги-холла, исполнил даже Концерт Римского-Корсакова. Однако свою тактику – внедрять в американские головы свою музыку – Прокофьев упорно продолжал.
Контракты, если ему и предлагали, то крайне невыгодные и унизительные. Не забудем, что он намеревался скоро вернуться, поэтому идею двух– или трехлетнего договора, однажды возникшую, сам отверг. Впрочем, бывали и удачи. Присутствовавшая на одном из концертов дирекция Чикагской оперы предложила Прокофьеву сотрудничество. Так начались долгие отношения, связанные с постановкой его оперы «Любовь к трем апельсинам», которая по разным причинам все откладывалась.
Прокофьев с энтузиазмом принялся за сочинение оперы. Но неожиданно серьезно заболел и полтора месяца провалялся в больнице со скарлатиной, осложнившейся дифтеритом, нарывом в горле. Он тогда чуть не погиб, но победили молодые силы и, конечно, стимулирующая его творческая мотивация – борьба с врачами за право работать, невзирая на самочувствие, – ситуация повторится, спустя много лет, у зрелого Прокофьева.
Наконец-то осенью 1921 года состоялась долгожданная постановка в Чикаго «Любви к трем апельсинам». К тому времени кампанию возглавляла известная певица Мери Гарден, исполнительница таких сложных партий, как Мелизанда в «Пеллеасе и Мелизанде» Дебюсси и Саломея в одноименной опере Рихарда Штрауса, что, конечно, отразилось на уровне работы всего предприятия.
С детства тяготеющий к театру, Сергей Сергеевич показал себя настоящим его знатоком. Он активно вмешивался в ход подготовки спектакля, оценивал профессиональные качества дирижера, режиссера, художника и певцов. Декорации и костюмы Б. Анисфельда, на которые была потрачена уйма денег, восхитили композитора, понравился и основной состав певцов. Но с режиссером-постановщиком Жаком Коини вышел конфликт: «Вначале я возмущался его неизобретательностью, потом сам стал за кулисами объяснять роли певцам, потом прямо на сцене показывать хору… Коини в конце концов вышел из себя и спросил: “Собственно говоря, кто из нас хозяин на сцене, вы или я?!”» Реакция Прокофьева, человека и остроумного, и знающего себе цену, очень характерна: «Вы – для того, чтобы исполнять мои желания!» (7; с. 213). Однако в ответе не только самоуверенность; когда была возможность, композитор проявлял недюжинный режиссерский дар, которым был наделен с детства и который, конечно же, помогал ему строить всякий раз на сцене оригинальную музыкальную драматургию. Тем более чтобы воплотить в жизнь все выдумки «Любви к трем апельсинам», где должен был предстать во всей красе «театр представления», в самом деле требовался режиссер с фантазией.
Авторы русского сценария – адепт русско-советского авангарда, режиссер Всеволод Мейерхольд (из его журнала с аналогичным названием Прокофьев заимствовал пьесу. – Прим. авт.) и его сподвижники – обогатили оригинал сказки Карло Гоцци актуальными для того времени мотивами и ввели аллегорический Пролог, где спорили между собой представители разных театральных течений – Трагики, Лирики, Комики и Пустоголовые (либретто композитор написал сам).
Иронически-условный характер господствовал в произведении, фантастика и реальность причудливо перемешивались. Здесь утрированно все – ситуации, облик персонажей: Принц то непрестанно хнычет, то чересчур хорохорится, Труффальдино то неутомимый затейник, то жалкий трус. Кухарочка, сторожившая три апельсина, вообще поет басом и… вдруг расстрогалась от «хорошенького бантика». И тут, как и в «Игроке», нет законченных арий и ансамблей, музыка выдержана в декламационном ключе и состоит из коротких характерных реплик. Партия хора тоже сводится к скупым восклицаниям. Но до чего же они выразительны! Сошлемся на авторитетное мнение друга Прокофьева, музыковеда Петра Сувчинского: «…кроме ритмической перебойчатости поражает еще конкретность музыкальной изобразительности. Смех, жалоба, испуг, угроза – звучат в музыке не как описательное звукоподражание, а как реально зафиксированные, материализованные в звучании эмоции» (10; с. 106).
Самые важные моменты действия отданы шествиям, танцам и пантомимам (не влияния ли это Дягилева, который, как известно, оперу считал жанром устаревшим, в отличие от балета). Что же касается праздничного марша, то он стал самым популярным произведением Прокофьева. Марш из «Любви к трем апельсинам» – композитор инстинктивно почуял, что американцам обязательно нужен «хит» – знают, кажется, все.
Были, впрочем, в опере определенные недочеты, на которые Прокофьев шел сознательно, пытаясь вроде бы потрафить вкусам американцев. Вы хотите более доступной музыки – получайте ее, дерзко взывал он. Кто знает, может быть споры в Прологе были нацелены на внутреннюю дискуссию с этой самой воображаемой американской публикой? Во всяком случае, известную дробность, «клиповость» формы для облегчения восприятия, чрезмерное любование деталями за счет охвата целого впоследствии Прокофьев преодолел. Но ювелирное мастерство резчика характерных реплик здесь усовершенствовалось.
Премьера вызвала громадный резонанс. На ней присутствовали влиятельные особы американского истеблишмента, в частности миссис Рокфеллер. Впервые, наверное, Прокофьев по-настоящему вышел в американский свет – и не растерялся: он и его опера стали объектом широкой и энергичной рекламной кампании, и сам композитор проявил завидную деловитость – требовал от театра выплаты неустойки за задержку премьеры, что тоже подлило масла в рекламную акцию.
Но вернемся к первым годам покорения им Америки. После двухлетнего пребывания в ней Прокофьев без сожаления расстался с этой страной: «Я бродил по огромному парку в центре Нью-Йорка и, глядя на небоскребы, окаймлявшие его, с холодным бешенством думал о прекрасных американских оркестрах, которым нет дела до моей музыки; о критиках, изрекавших сто раз изреченное вроде “Бетховен – гениальный композитор”, и грубо лягавших новизну; о менеджерах, устраивавших длинные турне для артистов, по 50 раз игравших ту же программу из общеизвестных номеров…» (7; с. 193). После второй поездки в Америку дело дошло до того, что о нем забыли как о композиторе. Подпись к фотографии в Musikal America это красноречиво демонстрировала: «Композитор Стравинский и пианист Прокофьев» (7; с. 195).
Европа
Начало широкого признания
В Европе, куда Сергей Сергеевич устремил свои стопы, ему предстояло пережить немало счастливых, волнующих моментов. После долгой разлуки он, наконец, встретился в Париже с любимой матерью. Подчеркнем еще раз: композитора очень заботила судьба оставшейся на Кавказе матери. Из открытки, помеченной 1919 годом и адресованной его приятельнице, жившей в Нью-Йорке, Фатьме Самойленко, мы узнаем, что Мария Григорьевна в Ессентуках, по-видимому не в нужде. Но ее одолевает плохое состояние здоровья и подавленное настроение. Вскоре, к счастью, Марии Григорьевне, больной, полуслепой, удается выехать через Константинополь и Марсель в Париж, чтобы наконец-то соединиться с сыном. Он и дальше продолжает трогательно заботиться о ней и просит перебравшуюся в Париж Самойленко навещать мать в его отсутствие.
В Париже возобновляются переговоры Прокофьева с Дягилевым о постановке балета «Шут». Композитор в который раз проявляет свои бойцовские качества, борясь за признание. А может быть, скорее это проявление чувства собственного достоинства, которое ни при каких обстоятельствах не изменяло ему. Как уж он зависел от Дягилева, был связан, что называется, по рукам и ногам обязательствами перед ним. Но позиции свои старался отстоять всегда: «…Я вынес впечатление, что разбирая мою “Сказку про Шута”, ни Вы, ни никто так ничего в ней и не разобрали. Это очень стыдно, но я думаю, что это вполне возможно, так как в свое время Вы бессовестно отмахнулись от музыки Алы и Лоллия… Какие Ваши планы и какова судьба моего бедного Шута, так предательски похороненного в коварных складках Вашего портфеля?» (15; с. 271). Настырность Прокофьева и нюх Дягилева, объединившись, победили. Пришло время сенсационных успехов музыки русского завоевателя Запада… Возникло даже соперничество между двумя ее пропагандистами – дирижером Сергеем Кусевицким, который к тому времени по-настоящему признал талант Прокофьева и желал сыграть в концерте «Скифскую сюиту», и Дягилевым, претендующим первым представить композитора публике постановкой «Шута». Первенство досталось Кусевицкому, и он рассчитал правильно. «Невозможно сопротивляться такому соединению мастерства и свежести», – писала парижская газета (7; с. 197).
Любопытен отзыв Сергея Васильевича Рахманинова, который, несмотря на, скорее, несочувственное отношение к Прокофьеву вообще (вероятно, младший Сергей ревновал свой любимый инструмент к блестящему пианисту Рахманинову. Да и творчество друг друга они не одобряли), «Скифскую сюиту» воспринял с энтузиазмом: «При всем музыкальном озорстве, при всей новаторской какофонии, это все же (должен признаться) талантливо. Мало у кого такой стальной ритм, такой стихийный волевой напор, такая дерзкая яркость замысла» (7; с. 197).
Прокофьев отметил свое 30-летие: «Я не слишком изменился, однако потерял несколько волос, один зуб (хлопнувшись с велосипеда) и сделался более злым, – признавался он российским друзьям в возобновившейся переписке. В другом письме самохарактеристика хуже: «Я за это время облысел, надел очки и выгляжу лет на 45» (7; с. 196).
Если он внешне, естественно, как-то менялся, то доминантные черты личности оставались неизменными. В том числе – феноменальное умение работать. Сведения о том, как Прокофьев работал, захватывают. Он трудился одинаково интенсивно везде, где бы то ни было: в купе поезда или каюте парохода, в больничной палате или на лесной поляне, в любом настроении и даже тогда, когда рядом не было ни рояля, ни письменного стола. Он записывал пришедшие в голову музыкальные мысли на клочке бумаги, коробке от папирос, использованном конверте, если не было под рукой заветной записной книжки. А уж сколько у него было корректуры, редакций, оркестровок – лучшим отдыхом композитор считал правильную смену занятий.
Между тем очередной дягилевский сезон 17 мая 1921 года открылся премьерой прокофьевского «Шута», одноактного балета из шести картин. Историю о том, как смекалистый Шут одурачил семь других жадных и спесивых шутов с их глупыми чадами, разыграна в балете как балаганное представление, как русский лубок. Прокофьев резко обострил, густо «посолил» и «поперчил» мелодии, близкие русским народным, – шуточно-плясовые, хороводные, лирические, сопроводив их причудливыми характерными оркестровыми жестами, проявив здесь громадный талант театральной изобразительности – одно из важных свойств его музыкально-сценического дара. Если декорации и костюмы знаменитого Михаила Ларионова, экзотически-лубочные, сверхцветистые, тот же Дягилев встретил с энтузиазмом, хореография художника оказалась слабой, что ожидалось: Ларионов занялся не своим делом, он лишь спасал положение в связи с отсутствием в данный момент балетмейстера. До чего дошло дело – в прославленной антрепризе знаменитого балетомана не оказалось хореографа, из-за эстетических и человеческих разногласий с Дягилевым ее только что покинул балетмейстер Леонид Мясин.
Но музыку приняли на ура. «Открытие Прокофьева» – гласил заголовок одной из газет, и этим все было сказано. Правда, позже показ в Лондоне и впоследствии постановка в Бельгии не обошлись без скандалов. Все же такая свежая музыка требовала от публики и способности к свежему восприятию.
Наряду с другим дерзким русским, композитором Стравинским, Прокофьев здесь показал себя исключительным выдумщиком в обращении с фольклором. Но со своими остроумными забавами он выступал тем не менее продолжателем традиций, в частности вспоминались комически-назидательные персонажи «Сказки о царе Салтане» или сатирические аллегории «Золотого петушка» Римского-Корсакова. Учитель, пусть и через подсознание, влиял на ученика.
В 20-е же годы опера «Любовь к трем апельсинам» увидела свет рампы в Германии – сначала в Кельне, потом в Берлине. Первой постановкой Прокофьев остался очень доволен: «В общем рейнцы отличились и поставили здорово, и дирижер, и режиссер работали с большой любовью и очень талантливо. Публика принимала хорошо, но еще лучше пресса…» (7; с. 266–267).
Линия же Прокофьева лирического, где проявляла себя за слоем прагматизма и деловитости тонкая ранимая душа композитора, после «Сказок старой бабушки», вокальной миниатюры «Гадкий утенок» воскресла и расцвела в Третьем фортепианном концерте. Этот концерт стал на все времена одним из самых репертуарных в творчестве Прокофьева. Если, как он сам признавался, в лирике ему долгое время отказывали и она, непоощренная, развивалась медленно, то в Третьем концерте этот благоуханный цветок прокофьевского творчества распустился в полную силу. «Гадкий утенок» превратился в Лебедя.
Три части сочинения построены на сопоставлении элегической русской распевности и энергичного, влекущего вперед стремительного движения. Произведение воспринято и сразу получило признание – сначала при первом исполнении в Чикаго в авторской трактовке, затем во Франции, Польше и других европейских городах. Не обошлось и без курьезов: «левая» критика осудила Прокофьева за самое оригинальное и свежее в сочинении: «В Париже меня довольно настойчиво глодали за дешевый лиризм, а по выражению иных, за пошлятину, одним словом, за рахманиновщину…» (7; с. 211).
Парадоксальная натура композитора – человека чрезвычайно живого – складывалась из противоречий, что, конечно, отражалось и в музыке: ясность, гармоничность соседствовали с чрезмерным максимализмом, уверенность в себе с колючестью, оживленность, возбуждаемость – с привычками подразнить, острословием, серьезность – с балагурством, озорством. Но все это причудливым образом опиралось на человечность – умение по-настоящему глубоко дружить, преданную заботу (как только стало возможным) о пропаганде произведений коллег-соотечественников, способность слышать «чужую» музыку, даже не близкую себе, помощь в разные годы нуждающимся людям деньгами и продуктовыми посылками, хлопоты за репрессированного родственника, что всегда было опасно для собственного положения. Такая нравственная основа в какой-то степени объясняет, если такое свойство вообще поддается объяснению, откуда возник у подобного художника – эгоцентрика столь целомудренный, сильный и самобытный лирический пласт.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!