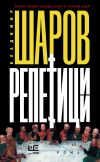Текст книги "Сад"
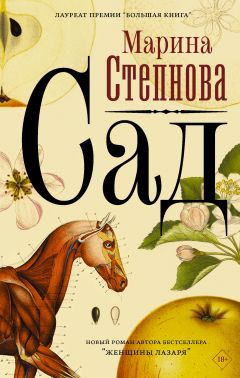
Автор книги: Марина Степнова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
А мой-то постреленок, ишь, сукой меня уже назвал, – хвастались между собой молодые деревенские мамки.
И только Туся молчала.
Тогда Мейзель начал говорить сам – беспрестанно, безостановочно, мешая подслушанные крестьянские ладушки-ладушки с рассуждениями об организации здравоохранения и рассказами о собственном детстве, которое он, если честно, мало помнил и потому поэтизировал и любил, как можно любить только вымышленное, а не по-настоящему пережитое. Он называл и описывал всё подряд – устройство Вселенной, медведиков, нарисованных на изголовье детской кроватки, и присевшую на этих медведиков муху (смотри, это Musca domestica – вид короткоусых двукрылых из семейства настоящие мухи). Он мешал краски и звуки, пересказывал подзабытые мифы и объяснял природные явления, не пытаясь сочинять (сочинять он попросту не умел) и даже не особо приспосабливаясь к возрасту своей слушательницы. Мейзель просто будто наново создавал для Туси мир – и мир этот, сработанный ясно и справедливо, радостно пахнущий свежей стружкой и еще не просохшим клеем, нравился ему самому.
Устав рассказывать и вспоминать, Мейзель садился на пол, обложившись медицинскими томами и книжками ежемесячных журналов – ничего другого он, в сущности, не читал. Туся усаживалась напротив и с любопытством смотрела, как ползает по строчкам пятнистый йодистый палец. Увлекшись, Мейзель отчеркивал особо интересные места ногтем, загибал страницы, спорил с авторами, ссорился, рассуждал, мешал немецкий, русский и латынь, потом вдруг хватал “Отечественные записки” – нет, ты только послушай, что он пишет! – и зачитывал Тусе, двухлетней, хорошенькой, круглоглазой, “Письма из деревни” Энгельгардта, о которых тогда говорили буквально все. Каждой следующей журнальной книжки ждали как слова Господня. Мейзель Энгельгардта не выносил. Не его самого, конечно, – а вот этой его веры в крестьян, в их способность к совместной деятельности. Ты подумай только – совместная деятельность! Да что он знает о крестьянах, чучело кабинетное! Звери сплошь, гоминиды первобытные! Быка спьяну ободрать заживо да на кольях схватиться – вот на это их совместной деятельности только и достает.
Туся слушала внимательно, живо, не перебивая, как не слушал Мейзеля в его жизни никто и никогда. Смотрела ясными, умными глазами, иногда тянулась к заинтересовавшей ее картинке (особенно она любила случайно приблудившуюся к постельной библиотечке Мейзеля “Ниву”), иногда хмурилась – и Мейзель, для приличия поворчав, соглашался, что, пожалуй, действительно дал маху и не так уж глуп его оппонент, утверждающий, что при вскрытии расширение сердца легко перепутать с частной аневризмою.
Помнится, был у меня, любезная Наталья Владимировна, в практике такой случай… Нет-нет, а вот есть мы станем за столом и непременно подвяжем салфетку, цивилизованный человек должен быть опрятен во всем. – Мейзель набирал полную ложку молочной каши, краешком снимал лишнее с Тусиных губ, не замечая, что сам разевает рот и старательно жует вместе с ней. – Так вот, был в моей практике случай, прекрасно характеризующий природу человеческой глупости…
Туся, проглотив кашу, кивала совершенно серьезно – и хотела дальше. Каши. Продолжения. Еще. Ей было интересно – Мейзель не сомневался. Лучшего собеседника у него не было. Лучшего собеседника и лучшего друга. Прежде, до Туси, ему вообще не с кем было поговорить.
К вечеру оба уставали – от разговоров, ежедневных длинных прогулок, от упражнений, – физическое развитие Мейзель, приверженец Локка, ценил так же высоко, как и развитие ума, – просто от бесконечного и сильного движения воздуха и света, так что Туся, растрепанная, сонная, едва стояла в тазу, пока Мейзель обмывал ей ножки ледяной колодезной водой – процедура неотменяемая в любое время года, ибо только привычка закаляет тело и делает его более выносливым к холоду.
Локк, снова Локк!
Вода из кувшина лилась тоненько и звонко, будто пела, и Туся чуть покачивалась, упираясь щекой в сюртучную пуговицу Мейзеля. Приваливалась доверчиво – как котенок, как самый обыкновенный звериный детеныш. Княгиня, пришедшая пожелать дочери спокойной ночи, стояла в дверях, мучаясь от ревности и счастья. Туся жмурилась на слипающуюся свечу, зевала, показывая розовое, ребристое, тоже очень кошачье нёбо. Мейзель сам, на руках, относил ее в постель. Терпел, сколько мог, Борятинскую, еле слышно бормотавшую не то заклинания, не то молитвы, потом откашливался властно – вон-вон-вон, немедленно! И княгиня послушно уходила, поправив на девочке тоненькое муслиновое одеяльце. Мейзель, не дождавшись, пока закроется дверь, ревниво поправлял одеяло еще раз – как было прежде.
Присаживался на тяжело скрипнувший стул. Колени к вечеру мучило, тянуло, простреливая до поясницы. Местные бабы говорили – вся тела болит. Очень точно. Мейзель прикручивал лампу, с тихим хрустом открывал со вчера заложенный журнал. Бесслухий, он вместо колыбельных приладился читать Тусе статьи из старых книжек Военно-медицинского журнала за 1857 год. “Сифилитические язвы теперь менее часты или производят меньшие расстройства, нежели в прежнее время, – бормотал он монотонно, – вследствие, может быть, того, что введение в терапевтику йодистого потассия скорее останавливает ход третичных припадков”, – и Туся, поворочавшись, смыкала тяжелые ресницы, так и не дослушав описания фунгозных раковых язв.
Спала она отлично – тихо, спокойно, до утра.
Прекрасный, здоровый, крепкий ребенок.
Образец для всякой матери.
Мейзель, давно свыкшийся с бессонницей, как свыкаются с любым, самым тяжелым увечьем, подходил к окну и иной раз до рассвета почти стоял, глядя на сад, черный, будто жестяной, и такой же неподвижный. Сад всегда был темнее неба. Даже в самые беззвездные ночи. Но стоило выйти с лампой, как сад сразу светлел, а небо, наоборот, становилось бархатно-темным, даже не нарисованным, а наклеенным. Странные причуды оптики.
Сад Мейзель признавал, но не любил – единственный, пожалуй, во всей усадьбе. Сад был нужен Тусе – для развития, для игр. Сад давал тень и прохладу, яблоки для любимого Тусиного пирога и сливу для ее же примерного пищеварения. Сад катал их зимой на специально залитой горке, весной встряхивал в кулаке шумных, веселых скворцов. Но когда он вбегал вместе с Тусей в детскую сквозь огромное настенное зеркало и останавливался, растрепанный, хохочущий, ошеломленный, Мейзель сад ненавидел. Потому что сад – смеялся, а Туся – нет. В присутствии Мейзеля – никогда. Будто понимала, что ему тяжело. Не хотела пугать.
Даже улыбалась редко.
Сколько еще он будет жить с ней в одной детской, играя в затянувшееся счастливое младенчество? Еще год? Два? Сколько допустят приличия? А потом? Что будет дальше? Самая дальняя комната в усадьбе, крошечная, белая, безмолвная? Монастырь с уставом помягче, готовый за щедрую мзду приютить родовитую немую послушницу? Когда он умрет – останется одна. Совершенно одна. Не сможет даже сказать никому, если ее обидят. Оскорбят. Ударят.
Безъязыкая. Безграмотная. Беспомощная. Калека.
Мейзель шипел от резкой, ошеломляющей боли и тряс головой, как трясут невзначай ущемленным пальцем. Он не мог этого допустить. Не имел права. Впрочем, теперь он не имел права даже умереть. Никто из них не мог позволить себе такую роскошь – ни княгиня, ни даже князь. Но особенно – он сам, Григорий Иванович Мейзель. Чертов бездарный недоучка. Жалкий коновал. Никогда не любил людей, оказывается. Никого вообще не любил. Только обманывал сам себя. Изображал великое служение. Что толку, что он вытащил с того света сотни и тысячи чужих детей? Да он передушил бы их сейчас своими собственными руками – всех по очереди, ни секунды ни сожалея.
Лишь бы Туся заговорила.
Но она молчала.
К пяти Тусиным годам Мейзель исчерпал все средства – включая самые жалкие и дикие. Даже тайком ездил за сорок с гаком верст к известной травнице, пронырливой и дремучей старухе, – и тайком же, трясясь от унижения, давал Тусе с ложечки приготовленное бабкой гнусное пойло, и, что самое стыдное, верил, что это поможет, несмотря на то что, судя по запаху и вкусу, это был отвар самой обычной Matricāria chamomīlla, лупоглазой аптечной ромашки, надранной тут же, подле избы. Он попробовал, разумеется, сам. Прежде чем. Выпил залпом целый стакан – и не дождался даже поноса.
Мейзель не опустился до старцев и чудотворных икон только потому, что всю жизнь предпочитал беседовать с Богом лично – каждый вечер, коротко, по существу. Отчитывался, не оправдываясь, не прячась, не умаляя. Но и взамен требовал той же честной ясности, к которой привык сам. Уважения, в конце концов. И что же? Господь молчал, будто Туся, – упрямо, насупленно, тяжело. И тогда Мейзель перестал с ним разговаривать.
Просто вычеркнул Бога из своей жизни.
Пока 16 июля 1875 года Господь не вразумил его. Не явил ему свой насмешливый милосердный лик.
Всего на секунду.
Но Мейзель понял. Не сразу, конечно. Но понял.
Догадался.
С утра они играли в саду – в горелки, в жмурки. Мейзель будил Тусю в седьмом часу – раньше поднимались только слуги. Кто рано встает, дитя, тот всё успевает. Нет ничего страшнее для человека, чем праздность и уныние. В десять, шурша свежим полотняным подолом, в сад вышла только что вставшая Борятинская – узнать насчет завтрака. Туся подбежала, ткнулась носом в материну руку, унеслась в ягодник, и Мейзель (помилуйте, княгиня, какой завтрак? Обедать уже пора, а вы кофием интересуетесь) отвлекся на то, чтобы обсудить устройство купальни, которая уже не просто нужна, Надежда Александровна, – необходима. Второй год говорим, а всё ни с места. Битюг тут мелок, прикажите отгородить, поставить мостки. И пусть привезут чистого песку. Или хоть старый пересеют. Туся должна научиться плавать. Знаете, как говорили древние греки о никчемных людях?
Мейзель едва не произнес – они не умеют ни читать, ни плавать.
Вовремя поперхнулся.
Идиот.
Так что они говорили?
Борятинская крутанула парасольку цвета топленых сливок, солнце заглянуло сквозь кружево, быстрой веселой рябью пробежало по немолодому, тоже сливочно-бледному лицу. Щурится близоруко. Ищет глазами дочь.
Кто?
Древние греки.
Древние греки были давно, Надежда Александровна. Какой толк в том, что они говорили? А купальня нужна сегодня. Сейчас. И зимой – тоже. Ребенок должен быть как следует закален. Поэтому для холодного времени необходимо построить во флигеле полноценную писи́ну. Я пришлю все необходимые размеры. Могу и мастера сам найти, если прикажете. Потому что вы, простите за прямоту, набрали полный дом бездельных рукосуев. По́лку прибить некому.
Мейзель не закончил, отвернулся неучтиво, поспешил в ягодник, туда, где только что прыгали, следуя за Тусей, махровые верхушки крыжовенных кустов. Прыгали – и вдруг остановились. Нашла что-то, должно быть. Или накололась.
Нет. Слава богу – цела.
Туся выскочила навстречу, схватила его за руку, но тут же высвободила горячие пальцы, подбежала к дереву, показала в ствол, оглянулась любопытно. Темные волосы растрепались, налипли на круглый маленький лоб. Одну ленту потеряли, кажется, еще в цветнике. Вторая тоже вот-вот соскользнет.
Туся показала еще раз – требовательно, серьезно.
Мейзель подошел, наклонился, разглядывая тугую каплю, полупрозрачную, густо-коричневую.
А-а, вот что ты нашла. Это клей. Вишневый клей. В сущности, обыкновенная камедь. Скажи – ка-медь!
Туся молчала, не отводя от смоляного наплыва завороженного взгляда.
Как она смотрит чудно́ все-таки. Будто слепая. Это от того, что глаза очень светлые, материны – даже не голубые, просто бледные. Как венка на запястье. Странные глаза – слава богу, хоть видит прекрасно. Довольно с него и того, что не говорит. А ресницы черные, густые. И такие же густые, темные волосы, совсем не детские – женские. Непокорные. И княгиня, и Танюшка перепробовали всё, пытаясь убрать эти взрослые, пружинящие кудри сообразно Тусиному возрасту и положению. Маленькая княжна должна была носить локоны. Туся не желала категорически. Сражалась, как лев. В конце концов ее ежеутренние негодующие вопли надоели Мейзелю, и он сам научился заплетать Тусе косы. Кое-как прихватывал скользкими лентами. Ему было можно. Она разрешала.
Вообще, похожа была на него. Очень. Удивительно. Крепкая, смуглая, ртутно-быстрая. Живая. Совершенно его дочь.
Окажите любезность, Наталья Владимировна, составьте мне компанию. Я предлагаю совершить дальнюю прогулку. – Туся кивнула согласно. – Тогда пожалуйте головной убор. – Туся кивнула еще раз, и Мейзель низко, по-крестьянски повязал ее белым платочком. Мейзель хорошо знал, на что способно здешнее солнце. Слишком хорошо.
К полудню они ушли версты за три – в поля, далеко, по привычной дуге обойдя село. Туся то резво бежала впереди, пыля твердыми босыми пяточками, то нырком бросалась в пшеницу, чтобы добыть какую-нибудь забаву – изуродованный спорыньей колос, облетевшую маковую погремушку или взъерошенную гусеницу репейницы. Ближе к часу Мейзель заставил ее обуться в маленькие, специально для нее шитые кожаные башмачки на мягкой и легкой подошве – на манер индейских мокасин. Он самолично привез лучшему в Боброве сапожнику картинку из Фенимора Купера и убедился, что болван понял, что от него требуется. Болван понял. Башмачки удались на славу, в таких можно и десять верст отмахать. Туся покапризничала для порядку, отвергая обувь, но Мейзель умел настоять на своем. Вот и обулись. Туся фыркнула недовольно, снова убежала в пшеницу. Надеялась, должно быть, на знакомство с ежом. Ей нравились ежи. Один жил подле барского дома, но в руки не давался. Дичился. Хотя молоко из плошки выхлебывал исправно.
Пусть себе носится. Проголодается как следует, будет есть с аппетитом. Как ежик.
Мейзель расстелил под просторным дубом салфетку, достал хлеб, пирожки, парниковые, на один хрусткий укус огурчики, холодную телятину. Облупил яичко, потом еще одно, разрезал, радуясь оранжевому желтку. Надо было квасу захватить. Забыл, дурак. Ну ничего, скоро колодец будет – там напою. Мейзель надломил пирожок, понюхал придирчиво начинку и вдруг забурчал постыдно пустым животом. Он понюхал пирожок еще раз – пахло капустой, перцем, зеленым луком, самой сердцевиной лета – и подумал вдруг: как, должно быть, страшно, когда твоему ребенку нечего есть. Не сейчас, сию минуту. А вообще. Сегодня. Завтра. Всегда. И взять негде. Разве что от себя отрезать.
К февралю крестьяне голодали все. Баб и детей отправляли “в кусочки”. Ходить по домам, побираться фактически. Только молча. Входили, замотанные в тряпье, крестились, вздыхали. Ждали свой кусочек – в прямом смысле кусочек. Хлебный кубик – в пару-тройку вершков. Хозяйка нарезала такие заранее – если было что нарезать. Но нарезала – часто от последней краюхи. Потому что знала – завтра сама может в кусочки пойти. Чертов Энгельгардт тоже об этом писал. Не писал только, сколько детей помирало к весне от голода, распухших, отечных. Потому что, чтоб досыта наесться, сто дворов обойти надо. А ста нету. Всего десятка три. И в каждом – сами от голода пухнут. Я бы не пошел в кусочки, нет. Сразу – грабить. Убивать. Что угодно. Но Туся не осталась бы голодной. Никогда. Я бы точно не допустил.
Мейзель поправил салфетку, чтобы унять задергавшиеся руки. Он тоже готовил для голодных хлеб, да не кусочками, выкладывал в холодные сенцы целые ломти – но помногу у него не брали. Стеснялись. Или брезговали. Он не знал. К нему и не ходили почти. Таскались без толку друг к другу да к господам. Как он орал, помнится, на повара Борятинских, который по недомыслию погнал кусочников с кухни. Тусе года не было еще. Бедный француз чуть не помер с перепугу, едва от места не отказался. Теперь исправно запасает кусочки заранее, с осени, – подсушивает в печи, румянит, самолично разбирает по холщовым мешочкам. Сдобные сухари отдает исключительно детям. Tiens, prends ça, mon pauvre petit![24]24
Вот, возьми, несчастный малыш! (фр.)
[Закрыть] Сердобольный оказался, даром что француз.
Над ухом всхрапнуло страшно, дохнуло живым жаром, и Мейзель дернулся, едва не упал, будто необстрелянный солдат. Но это оказалась тройка, глянцевитая от пота, бесшумно по мягкой дороге подкатившая из ниоткуда. Болтался под дугой подвязанный за язык колокольчик. Тоже немой. Купчик, молодой, косоглазый, ражий, свесился с облучка, проорал что-то просительно сквозь плотным столбом вставшую пыль.
Что? Не слышу.
Где тут, милсдарь, поворот на Хрено́вое?
Через три версты, – машинально ответил Мейзель. – У горелой осины сразу направо. Увидите. Только не Хрено́вое, а Хреново́е.
Он искал глазами Тусю, которая с головой скрылась в усатых стрекочущих колосьях. Куда она подевалась? Есть давно пора.
Да хоть Хуево́е, – покладисто согласился купчик, – мне б дорогу найти, а то десять верст скачу – то туда, то сюда, чисто леший кружит, сам упрел, лошадки пить хочут…
Он еще говорил что-то, тарахтел рассыпчато, дробно, будто горох в погремушке, но Мейзель не слушал, потому что в пшенице шурхнуло – и невидимая Туся засмеялась.
Господи.
Она засмеялась!
Мейзель едва разлепил сразу пересохший рот – позвать, окликнуть, но Туся уже вышла сама, сжимая в кулаке пучок васильков – таких же сухих и колких, как и все вокруг, из-под платка посмотрела на купчика веселыми прозрачными глазами и засмеялась еще раз – звонко, коротко, ясно.
Совершенно как человек.
Мейзель подхватил ее на руки, прижал к себе судорожно, все еще не веря.
Засмеялась.
Красивая дочка у вас, милсдарь, – от души позавидовал купец. – И на вас похожа – одно лицо. И захочешь – не откажешься.
Он плел еще что-то – про свою-то, которая как наладилась кажный год рожать сыновей, а от сыновей какое на старости лет утешение, про направо, значица, через три версты, а я-то, садовая голова, всё воротил налево, и еще про скобяные отчего-то товары, – а потом вовсе уехал в свое обетованное Хреново́е. Превратился сперва в блоху, потом в точку на стыке двух желтых, шуршащих, мреющих пшеничных линий, и даже пыль, которую тройка воздела к небу, осела, и всё жужжало, переливалось через край, дрожа и сияя, а Мейзель так и стоял, улыбаясь, как остолоп, и прижимая к себе Тусю, и только когда она, соскучившись, легла головой ему на плечо, понял, что плачет.
Она засмеялась.

Он не накормил ее даже, так и бросил полуденный перекус под дубом. Салфетку, припасы. Всё. И с рук так и не спустил – на себе донес назад, до усадьбы, как нес когда-то ее мать. И ее саму, внутри. Тусю. Невидимую. Но живую. Живую. Туся сперва возмущалась, брыкала толстыми ножками, колотила его по плечам, по голове, поревела даже. А потом просто заснула – от усталости и обиды, а Мейзель шел, почти бежал, торопясь рассказать княгине, всем, и больше всего боялся, что умрет от жары прямо посреди дороги – и никто так и не узнает явленного чуда.
Господь услышал. Сподобил. Природа взяла свое. Неважно – как. Неизвестно – почему. Но Туся засмеялась. Значит, теперь заговорит. Непременно заговорит.
Туся проснулась неподалеку от дома. Еще раз попыталась вырваться, и Мейзель отпустил ее наконец. Поставил на дорожку. Поправил съехавший платок. Пальцами вытер со щек грязные дорожки. На мгновение прижался губами к макушке, нагретой, полотняной.
Пахло солнцем, птичьими гнездами. Васильками. Ребенком. Единственным на свете. Родным.
Он взял Тусю за руку и повел мимо конюшни к дому. Из открытой двери ударило вкусным жаром: свежим навозом, соломой, пропитанной едкой мочой, нагретым за день цветочным сеном. Тяжело гудели полоумные летние мухи и вполголоса пел что-то такое же басовитое, унылое кудрявый конюх Андрей, мерно шурхая невидимым скребком.
Зацвятало сине море, ой, да зацвятало сине море алыми цветами…
Какая-то лошадь взвизгнула – должно быть, от боли, – стукнула копытом, и Андрей, охнув, замолчал, а потом невнятно, сквозь зубы, сказал – ах ты, блядина лютая! – и, не удовлетворившись, обложил сверху по матери – посложнее, с подворотом. Мейзель поморщился, но Туся остановилась, отобрала у него руку – и засмеялась снова.
И только в этот момент все своды в голове Мейзеля наконец сошлись.
Наутро на конюшне для Туси выделили угол – постелили ковер, обложили вокруг свежим сеном. Мейзель самолично поговорил с конюхами, велел, чтобы всё как обычно, как всегда, княжне необходимо дышать навозом, это хорошо для легких, да чего вы за шапки хватаетесь, я же сказал – всё как всегда. К лошадям не допускайте только. Потопчут – я вас своими руками поувечу.
Он внес Тусю в конюшню. Опустил на ковер, высыпал горсть деревянных чурбачков, проверил, не колет ли сено. Не кололо. Туся озиралась любопытно, и глаза у нее в душистой полутьме блестели совсем по-звериному. Мейзель поцеловал ее в лоб. Вышел. Присел у входа в конюшню, откинулся к стене. Никуда не торопясь, с наслаждением закурил.
В конюшне стояла оглушительная, непривычная тишина. Даже лошади боялись шелохнуться. Туся, соскучившись, быстро заснула, и Мейзель унес ее, сокрушаясь, что снова ошибся. И сам себя успокаивал – нет. Одного раза мало и для статистики, и для эксперимента. Мы будем повторять, слышишь? Повторять и повторять. Пока у нас не получится.
Лошади привыкли к Тусе на третий день. Конюхи – на четвертый. Андрей снова завел свое сине море с алыми цветами, потом обложил хуями старую капризную матку, не желавшую идти на перековку, мимоходом шуганул по матушке прилетевших поживиться навозом воробьев.
Конюшня наполнилась привычным, плотным, живым шумом.
Про Тусю все забыли. Перестали замечать.
Она заговорила через две недели.
Первым в жизни словом урожденной княжны Натальи Владимировны Борятинской стало слово “залупа”.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?