Текст книги "Дневник"
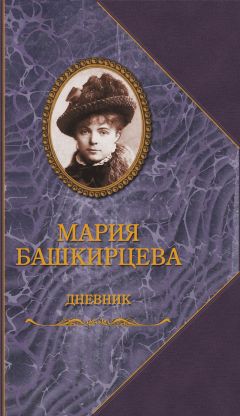
Автор книги: Мария Башкирцева
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Это легко будет проверить.
– А характер этого человека, madame?
– Он? Он мрачен, тщеславен, но он вас любит.
Я вышла ошеломленная. Как только я очутилась в карете, я стала рассказывать об этом странном предсказании, так сходном с двумя прежними.
Возможно ли, чтобы все трое только случайно предсказывали одно и то же! Француженки вернулись домой. Мы с тетей поехали в лес. В присутствии дам я шутила, позировала и хвастливо говорила: «Все равно, mesdames, я не в ладах с великим кардиналом, и к тому же предмет нашей ссоры – политика»!
Все это я говорила при них… Но оставшись одна с тетей, я не говорила больше ни слова. Я с ужасом смотрела на предстоящее путешествие. Вражда кардинала, любовь, Пьетро…
Мне казалось, что я люблю его, что я скажу ему столько нежных слов… Я почти плакала от невозможности сделать это сейчас же…
Я была огорчена, но все же меня занимала и доставляла удовольствие мысль, что я занята такими серьезными делами…
Мои француженки были вечером у нас. Снова говорили о Монгрюэле, об ясновидящем Алексее, о Моро.
Я не верю. И все же это чрезвычайно странно…
Из-за этого несносного Пьетро я забыла самую интересную часть предсказания модного ясновидящего Алексея, к которому я вчера ездила. Я расспрашивала его, конечно, о том, что меня больше всего занимает. Наш разговор заслуживает особого внимания. Еще не называя кардинала, он мне сказал:
– Я уже вам говорил, что нужно очень и очень многое для того, чтобы его избрали папой… Есть еще один кандидат, ему покровительствует… итальянский король. О, этот итальянец силен, сильнее его… он непременно сделается папой, разве уже произойдет что-либо необычайное или же он сам откажется. Француз стушевывается… О, я вижу – только они вдвоем являются серьезными претендентами на папский престол. Наименее шансов на успех имеет тот, чья карточка у меня в руках. О да, итальянский король не хочет, чтобы его выбрали. Мне даже кажется, что это его враг… Король выдвигает другого…
Тут я потребовала, чтобы Алексей попытался узнать имя этого человека. Ведь, наверное, вокруг этого имени найдется что-нибудь такое, что поможет ему отгадать его. И он действительно назвал его. Мне это кажется вполне естественным, потому что все, что он прозревал вокруг этого человека, навело его на мысль об его имени.
Все сегодняшнее утро я только о том и думала, чтобы снова побывать у него. В 2 часа дня мы поехали к нему вдвоем, только с тетей. Сначала я обратилась к нему с вопросами о своем здоровье. Алексей отлично объяснил мою болезнь – ту боль в горле, о которой я говорила доктору Валицкому. Я взяла у врача, усыпившего его, рецепт, попросив его оставить нас наедине.
Тетю я тоже заставила выйти, и мы с Алексеем остались в комнате вдвоем.
– Я снова здесь, – сказала я, взяв его за руку. – Вчера мне помешали внимательно вас выслушать.
– Ах, да, – улыбнулся он, – вас вчера порядком подразнили.
– Не сможете ли вы мне сказать, что делала с прошлого понедельника та особа, о которой мы с вами говорили?
– Хорошо, скажу вам, только дайте мне то же письмо, что и вчера…
– Извольте!..
Лицо Алексея приняло странное и страшное выражение, которое делало его похожим на выходца с того света. Взоры его как будто проникали далеко, далеко – за пределы этого мира.
– Позвольте… Жизнь этого молодого человека чрезвычайно сложна. Он разбрасывается во все стороны… Он хватается за все. Я сказал бы, что он ведет какое-то двойное существование.
– Как так, двойное существование?
– День он проводит среди священников и монахов, а ночь – среди светских людей. Сам он не священник.
– Что он делает во вторник и в среду?
– Судя по его простому серому костюму, он, несомненно, ездил за город. Он в Риме.
– Получил ли он письма?
– О, да, он получил много писем и, между прочим, одно от вас.
– Каково же содержание этого письма?
– Вы пишете ему о какой-то перемене места, требуете его приезда сюда. Но он не может этого сделать, его семья удерживает его от этого… Кроме того, его останавливает еще много других препятствий. Не будь этого – он давно был бы здесь… Но я вижу, он скоро приедет во Францию… Погодите… Это письмо подписано… Странно, это не фамилия… Это не полное имя… Погодите… Мне трудно разглядеть, я утомляюсь, это…
– Что?
– Это… Здесь два слова… Нет, только одно и за ним следует имя, не вполне законченное, очень короткое… Тут только две буквы. О, да! Наверное!..
Неправда ли, какое странное ясновидение!..
– Прочтите письмо.
– Я не могу… Вы требуете от меня почти невозможного.
– Скажите же, когда и где получилось это письмо?
– Оно прибыло не по почте и побывало у двух лиц прежде, чем дошло по назначению… Я вижу, оно получилось в богатом доме, похожем на дворец… На папский дворец – это, должно быть, Ватикан…
– Смотрите, не ошибайтесь.
– Я плохо вижу сегодня, вы утомляете меня. Бывают у меня хорошие, счастливые минуты, когда все само собою предстает передо мной ярко, и тогда я могу говорить… Но вы вынуждаете меня разбрасываться… Вы думаете сразу о слишком многих вещах…
– Ну, пожалуйста, я постараюсь быть спокойной. Глядите!
– Я ведь говорю вам, что дворец. Я вижу знамя… Я вижу военных у дверей…
– Много их?
– Да, много.
– Случайно они там очутились?..
– Двое из них находятся там всегда, другие зашли только мимоходом.
– Что же делается в самом дворце?
– Там много молодых людей…
Он, вероятно, видит клуб.
– Как они одеты?
– Позвольте… На них одежда духовных лиц… Да, так мне кажется…
– Этого не может быть. Смотрите лучше.
– Повторяю вам, что это трудно. Мне уже давно следовало бы отдохнуть; вы утомляете меня… Помимо того…
– Посмотрите еще, кто получил это письмо? – спросила я.
Я уже поняла, что он видит телеграфную станцию в Риме, но не могла понять, при чем тут духовные лица.
– Это письмо получила женщина. Она отдала его какому-то мужчине. А тот уже передал письмо ему.
– Так он его, значит, получил?
– О, да, наверное.
– Что же он сделал?
– Он в ту же минуту вышел… Его смутило содержание вашего письма; вы делаете намеки… только намеки на этот брак…
– Где он в данную минуту? Видите вы его?
– Я вижу, он в комнате… И не один.
– Скажите, что он делал два-три дня тому назад?
– Я ведь вам сказал: он был с матерью у кардинала.
– Хорошо. Посмотрите же теперь, – что он делает?
– Он сидит в комнате с молодым человеком лет девятнадцати-двадцати. Это юноша со светлыми, очень коротко остриженными волосами. Они говорят по-итальянски.
– Мое письмо у него?
– Да, у него, здесь! – И он указал на левый карман своего сюртука.
– И он не думает приехать сюда?
– Напротив, он хочет это сделать, но не может. Будь у него возможность, он был бы уже здесь.
– Где он?
– Странно… Он в монастыре, да, в монастыре.
– Что это за монастырь?
– Он находится подле… постойте… подле каких-то сводов. Какие они великолепные!..
– Это развалины?
– О, нет, это цельные большие своды, и там много…
– Чего?
– Там много статуй… и…
Я узнала сен-тьерские своды и статуи. А я думала, что ясновидящий увидит Колизей.
– И?.. Кончайте же, – сказала я.
– И гробниц, – сказал он с таким видом, как будто все ближе и ближе всматривался в них. – Там древние гробницы, развалины… Куски мрамора… и еще статуи… Все это удивительно красиво и великолепно!.. Удивительно…
Он, очевидно, видел Ватикан.
– Как одеты монахи этого монастыря?
– На них белая одежда.
– И только?
– На груди красный крест и чьи-то инициалы.
– Чьи?
– Я не знаю.
– Нет, вы знаете.
– Ах, это нехорошо… Мы поступаем очень дурно!..
И, несмотря на все мои просьбы, он ничего больше не хотел сказать. Я расспрашивала его еще о многом, но каждый раз он повторял то же, что и вчера.
– Он богат? – спросила я, наконец.
– Конечно, это всем известно. Он даже гораздо богаче, чем предполагают.
– В чем заключаются его богатства?
– Погодите… У него много драгоценностей. С ним всегда маленький ящичек, полный бриллиантов. Там их на несколько миллионов. В этом его главное богатство.
– А деньги?..
– Он не держит у себя денег.
– Ну, что вы! Если их нет при нем, поищите их в другом месте.
– Он самый молодой в этом монастыре. Тем не менее все относятся к нему с большим уважением. Как странно – он не монах и все же находится в монастыре!
Несчастный Пьетро! Так он теперь у доминиканцев! Но, как бы там ни было, а раз он получил мою телеграмму, он должен был мне ответить. Это ужасно!
– О чем он думает?
– Все его думы сосредоточены на браке с вами. Но он хорошо видит, что для этого придется бороться со множеством препятствий. Это будет страшно трудно!.. Тут такая масса препятствий и со стороны национальности, религии…
Я попросила тетю войти и начала расспрашивать о кардинале.
– Это Антонелли, – сказал Алексей.
– Взгляните же, что он делает теперь.
– Я вижу он сидит у стола. Направо от него сидит его секретарь… Они оба заняты.
– Чем?
– Мы поступаем очень дурно. Кардинал был бы недоволен, если бы узнал о том, что мы тут делаем.
– Вы хорошо знаете, что у меня нет дурных намерений.
– Но тут слишком много любопытства. Это дурно… Очень дурно.
– Ну, если бы к вам пришел кардинал, он был бы еще любопытнее меня. Ну, пожалуйста, продолжайте.
– Он вечно занят мыслями о крупных деньгах, которые он отдал куда-то… Поместил куда-то… У себя он держит очень мало денег…
– Куда же он поместил свои деньги?
– Ну, нет, этого я вам не скажу. Такие вещи нас не касаются.
– Но я хочу это знать, говорите!
– Его денег нет в Риме. Они в Брюсселе… Большая часть их в Брюсселе.
Это меня удивило. Все говорили, что кардинал хранил свои деньги в Англии.
– А кроме того?
– В Вене, в Австрии.
– Сколько?
– Я не вижу, но их там больше, чем предполагают.
Я настойчиво требовала, чтобы он назвал точную цифру его денег, но он не хотел.
– Завещание он составил?
– Да, восемь лет тому назад.
Пьетро говорил мне об этом. Он сказал мне также, что с тех пор кардинал сильно изменил это завещание.
– Что же написано в этом завещании?
– Вы задаете мне нехорошие… непозволительные вопросы.
– Я пришла сюда с целью непременно узнать все это. Говорите!
– Я должен вам прежде всего сказать, что он сильно изменил завещание за эти восемь лет… Да, очень сильно…
– Но вы все-таки видите, что он рассчитывает сделать со своим состоянием? Как он его распределил?
– У кардинала ум глубокий и слишком скрытный, даже для меня. Я теряюсь… Я не могу точно определить… Да и нехорошо с нашей стороны насильно вторгаться в его тайны. Ведь вы отлично знаете, что он был бы очень недоволен, если бы знал, что мы тут делаем.
– Понятно. – Тем не менее я продолжала настаивать до тех пор, пока он наконец сказал:
– Я скажу вам только, что его состояние разделено… Постойте… Оно разделено на четыре части… Да, так, на четыре части… Две части крупные, другие две много меньше…
Он не хотел мне сказать, для кого предназначались первые. Ему, очевидно, ясно было, что они предназначались не для Пьетро. Что касается деления на четыре части, о котором он говорил, то это возможно, так как у кардинала четыре наследника: Августино, Доменико, Паоло и Пьетро.
С большим трудом удалось мне заставить его говорить. Он все твердил, что мы поступаем дурно, что мы не имеем права вмешиваться в такие интимные дела. Я все-таки заставила его сказать мне:
– Самую значительную долю состояния кардинала получит его племянница. Много денег получит от него еще графиня?..
Не ошибайтесь только, дорогие читатели: Алексей отгадывает не будущее, а завещание и мысли кардинала. Каждый раз он повторял, что не может видеть того, чего я от него добиваюсь, что это дурно, что я утомляю его и что он больше не в силах говорить.
– Я не Бог, – твердил он.
Тут я оставила его, и мы поехали к другой ясновидящей, madame Абель. Живет она по улице Жан-Жак Руссо, № 61. Никогда в жизни я не видела более ужасных, грязных квартир. Мы проходили через столярные и кузнечные мастерские, пробирались по разным дворам и лестницам. Наконец мы очутились в комнате, где две женщины заливались каким-то блаженным смехом юродивых; тут же сидел какой-то мрачный старик в черной бархатной шапочке.
Моим первым ощущением при виде их было ощущение страха: мне казалось, что меня убьют. Я даже подумывала о том, чтобы позвать на помощь столяра и кузнецов.
Когда мнимую ясновидящую загипнотизировали, я дала ей портрет.
Она спросила меня, где именно происходит действие, где живут эти люди:
– Но ведь мысленно я вас туда и направляю!
– Нет, нет, вы должны назвать местность, и тогда я сейчас же буду там… Я всегда так делаю…
– Ну, попытайтесь все-таки!
– Я на севере.
– Из чего вы это заключаете?
– Я чувствую это по воздуху той местности. Я вижу юношу… У него каштановые волосы…
Словом, она сказала мне, что кардинал любил меня, что теперь он меня больше не любит, что у него недавно было воспаление легких и что сейчас он находится взаперти.
– Где?
– Позвольте… Это не больница, это большой дом.
«Хорошо, – подумала я, – теперь пойдет лучше».
– Это… – продолжала женщина, – это… нечто вроде дома умалишенных.
Господи! Это Ватикан-то дом умалишенных!
– Скажите мне, что он делал в понедельник? – спросила я, смеясь. Алексей видел его в понедельник в собрании.
– В понедельник? Ага, в понедельник вечером ему удалось бежать! Но… его снова запрятали.
Бедный кардинал! Сумасшедший дом после такой блестящей карьеры!
С нас взяли 20 франков за этот прекрасный сеанс. Я не посмела возражать: я была счастлива, что выбралась оттуда живой и невредимой.
Мама прислала мне письмо от Л. и говорит, что считает его одним из моих наиболее преданных поклонников. Он жил в Ницце и бывал в тамошнем обществе. Несмотря на свою толщину, он остроумен и любит посплетничать. И если бы о нас действительно злословили, как я это предполагала, то он не был бы так любезен со мной теперь.
Помимо своей воли, стараясь найти извинение для Антонелли, я считала положение более серьезным, чем оно было на самом деле. Теперь я положу этому конец. Довольно снисходительности, довольно мягкости! Я не желаю брать на себя все ошибки. Я слишком долго носила повязку на глазах! Он недостаточно сильно любит меня. Впрочем, уже с самого начала его поведение говорило против него. Мне больше нечего сказать – разве только то, что я устала от этого вечно напряженного состояния. Меня уже утомили эти постоянные старания оправдывать его. А между тем его поведение всегда было странным, редко приличным, а часто даже оскорбительным! Я боялась, что мне трудно будет пережить эту низость, о которой знают все мои домашние, знает и тетя. Но я держу себя просто. Я говорю правду. Я говорю только то, что думаю, и нет тут никакой тягостной неловкости и натянутости. Я не прихожу в бешенство, потому что вообще хладнокровно смотрю на вещи.
Глубоко сожалею, что мои губы были осквернены его прикосновением. Бедные мои губы! Я снова утверждаю и буду постоянно утверждать то, что говорила на этот счет, когда в первый раз уезжала из Рима.
Если бы он даже вернулся ко мне теперь, я с презрением оттолкнула бы его. Мое терпение истощилось. Я имею право не прощать больше. Я не хочу, чтобы со мною играли в любовь.
Не думайте, пожалуйста, что это слова ясновидящего перевернули вверх дном все мои мысли. Я и без всяких ясновидящих отлично знаю, что он получил мою телеграмму. Да разве мог он не получить ее? Ведь уже целая неделя прошла с тех пор. Он получил ее, иначе быть не может!
Он не ответил. Впрочем, этого можно было ожидать – даже смешно было думать иначе. Разве с самого же начала трудно было предвидеть все это? Так вот она какова, любовь! Так вот как он явился бы мне на помощь, если бы я нуждалась в ней! Недурное доказательство «страсти», как он осмеливался называть свое чувство!
Допускаю, что он находился под моим влиянием, когда мы были вместе. И если бы он был племянником папы, я сумела бы воспользоваться этим влиянием, да и всякого рода влиянием, – я не пренебрегла бы тогда ничем, чтобы овладеть им.
Но для такого ничтожного господина я сделала и без того слишком много. Я забыла свою роль королевы и свое женское достоинство.
Итак, Пьетро Антонелли, пеняй на себя. Прощай.
22 июля
Я больше не думаю о Пьетро, он недостоин этого, и, слава Богу, я не люблю его.
До третьего дня я каждый вечер просила Бога, чтобы он сохранил мне его и дал возможность одержать победу. Я больше не молюсь об этом. Но Бог знает, как я желала бы отомстить, хотя и не смею просить на это Его помощи.
Месть, конечно, чувство не христианское, но оно благородно; предоставим мелким людям забвение оскорблений. Да, впрочем, это возможно только тогда, когда ничего другого не остается делать.
23 июля
Рим… Париж… Сцена, пение… живопись! Нет, нет. Прежде всего – Россия! Это самое главное. Итак, рассуждая благоразумно, будем благоразумны и на деле. Не позволим сбить нас с пути блуждающим огням воображения.
Прежде всего Россия! Только бы Бог помог мне!
Я написала маме. Я отделалась от любви и ушла по уши в дела. О, только бы Бог помог мне, и все пойдет хорошо.
Да будет моей заступницей Святая Дева Мария!
27 июля
Наконец вчера в 7 часов утра мы выехали из Парижа. Во время путешествия я занималась преподаванием истории Шоколаду, и этот разбойник благодаря этому уже имеет некоторое понятие о древних греках, о Риме во время царей, республики и наконец империи, и из истории Франции – начиная с «короля, которого свергли с престола». Я объяснила ему сущность различных теперешних историй, и Шоколад находится au courant всего; он даже знает, что такое депутат. Я ему все рассказала, а затем задавала ему вопросы.
Я спросила его, к какой партии примкнул бы он, и этот разбойник отвечал мне: «Я бонапартист!»
Вот как он рассказывает все то, чему я его научила: последним королем был Людовик XVI, который был очень добр, но республиканцы – люди, ищущие денег и почестей, казнили как его, так и жену его, Марию-Антуанетту, и учредили республику. Франция была в это время очень ничтожна; а на острове Корсике родился, между тем, человек, Наполеон Бонапарт, который был так умен и храбр, что его избрали сначала полковником, потом генералом. Он покорил весь мир, и французы очень любили его. Но отправляясь в поход на Россию, он забыл взять шубы для своих солдат, и они очень страдали от холода; русские же сожгли Москву. Тогда Наполеон, бывший в это время уже императором, возвратился во Францию. Но так как он был теперь несчастлив, то французы, которые любят только тех, кому сопутствует удача, больше не любили его, а все остальные государи, чтобы отомстить ему, принудили его сложить с себя власть. Тогда он отправился на остров Эльба, потом на сто дней возвратился было в Париж, но его опять заставили спасаться бегством. Увидев одно английское судно, он стал умолять его экипаж о спасении, но едва он взошел туда, его объявили пленником и отвезли на остров Св. Елены, где он и умер.
Уверяю вас, что Шоколад был во многом прав.
Наконец сегодня утром мы прибыли в Берлин. Город произвел на меня в общем впечатление приятное. Дома очень красивы.
Не могу написать сегодня ни слова толком: дорога ужасно утомляет.
«Два чувства свойственны натурам гордым и любящим: величайшая чуткость к мнению о них и величайшая горечь, когда мнение это несправедливо».
28 июля
Берлин напоминает мне Флоренцию… Позвольте – он напоминает мне Флоренцию, потому что я опять с тетей и веду тот же образ жизни.
Прежде всего мы осмотрели музей. Ничего подобного я не ожидала встретить в Пруссии – может быть, по невежеству, может быть, по предубеждению.
По обыкновению, статуи удержали меня всего дольше, и мне кажется, что я обладаю какой-то особенной, большей, чем у других людей, чуткостью в отношении понимания статуй.
В большой зале находится одна статуя, которую я приняла за Аталанту, вследствие пары сандалий, которые могли бы выражать здесь главную идею; но надпись гласит, что это Психея. Все равно, Психея или Аталанта, – это замечательная фигура по красоте и естественности.
Осмотрев греческие гипсы, мы прошли далее. Глаза и голова моя уже устали, и я узнала египетский отдел только по его сжатым и беглым линиям, напоминающим круги, произведенные на воде падением какого-нибудь предмета.
Ничего не может быть ужаснее, как быть где-нибудь с человеком, которому скучно то, что для вас интересно. Тетя скучала, торопилась, ворчала. Правда, что мы проходили там два часа!.. Что очень интересно, так это исторический музей: миниатюр, статуй, древних гравюр и миниатюрных портретов. Я обожаю это. Я обожаю эти портреты, и, глядя на них, фантазия моя совершает невероятные путешествия, создает различные приключения, драмы…
Но довольно…
Затем картины.
Мы достигли времени, предназначенного для крайнего усовершенствования живописи – идеала искусства. Начали с жестких линий, с красок слишком ярких, не сливающихся между собой, потом перешли к мягкости, доходящей до неясности очертаний. Полного подражания природе, вполне верного снимка с нее, – что бы там ни говорили и ни писали, – еще не было.
Закроем глаза на то, что было между самой примитивной и современной[9]9
Под современными я подразумеваю здесь Рафаэля, Тициана и других великих мастеров.
[Закрыть] манерой в живописи и сосредоточим на них все внимание.
Жесткость, ослепительные краски, резко проведенные линии – вот в чем состоит первая.
Мягкость, краски, настолько сплывающиеся между собой, что рисунок проигрывает в рельефности, какое-то избегание линий – вот вторая.
Теперь нужно было бы, так сказать, взять концом кисти слишком яркие краски древних картин и перенести их на безжизненные современные. Тогда будет совершенство.
Есть еще род живописи, еще совершенно новый, состоящий в том, что пишут картины «пятнами». Но это ужасно, хотя таким образом и достигается некоторый эффект.
В картинах новых мастеров значение обстановки – обыденных предметов, как то: мебели, домов, церквей, недостаточно оценено. Пренебрегают точностью в передаче обстановки и таким образом производят какую-то сбивчивость линий; слишком злоупотребляют ретушевкой (тогда как можно было бы пользоваться ею, не возводя этого в обыкновение); таким образом фигуры выделяются недостаточно резко и кажутся такими же мертвенными, как окружающие их предметы, которые сделаны не с достаточной точностью и кажутся как бы не вполне твердо стоящими и неподвижными. В таком случае, дитя мое, так как, по-видимому, ты так хорошо понимаешь, что нужно для совершенства… Не беспокойтесь, я буду работать и, что еще лучше, добьюсь в этом успеха!
Я возвратилась страшно усталая, купив себе тридцать два английских тома, отчасти переводы первоклассных немецких писателей.
«Как! И здесь уже библиотека!» – воскликнула тетя в ужасе.
Чем больше я читаю, тем больше чувствую потребность читать, и чем больше я учусь, тем больше открываются передо мной многие вещи, которые хотелось бы изучить. Я говорю это вовсе не из пустого подражания известному мудрецу древности. Я действительно испытываю то, что говорю.
И вот я в роли Фауста! Старинное немецкое бюро, перед которым я сижу, книги, тетради, свертки бумаги… Где же Мефистофель? Где Маргарита? Увы! Мефистофель всегда со мной: мое безумное тщеславие – вот мой дьявол, мой Мефистофель.
О, честолюбие, ничем не оправдываемое! Бесплодный порыв, бесплодное стремление к какой-то неизвестной цели!
Я ненавижу больше всего золотую середину. Мне нужна или жизнь… шумная, или абсолютное спокойствие.
Не знаю, отчего это зависит, но я чувствую, что совершенно не люблю А., не только не люблю его, но больше и не думаю о нем, и все это кажется мне каким-то сном.
Но Рим привлекает меня; я чувствую, что там только и буду в состоянии работать. Рим – шум и тишина, развлечения и тихие грезы, свет и тени. Позвольте… свет и тени… Это ясно: где свет, там и тени и… vice versa… Нет, но я смеюсь над собой, – серьезно! И, право, есть чего – только пожелай!.. Я хочу ехать в Рим, это единственное место, подходящее к моим наклонностям, единственное место, которое я люблю за него самого.
Берлинский музей прекрасен и богат, но обязан ли он этим Германии? Нет – Греции, Египту, Риму! После созерцания всей этой древности, я села в карету с глубоким отвращением к нашим искусствам, нашей архитектуре, нашим модам.
Я думаю, что если бы другие, выходя из такого рода мест, проанализировали свои чувства, то оказалось бы, что все думают так же. Впрочем, к чему желать быть во всем похожей на других!
Я не люблю немцев за их сухость и материализм, но нужно отдать им справедливость: они очень вежливы, очень предупредительны. И что мне в них особенно нравится, так это их уважение к государям и их истории. Это потому, что они еще не испорчены всеми прелестями республики.
Ничто не может сравниться с идеальной республикой. Но республика – как горностай: малейшее пятно убивает ее. А где вы найдете республику без единого пятна?
Нет, эта жизнь просто невозможна, это ужасная страна! Прекрасные дома, широкие улицы, но… но ничего для души и воображения. Самый маленький городишка Италии стоит Берлина.
Тетя спрашивает меня, сколько страниц я исписала. «Страниц сто, я думаю», – говорит она.
Действительно, может показаться, что я все время пишу; но нет. Я думаю, мечтаю, читаю, потом напишу два слова, и так целый день.
Удивительно, как хорошо я стала понимать благодетельные стороны республики с тех пор, как причислила себя к бонапартистам.
Нет, правда, республика – это единственный счастливый род правления, но только во Франции это невозможно.
Да и потом, французская республика выстроена на грязи и крови. Но… ну не будем больше думать о республике; вот уж неделя, как я об этом раздумываю; и что же, в сущности, разве Франция стала несчастней с тех пор, как она республика? Нет, напротив. Но тогда как же? А злоупотребления-то! Они повсюду.
Но довольно на этот вечер, другой раз, когда буду знать больше, поговорю об этом еще.
30 июля
Ничего не может быть печальнее этого Берлина! Город носит печать простоты, но простоты безобразной, неуклюжей. Все эти бесчисленные памятники, загромождающие улицы, мосты и сады скверно расположены и имеют какой-то глупый вид. Берлин похож на картинку в часах, где в известные моменты военные выходят из казармы, лодочники гребут, дамы в шляпках проходят, держа за руку безобразных детей.
Накануне момента, когда я приеду в Россию и останусь совсем одна, без мамы, без тети, я падаю духом и боюсь. Беспокойство, которое я причиняю тете, огорчает меня.
Все это дело, неизвестность исхода, все это… и потом, и потом, – я не знаю, право, но я боюсь, что ничего не изменю.
Мысль – начать по возвращении тот же самый образ жизни, и теперь уже без надежды на перемену, на эту «Россию», которая утешала меня во всем и подкрепляла мои силы… Боже мой! Сжалься надо мной, ты видишь состояние моей души, будь ко мне милостив.
Через два часа мы выезжаем из Берлина; завтра я буду в России. И нет же, нет, я не падаю духом, я сильна.
Только… Если я еду напрасно! Вот что ужасно. Но не следует отчаиваться заранее.
О! Если бы только кто-нибудь знал, что я испытываю!
31 июля
Вчера мы все – тетя, я, Шоколад и Амалия – прибыли на станцию в десять часов.
Я была довольно утомлена, но при виде купе, большого и удобного, как маленькая комнатка, совсем ободрилась, тем более что вагон был освещен газом, и мы могли быть уверены, что останемся одни. Мне очень хотелось, накануне предстоящей разлуки, поговорить с тетей; но я не бываю разговорчива, когда во мне преобладает какое-нибудь глубокое чувство, а тетя молчала, боясь огорчить или раздражить меня, если станет говорить со мной. Таким образом, волей-неволей, я погрузилась в «Светский брак» Октава Фелье. Вот благотворное чтение! Оно внушило мне самое глубокое отвращение ко всем этим гадостям… На этих рассуждениях я заснула, чтобы проснуться за три часа до границы, в Эйдкунене, куда мы приехали около четырех часов.
Местность здесь низменная, деревья густы и зелены, но листья, несмотря на свою свежесть и яркость, производят грустное впечатление после крупной и роскошной зелени юга.
Мы отправились в гостиницу, которая называется «Hotel de Russie», и поместились в двух маленьких комнатках с выбеленными известью потолками, с деревянными полами и с простой, светлой деревянной мебелью.
Благодаря моему дорожному несессеру я тотчас же устроила себе ванну и туалет и, поев яиц и напившись молока, поданного толстой и свежей немкой, я принимаюсь писать.
Я нахожу, что сама я имею известную прелесть в этой бедной маленькой комнатке, в моем белом пеньюаре, с моими красивыми, обнаженными руками, с моими золотистыми волосами.
Я только что посмотрела в окно. Бесконечность утомляет взор. Это полное отсутствие холмов, эта равнина представляется мне вершиной горы, которая возвышается над всею вселенной.
Шоколад очень тщеславный мальчик.
– Ты мой курьер, – сказал я ему, – ты должен говорить на нескольких языках.
Мальчик отвечал, что говорит по-французски, по-итальянски, по-ниццарски, немного по-русски и что он будет говорить по-немецки, если я соглашусь научить его.
Он пришел весь в слезах, сопровождаемый смехом Амалии, и стал жаловаться на то, что хозяин указал ему постель в той комнате, где уже поместился какой-то торгаш.
Я приняла серьезную мину и сделала вид, будто нахожу вполне естественным, что его поместили вместе с торгашом. Шоколад так плакал, что я начала смеяться и, чтобы его утешить, велела ему прочесть несколько страничек всемирной истории, купленной специально для него.
Этот негритенок забавляет меня – это живая игрушка: я даю ему уроки, учу его прислуживать, выслушиваю его капризы – словом, это моя собачка и моя кукла.
Мне положительно нравится жизнь в Эйдкунене; я занимаюсь воспитанием молодого Шоколада, который делает огромные успехи в нравственности и философии.
Сегодня вечером он отвечал мне Священную историю; дойдя до того места, где рассказывается о предательстве Иуды, он в трогательных словах передал мне рассказ о том, что Иуда продал Спасителя за тридцать сребреников и выдал его страже поцелуем.
– Шоколад, друг мой, – сказала я, – согласился ли бы ты продать меня врагам за тридцать франков?
– Нет, – отвечал он, опуская голову.
– А за шестьдесят?
– Также нет.
– А за сто двадцать?
– Тоже нет.
– Ну, а за тысячу франков? – продолжала я допрашивать.
– Нет, нет, – отвечал Шоколад, теребя край стола своими обезьяньими пальцами, не поднимая глаз и шевеля ногами.
– Ну, Шоколад, а если бы тебе дали десять тысяч? – ласково настаивала я.
– Тоже нет.
– Славный мальчик! Но если бы тебе предложили сто тысяч франков? – спросила я для успокоения совести.
– Нет, – сказал Шоколад, и голос его перешел в шепот, – я взял бы больше…
– Что?!.
– Я взял бы больше.
– Ну, милый человек, скажи, сколько же, говори же! Два, три, четыре миллиона?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































