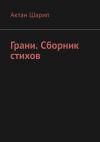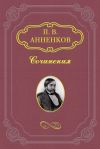Текст книги "Александр Блок и его мать"

Автор книги: Мария Бекетова
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Глава IV
Юношеские и зрелые годы. Последнее семилетие жизни поэта
Мои воспоминания, касающиеся второй половины жизни поэта, уже не могут быть так подробны и обстоятельны, как те, которые относятся к поре ее до 20 лет. Почти все, что сохранилось у меня в памяти и о чем можно говорить теперь, уже сказано в моей биографии. Поэтому я буду лишь кратко намечать главные этапы жизни Ал. Ал., оживляя их некоторыми новыми сведениями и эпизодами.
Юношеские годы, начавшиеся с того знаменательного лета, когда Ал. Ал. и Любовь Дмитриевна встретились уже не детьми и оба сразу почувствовали важность этой встречи, полны для поэта великого значения; особенно важным и решительным считал он 1901 год. Поэтический дневник его жизни, который начался с 1898 года, еще долго будет служить предметом догадок и комментарий, так как не пришло еще время расшифровать те иероглифы, ключ к которым находится в руках вдовы поэта, тем более, что сам он никогда не объяснял своих стихов. Фактически эти юношеские годы сводятся к следующим событиям: осенью 1898 года (около 18 лет) Ал. Ал. поступил в университет на юридический факультет, где прошел два курса. Осенью 1901 года он перешел на филологический факультет. У меня сохранилось одно веселое письмо, написанное Сашей во время его последних юридических экзаменов. Это короткая записка, где он сообщает мне два нужных мне адреса. Привожу дословно ее конец.
«…На следующей странице приведено стихотворение Ал. Блока с эпиграфом из Симеона Полоцкого.
Твой доброжелатель.
26 апреля 1901 года.
Права русского исторью
Уподоблю я громам,
Что мешают мне на взморье
Уходить по вечерам.
Впереди ж (душа раскисла!)
Ждет меня еще гроза:
Статистические числа,
Злые Кауфмана[43]43
Илларион Игнатьевич Кауфман (1847–1915) – экономист и статистик.
[Закрыть] глаза.
Мая до двадцать второго
Не «исхичу я из тьмы»
Имя третьекурсового
Почитателя Козьмы{2}2
Стихотворение ориентировано на стихи и афоризмы Козьмы Пруткова. Первая строфа использует традиционную форму его афоризмов, напр.: «Слабеющие глаза всегда уподоблю старому потускневшему зеркалу, иногда даже надтреснутому»; последняя строфа перепевает заключительную строфу стихотворения «Честолюбие»:
Для значения иногоЯ восхитил бы из тьмыИмя славное Пруткова,Имя громкое Козьмы!
[Закрыть].»
Упоминание о взморье в этом стихотворении характерно для Ал. Ал. Он признавал, живя в Петербурге, только дальние прогулки по окраинам или за город. Хождение на взморье было одним из любимых его развлечений.
В том же 1901 году впервые познакомился со стихами Ал. Ал. Андрей Белый. О впечатлении, произведенном ими на Бориса Николаевича, говорится в письме нашей кузины Ольги Мих. Соловьевой к матери Ал. Ал., которая посылала ей Сашины стихи. Вот что пишет она 3 сентября 1901 года: «Милая Аля, мне хотелось поскорее сообщить тебе одну приятную вещь: Сашины стихи произвели необыкновенное, трудно описуемое, удивительное, громадное впечатление на Борю Бугаева (Андрей Белый[44]44
Слова, заключенные в скобки, принадлежат М. А. Бекетовой.
[Закрыть]), мнением которого мы все очень дорожим и которого я считаю самым понимающим из всех, кого мы знаем. Боря показал стихи своему другу Петровскому, очень странному мистическому молодому человеку, которого мы не знаем, и на Петровского впечатление было такое же. Что говорил по поводу стихов Боря – лучше не передавать, потому что звучит слишком преувеличенно, но мне это приятно и тебе, я думаю, будет тоже. Я еще более, чем прежде, советую Саше непременно послать стихи в «Мир Искусства» или Брюсову…[45]45
О судьбе автографов Блока, посланных в издательство «Скорпион» и попавших в руки к В. Я. Брюсову, см.: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 176–178 и особенно в предисловии Ю. П. Благоволиной к публикации переписки Блока и Брюсова (ЛН, т. 92, кн. 1, с. 479–480).
[Закрыть] Боря сейчас же написал, по поводу Сашиных стихов стихи, которые посвятил Сергею[46]46
Ее сын Сергей Михайлович.
[Закрыть]. – Вот они.
Пусть на рассвете туманно,
Знаю – желанное близко!
Видишь, как тает нежданно
Образ вдали василиска!
Пусть все тревожно и странно!..
Пусть на рассвете туманно,
Знаю – желанное близко!..
Нежен восток побледневший,
Знаешь ли – ночь на исходе?
Слышишь ли вздох о свободе,
Вздох ветерка улетевший, —
Весть о грядущем восходе?..
Спит кипарис онемевший,
Знаешь ли, ночь на исходе?
Белые к сердцу цветы я
Вновь прижимаю невольно…
Эти мечты золотые,
Эти улыбки святые
В сердце вонзаются больно,
Белые к сердцу цветы я
Вновь прижимаю невольно»[47]47
Под заглавием «Знаю» и с посвящением О. М. Соловьевой вошло в первый сборник стихов Белого «Золото в лазури» (М., 1904).
[Закрыть].
Это письмо Ольги Мих. Соловьевой получено было Ал. Андреевной на станции в день ее отъезда из Шахматова в Петербург вместе с сыном в сентябре 1901 года. Саша был тогда несколько грустно настроен. Мать его послала Ольге Мих. довольно много его стихов и долго не получала ответа. Он боялся, что стихи его не понравились. И вдруг получились такие приятные, важные вести. Нечего и говорить, что Саша и мать его очень обрадовались и ободрились. В вагоне Саше не пришлось сидеть в одном отделении с матерью. Через час после отхода поезда он, проходя мимо ее открытого купе, сунул ей в руки бумажку с только что написанными стихами и скрылся. Стихи эти, сильно измененные, были напечатаны в 1920 году в сборнике «За гранью прошлых дней». Привожу их в первоначальном виде.
На железной дороге
Мчит меня мертвая сила,
Мчит по стальному пути,
Серое небо уныло,
Грустное слышу «прости».
Но и в разлуке когда-то,
Помню, звучала мечта…
Вон огневого заката
Яркая гаснет черта.
Нет безнадежного горя.
Сердце под гнетом труда,
А в бесконечном просторе
И синева, и звезда.
6 сентября.
Между Клином и Тверью.
Весной 1902 года Ал. Ал. подарил матери в день ее рождения «Три разговора» Владимира Соловьева, написав на обратной стороне заглавного листа следующее стихотворение:
Успокоительны и чудны,
И странной тайной повиты
Для нашей жизни многотрудной
Его великие мечты.
Туманы призрачные сладки —
В них отражен великий свет,
И все суровые загадки
Находят дерзостный ответ.
В одном луче, туман разбившем,
В одной надежде золотой,
В горячем сердце – победившем
И хлад и сумрак гробовой.
6 марта 1902 г.Петербург.
Лето 1904 г. прошло весело, в той беззаботной молодой атмосфере какого-то сияющего цветения, которая так прекрасно отражена в воспоминаниях А. Белого.
Вернулись Блоки в Петербург несколько раньше нас с сестрой. Ал. Ал. приходилось ходить в Университет, Люб. Дм. – на Бестужевские курсы. Обоим предстояли экзамены. Я приехала в Петербург в половине сентября, чтобы устраивать свою новую квартиру, нанятую по соседству от сестры. Тут произошел некий милый и веселый эпизод, описанный в одном из моих старых писем к сестре и живо напоминающий тогдашние нравы и настроение Саши. Блоки пришли ко мне утром очень веселые и оживленные и, пробыв минут десять в моей неустроенной и пыльной квартире, ушли обратно, ожидая меня к обеду. Я пришла к ним часов в пять с разной вкусной деревенской снедью, причем меня встретили двумя новостями. Оказалось, что экзамен отложен до декабря, а Саша получил через издательство «Гриф» письмо от немецкого поэта Гюнтера, который пришел в восторг от «Прекрасной дамы» и просил позволения переводить стихи Блока. Саша был страшно польщен Гюнтеровскими комплиментами и в то время, как я писала письмо его матери, смешил меня разными шалостями: он принимал горделивые позы, отставляя руку и закидывая голову назад, городил разную чепуху, разговаривал все время по-немецки, что доставалось ему далеко не легко, говорил, что он «Beruhmter Herr Blok» (знаменитый господин Блок), и с уморительной буквальностью переводил собственные стихи на немецкий язык. В довершение всего он захотел сделать приписку в моем письме к матери непременно на немецком языке. Привожу целиком это послание:
«Meine teuerste Mutterchen, ich bin schon notwendig und sehr beruhmt in allen Buchhandlungen der Haupt und Provinzial-Stadten des gebildeten und ungebildeten Welt. Mein grosser Portrait ist in alle Bahnhofe Deutschlands, Frankreichs, Mexiko, Danemark, Polen, Spanien (und Portugalien), Italien, Serbien (und andere slavische Lande) ausgestellt. Er kostet nur funfzig Pfennig und jeden Tag kauft man ihn ein Tausend acht Hundert siebenundzwanzig Leute mit andere Bildungen meines Freundes Wolfgang und meines Lehrers Friedrich (v. Schiller) u.s.w. Henrik Ibsen aus Norwegien und Leon Tolstoi aus «Jasnaja Poljana» haben mir sein Gruss und Kuss geschickt. Aber ich werde nicht dich vergessen ungeachtet Meine Berunmtigheit. Dein liebste Sohn Alexander. Meine Frau kusst dich».
(Моя дражайшая маменька, я уже необходим и очень знаменит во всех книжных магазинах главных и провинциальных городов образованного и необразованного мира. Мой большой портрет выставлен на всех вокзалах Германии, Франции, Мексики, Дании, Польши, Испании (и Португалии), Италии, Сербии (и других славянских земель). Он стоит только пятьдесят пфеннигов и его покупает каждый день тысяча восемьсот двадцать семь человек вместе с другими изображениями моего друга Вольфганга и моего учителя Фридриха (фон Шиллера) и т. д. Генрих Ибсен из Норвегии и Лев Толстой из «Ясной Поляны» прислали мне свой привет и поцелуй. Но я не забуду тебя, несмотря на мою знаменитость. Твой любимый сын Александр. Моя жена тебя целует.)
Нет возможности передать Сашины потешные и милые интонации и жесты при чтении вслух этого письма. Эти детские шалости проделывались только в самом интимном кругу. Кто не видал их, тот не знает, сколько непосредственного и светлого было в Александре Блоке. Об этой шаловливой веселости ничего не знает, например, А. Белый, их близость была в другой, чисто отвлеченной, сфере. Лучше же всех, кроме близких родных и жены, знают об этом Александр Васильевич Гиппиус и Евг. Павлович Иванов, оба близкие Сашины друзья. В пору вышеприведенного письма поэту было около 24 лет, но долго еще он сохранял такое же отношение к своим стихам и к своей славе.
Лето 1905 года ознаменовалось размолвкой с Соловьевым и Белым. Читатели могут прочесть в «Эпопее»[48]48
Андрей Белый. Воспоминания об А. А. Блоке. – «Эпопея», 1922, N 2, с. 252–261.
[Закрыть] объяснение эпизода с Серг. Мих. и яркое изображение атмосферы недомолвок и враждебности, создавшейся в Шахматове летом 1905 года. Из последующих признаний А. Белого видно, как много личного, исходящего из призраков, созданных ложным самолюбием, было в последующем отношении его и Серг. Мих. к Блоку. Сам Ал. Ал. был, как всегда, далек от личных счетов. Он и не подозревал, что казался своим друзьям «непереносным, обидным, намеренно унижающим» (выражения А. Белого), и был совершенно не подготовлен к тому в высшей степени неприятному письму, которое получил от Бор. Никол, в октябрьские дни 1906 года. А. Белый писал в следующем тоне: «Что ты делаешь? готовишь избирательные списки? говоришь речи?…В то время, как мы с Сережей обливаемся кровью от страданий, ты кейфуешь за чашкой чаю…»[49]49
Ошибка М. А. Бекетовой или опечатка: речь идет о письме Андрея Белого, полученном Блоком 13 октября 1905 г. (см.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940, с. 155–157)
[Закрыть] и т. д. Само собой разумеется, что эта «риторика печали»[50]50
Слова Гамлета Лаэрту на могиле Офелии.
[Закрыть] и упреки Ал. Ал-чу, который воспринимал тогдашние события общественной жизни очень ярко и глубоко, – рассердили и раздосадовали и Ал. Андр-ну, и Люб. Дм-вну. Один Ал. Ал. беззлобно огорчился и написал А. Белому смиренное письмо с недоуменными вопросами[51]51
Письмо от 15 октября 1905 г. (VIII, 137–141).
[Закрыть]. Авторитет А. Белого был сильно поколеблен, вскоре произошел и разрыв дипломатических сношений: Люб. Дм. властно потребовала, чтобы А. Белый отказался от некоторых слов, написанных в письме к ее мужу, и заявила, чтобы он помнил, «что она всегда с Сашей»[52]52
М. А. Бекетова, верно излагая смысл письма Л. Д. Блок к Белому от 27 октября 1905 г., в кавычках приводит слова, которых в этом письме нет (см.: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 231). Ср. там же письмо А. А. Кублицкой-Пиоттух к Белому от 9 ноября 1905 г.
[Закрыть]. Он резко порвал переписку с ней, не признав себя неправым по отношению к Ал. Ал-чу. Довольно скоро, однако, Борис Никол, опомнился и написал Ал. Ал, покаянное письмо[53]53
Письмо от 30 октября 1905 г. (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940, с. 160).
[Закрыть], а Люб. Дм-не прислал подаренные ею ему когда-то белые лилии, повитые черным крепом, которые она безжалостно сожгла в печке. Таков был тон тогдашних отношений А. Белого с Блоками. После этого письма на А. Белого перестали сердиться. В начале декабря он приехал в Петербург, и произошло полное примирение даже без объяснений. Между прочим выяснилось при разговоре с ним в доме Ал. Андр., что он относится к Серг. Мих. Соловьеву с исключительным пристрастием. Он прямо-таки заявил, что в «Москве нет людей кроме Сережи».
Портрет Ал. Ал. в черной шерстяной блузе с белым отложным воротником снят в 1907 году в фотографии Здобнова на Невском. Это тот самый портрет, который продавался в фотографии, а несколько позднее попал на открытки. Он очень похож, единственный его недостаток заключается в том, что на нем Ал. Ал. кажется брюнетом, между тем как он был определенный блондин. В пору снятия портрета ему было 27 лет. К тому же времени относится и портрет в зимнем пальто и в бобровой шапке, снятый в какой-то моментальной фотографии тоже очень недурно.
В 1908 году Ал. Ал. часто видался с Сологубом, Чулковым и Сюннербергом[54]54
Константин Александрович Сюннерберг (1871–1942), чаще всего выступавший в печати под псевдонимом Конст. Эрберг, оставил воспоминания, где есть раздел о Блоке. Эти воспоминания, а также письма Блока к Эрбергу (публ. С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова) см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 г. Л., 1979, с. 99–158.
[Закрыть]. Время проводили очень весело. Группа четырех писателей, сидящих за столом, увековечивает эти приятельские беседы <…>
Группа, снятая в Шахматове за столом под липами во время чаепития среди дня, относится к лету 1909 года. Это было последнее лето, которое проводила с нами сестра Софья Андр. с сыновьями, весной следующего года они переселились во вновь купленное имение Сафоново, за 20 верст от Шахматова. В момент снятия группы вся наша семья, кроме мужей моих сестер, была в сборе. Стоящий за спиной Ал. Ал-ча молодой человек – брат Люб. Дм. Иван Дмитриевич Менделеев, приехавший в гости из Боблова. Он и снимал группу и, установив аппарат, встал в последнюю минуту в неподвижную позу, чтобы довершить группу, поручив защелкнуть камеру-обскуру кому-то другому. Впереди всех, на углу стола, сидит Ал. Ал. в русской рубашке из ярко-красного сатина. У него несколько утомленный вид и слегка прилипшие ко лбу волосы, вероятно, он в момент приезда гостя занимался какой-нибудь тяжелой работой: или копал землю, или чистил лес. Против Ал. Ал., повернувшись в профиль, сижу я, дальше за мной Люб. Дм. в широком летнем капоте из белой с черным материи, она носила тогда полутраур по отце, умершем года 1½ тому назад. На хозяйском месте в конце стола сидит сестра Софья Андреевна. По другую сторону от самовара – сестра Ал. Андр., рядом с ней старший сын Софьи Андр. Фероль, а за ним его брат Андрюша. Их корректные городские костюмы составляют полный контраст со свободной одеждой Ал. Ал. и подчеркивают то коренное различие в манере жить, которое отражалось и на их мировоззрении. Как большинство любительских фотографий, группа не очень хорошо передает лица отдельных участников, все кажутся старше своих лет от резкостей теней, но зато позы очень естественны и вся группировка напоминает скорее картину, чем фотографию. Портрет в зимнем пальто и котиковой шапке снят в 1911 году, когда Ал. Ал. деятельно писал свою поэму «Возмездие».
Лето 1913 года мы с Ал. Андр. проводили в Шахматове вдвоем. Блоки были на Бискайском побережье. Вернувшись из этой поездки, Саша захотел побывать в Шахматове. Он поехал туда сначала один, потом присоединилась к нам и Люб. Дм. Саша провел в Шахматове месяц. При всей своей любви к Шахматову он начал скучать в деревне, так как мы жили очень уединенно, а у него образовалась привычка к общению с людьми и к разнообразным впечатлениям. Желая развлечь его, я прибегла к невинному средству, которое вполне удалось. Саша очень любил в то время каламбуры и всякие шутки такого рода. Я воспользовалась своей склонностью к этому жанру и начала загадывать шарады, что очень ему понравилось. Саша веселился при этом, как настоящий ребенок. Все лицо его дрожало от смеха, глаза сияли, и он требовал бесконечных повторений той же забавы. Когда мы собирались к утреннему чаю, он уже смотрел на меня выжидательно и заранее улыбался, так как шарады бывали по большей части шуточные. Поощряемая успехом своей идеи, я придумала особый вид шарад в рассказах. Заключался он в том, чтобы загадывать такие слова, слоги которых имели между собою связь, вроде слова досада, причем нужно было придумать соответствующий рассказ, в который входили бы эти слова. Или же бралось для шарады многосложное слово, и нужно было тоже вклеить все слоги в рассказ. Первая моя проба такого рода была шарада шпаргалка, которую я придумала во время утреннего одевания. Я пришла, посмеиваясь, и Саша был страшно заинтригован моим загадочным видом. За утренним чаем я рассказала длинную историю о гимназисте, который готовился к латинскому экзамену в имении родителей и заснул на диване в столовой после бессонной ночи. Брат его, рассеянный сельский хозяин, пришел пить чай, стуча сапогами, и домашние замахали на него руками, произнеся мое первое (Ш), затем он видел мое второе, так как в комнате стоял кипящий самовар (пар), и, взглянув в окно, увидал в окно мое третье (галка) и т. д. Эта шарада имела блестящий успех, за ней последовали другие в таком же роде, и все они чрезвычайно забавляли и занимали Сашу. Кончилось тем, что он вдохновился моим примером и начал сам сочинять шарады в рассказе, над которыми мы хохотали до упаду. Смысл их был по большей части натянутый, загадывая их, Саша уже заранее начинал смеяться, причем облекал свои рассказы в какую-то своеобразно неуклюжую и донельзя комичную форму. Увлекался он этим занятием чрезвычайно и придумывал свои шарады буквально с утра до вечера. Некоторые из них я помню, хотя, к сожалению, не дословно, так что стиль пропадает.
Шарада I
Один молодой человек, у которого была мукомольная мельница в Архангельской губернии, писал своим родителям, жившим на юге России, что дела его очень плохи и пришлось остановить мельницу, потому что ни зги не видно. Обстоятельства ли переменились, погода ли изменилась[55]55
Курсив обозначает дословную фразу Ал. Ал.
[Закрыть], но только дело пошло на лад, о чем сын известил родителей телеграммой, в которой было два слова: мое первое и второе. Целое же оказалось такого рода, что старики страшно обиделись и даже прокляли сына.
Никто из нас не угадал шарады, и при общем хохоте мы узнали, что в телеграмме стояли слова: мелюзга.
Шарада II
Увидев дробь, вынутую из раны одного инженера, нечаянно поранившего себе на охоте руку, его кухарка чухонка сказала: «Это…» и прибавила мое первое и второе.
Значение целого объяснено было очень туманно. Все мы терялись в догадках и наконец узнали, что кухарка сказала фразу: «Это ис парина» (испарина).
Шарада III
Однажды летом двое приятелей, известные художники, отправились в длинное странствие, причем между ними был уговор, что во время ночлегов оба поочередно должны были стлать постели. Один из них добросовестно исполнял уговор, другой же, более ленивый, всякий раз, как товарищ напоминал ему об его обязанности двумя словами, моим первым и вторым, притворялся, что он не понимает их смысла и, намекая на целое, говорил о каких-то птичках: «Да, слышу».
Кажется, я угадала эту шараду, она означала: «Коро стели» (коростели).
Шарада IV
Но венцом Сашиных шарад была та, которую он сочинял и рассказывал целый день. Конец ее пришелся, кажется, даже на следующее утро. К величайшему сожалению, я помню только ее содержание и некоторые подробности. Это было повествование в форме романа тридцатых годов, где фигурировал отец, мать – Фанаберия Ивановна и дочь Зинаида. Дело происходило в провинциальном городе. Зинаида была красивая, но бедная девушка, и мать усердно подыскивала ей жениха.
В числе ухаживателей Зинаиды был старый сластолюбец учитель Единицын, а впоследствии корнет Шпоркин, охарактеризованный следующей фразой: «Из всех офицеров Н-ского полка выделялся ловкостью манер и стройностью стана корнет Шпоркин». Зинаиду вывозили в собрание, где она была замечена. Зинаида была и впрямь недурна. Фанаберия Ивановна, как женщина сметливая, заметила произведенное ею впечатление. В дом были приглашены молодые люди и стали устраиваться вечера, перед началом коих Фанаберия Ивановна сделала дочери наставление, внушив, как она должна вести себя с молодыми людьми. Каждый из них должен был сделаться целым шарады, в которую должно было входить первое и второе. Вечера оказались настолько удачны, что даже возбудили зависть местной львицы. Зинаида в точности исполнила приказание матери. Когда явился корнет Шпоркин, она приняла его так, что он сделался целым шарады. Фанаберия Ивановна стала следить за дочерью. Через некоторое время небрежное обращение Шпоркина с Зинаидой и полнеющий стан ее навели Фанаберию Ивановну на ужасную мысль, она призвала к себе дочь и сказала ей наедине: «Несчастная, что ты с собой сделала?» – «Маменька, я не выходила из вашей воли», – отвечала Зинаида. Слишком ли развитое чувство дочерней покорности, буквально ли понятое приказание матери были причиной несчастья, но тут произошло роковое недоразумение.
Слово, загаданное в шараде, оказалось: завсегда тай (завсегдатай).
Уже после того, как мы об этом узнали, Саша придумал к рассказу конец: Зинаида скрылась из родного города и оказалась в Петербурге, продолжая вести порочный образ жизни. За ней последовал старый сластолюбец Единицын. Едва ли не она послужила прототипом для известного стихотворения Некрасова «Убогая и нарядная».
Осенью 1913 года произошла знаменательная встреча Ал. Ал. с певицей Люб. Ал. Андреевой-Дельмас.
Портрет Ал. Ал-ча в фетровой шляпе и в осеннем пальто снят в моментальной фотографии осенью 1913 г. еще до знакомства с Люб. Александр., но уже после встречи с нею. Он очень хорош.
Фотография в военной форме снята с Ал. Ал. в 1917 году в Зимнем Дворце, где происходили заседания Чрезвычайной Следственной Комиссии. Форму эту носил он со времени пребывания на Пинских болотах. Фотография не отличается отчетливостью, но все же дает понятие о Блоке того времени.
Воспоминанием лета 1919 года могут служить отчасти три фотографические снимка, сделанные издателем Ал. Ал-ича Алянским («Алконост») на балконе квартиры на Пряжке. Снимки хорошие и отчетливые. На первом представлен поэт с женой, на втором он один, а на третьем он с матерью.
Здесь я нарушу хронологический порядок, которого все время придерживалась, и прибавлю обещанную заметку об отношении Ал. Ал. к животным. В детстве он обожал кошек и собак, как многие дети, но тогда уже вкладывал в свое отношение к ним какую-то особую нежность и интерес: он с ними разговаривал, входил в их положение, проводил с ними много времени, всячески их развлекая и ублажая. В Шахматове держали обыкновенно двух или трех дворовых псов, с которыми Саша водил постоянную дружбу. Бывало, заглянешь утром в надворное окно и, если Саши нет в комнате, непременно увидишь его у крыльца на корточках, а около него реют три мохнатых хвоста и с особой настойчивостью сует ему лапу его любимец, огромный черно-желтый Арапка.
Собаки, разумеется, обожали Сашу. Однажды летом, после смерти моих родителей, когда Саша был уже жедат, в Шахматове оказались две таксы. Одну из них привезла из Петербурга Сашина мать, другую я. Первая такса, Краб, была толста и добродушна, мой Пик был худой, с безумными страстями и мрачным характером. Он перенес тяжелое испытание, потеряв любимого хозяина – это была дедушкина собака. Обе таксы не отходили от Саши. Молодые Блоки жили в отдельном флигеле с садиком, отделенным от двора забором и калиткой. Саша вставал довольно поздно. Нужно было видеть, с каким отчаянно грустным видом лежали обе таксы по утрам на дорожке около флигеля. Они дожидались, когда взойдет их солнце. Когда же Саша появлялся в низком окне и подавал голос, собаки бросались с радостным визгом и прыгали на подоконник или прямо в руки своего божества. Саша брал их во флигель и вместе с ними приходил в большой дом пить чай.
При жизни моих родителей в доме было довольно-таки беспорядочно и грязновато, но после их смерти, особенно с той поры, когда старый дом был блистательно отремонтирован заново, Сашина мать завела везде невероятную чистоту и порядок. Прежде бывало не только комнатные, но и дворовые собаки входили в дом, а комнатным позволялось валяться на всей мебели. Теперь же дворовых псов совсем не пускали в дом, а таксам строго воспрещалось скакать на мягкую мебель. Но так было только в начале лета. Понемногу эти строгие правила нарушались Сашей. Таксы как бы нечаянно оказывались то на кресле, то на диване. Мать слабо боролась, но потом, разумеется, уступала, и к осени, как раз в самое грязное время года, дело кончалось тем, что ничто уже не возбранялось этим счастливицам. В гостиной, угловой солнечной комнате, выходившей окнами в сад, занимал одну стену огромный четырехугольный диван с двумя валиками. Помню один осенний вечер, когда Саша, разлегшись на этом диване во весь свой рост, в русской красной рубашке и в высоких сапогах, пригласил такс прыгнуть на диван, что они с восторгом исполнили. Затем обе были разложены по бокам его так, что головы их приходились у него под мышками, и так в блаженном покое пребывали до самого чая. Он нежно разговаривал с ними, и никто из присутствующих и не думал противиться этому баловню и чародею, так как смотреть на его забавы с собаками и слушать его разговоры с ними было сущее наслаждение.
Бывали еще и такие случаи: дверь со двора в столовую отворялась и оттуда выходил улыбающийся Саша, а за ним несмело и конфузливо выступал сын уже покойного Арапки, Бучка, очень похожий на него, но немного поменьше ростом. Он и сам понимал, что ему, столь грязному и вонючему цепному псу, не место в чистых господских комнатах, но Саша ласково приглашал его за собой, говоря: «Ну, иди, иди сюда, комнатная собачка!» Повертевшись по комнате, Бучка сам уходил обратно и уже на крыльце получал от Саши лакомое угощение в виде хлеба с маслом или сдобных лепешек.
В то время мой Пик (угрюмая такса) уже был покойник. Он погиб от болезни сердца в Шахматове и трогательно пришел умирать в гостиную, где издох на глазах всей семьи, причем в предсмертных муках до последнего мгновения не спускал глаз с сидевшего на полу Саши. Этого верного пса с почетом похоронили мои племянники в саду на лужайке, под старой плакучей березой. Его положили в ящик и осыпали цветами. Саша сам вырыл ему могилу, засыпал ее землей и сверху положил большой и очень тяжелый камень.
К кошкам Саша с годами охладел. Его отталкивало их коварство. Он ценил в зверях простодушие и непосредственность. Но к собакам он сохранил исключительную симпатию на всю жизнь, вообще же любил положительно всех животных, кроме кошек. Он доходил до того, что прикармливал мышей, которых в Шахматове всегда было великое множество. Жена Саши Люб. Дм. относилась к животным совершенно так же, как он, что подтверждает следующий случай, связанный с литературой.
В заголовке известного стихотворения «Старушка и чертенята» («Нечаянная радость») поставлено: «Григорию Е.». Разумеется, никто из читателей не подозревает, что Григорий Е. был не кто иной, как еж, которого принесли в Шахматово крестьянские дети и продали Саше и жене его за какой-то пустяк. Еж был немедленно назван Григорием и некоторое время с любовью воспитывался во флигеле, где жили Блоки. Немного погодя Григория отпустили на волю, после чего на ржаном поле поблизости от флигеля Блоков очутился молодой ежик, который попался на глаза Сашиной матери и вел себя, как ручной. Похоже было, что это вернулся Григорий. Блоки так и решили. Они опять водворили его во флигель и стали ухаживать за ним еще больше. Но дело кончилось тем, что Люб. Дм. нашла, что Григорию будет скучно в Шахматове, потому что там нет ежей, и сама отвезла его в имение своих родителей Боблово, где всегда водилось много ежей. Там он был выпущен и оставлен.
Не меньше собак Саша любил лошадей. Он рано выучился ездить верхом, красиво сидел на лошади и ловко и смело ездил. При всей своей любви к лошадям он умел их заставлять себя слушаться. Тот белый конь, который упоминается в его лирических стихах и в поэме «Возмездие», был высокая, статная лошадь с несомненными признаками заводской крови; его звали «Мальчик». Саша уезжал верхом иногда на целые дни и в этих поездках исколесил все окрестности Шахматова на далекое пространство. Во время скучной жизни на Пинских болотах его лучшим удовольствием было по целым часам ездить верхом, совершая длинные одинокие прогулки. У него была прекрасная, но далеко не смирная лошадь, которую он особенно любил именно за ее способность злиться.
Конечно, он прекрасно знал всех зверей Зоологического сада. Цирковые слоны, тюлени и бегемоты из «Аквариума» тоже были его любимцами. Он рассказывал о них с большой симпатией и очень талантливо их представлял. Любил он и червей, и лягушек. В Шахматове был такой случай. В одно жаркое лето развелось очень много червей, которых не выносила Сашина мать. Однажды утром, когда мы пили чай под липами, на скамейке оказались две толстейшие гусеницы: одна ярко-розовая, другая зеленая. Сашина мать, содрогаясь от отвращения, просила Сашу убрать их. «Какие отвратительные!» – говорила она, отворачиваясь от гусениц. Саша взял их в руки и отнес как можно дальше, но сначала заметил примирительным и сочувственным тоном: «А они думают, что они очень красивые».
К птицам Саша был вообще равнодушнее, больше всего любил журавлей. Но зато кур он прямо-таки ненавидел за буржуазный характер и движения и жестоко гонял их из цветников, пуская им вслед иногда даже камни.
В заключение привожу выписки из письма матери Александра Александровича, которая сообщала мне о выступлении сына в Москве в 1920 году.
19 мая 1920 г. «…Сегодня Душенька (так звала она часто Сашу) вернулся из Москвы. Я чувствую себя счастливой матерью. Он пробыл в Москве 11 дней, читал на трех вечерах. Энтузиазм повальный. В конце концов на площади около здания Политехникума[56]56
Политехникум – здесь, конечно, имеется в виду Политехнический музей, в Большой аудитории которого проходили вечера Блока.
[Закрыть], где происходили вечера, сделали ему овацию. Стол, перед которым он читал, был всякий раз покрыт цветами: ландышами, сиренью. Тут же в зале ему посылали записки и стихи, посвященные ему. И все это вовсе не одни барышни – были и мужчины, которые со слезами жали ему руки. Здание Политехникума, т. е. зал этот, считается лучшим по акустике. Потому и был выбран. Жил Деточка все время у Надежды Александровны Коган. Кормили его прекрасно, он даже поправился на вид. Ездил он вдвоем с Алянским, который буквально всю несносную часть хлопот принял на себя, и проехал в отдельном купе международного поезда туда и обратно.
Был он и у Станиславского, который все тот же и твердо надеется поставить «Розу и крест» осенью, хотя половина труппы на Кавказе… Душенька вернулся в мягком настроении. Поражает меня больше всего своей скромностью, тем, как рассказывает о своих успехах…»
На этом кончаются мои «воспоминания и заметки», касающиеся жизни поэта. Некоторые стороны его души и характера еще не затронуты мною, но так как я считаю долгом передать все то, что хранит о нем моя старая память, я не прощаюсь с читателями и надеюсь, что мне удастся сообщить им и остальное из того, чем могу поделиться я с теми, кому дорога память Блока.