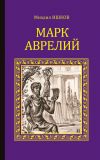Текст книги "Наедине с собой"
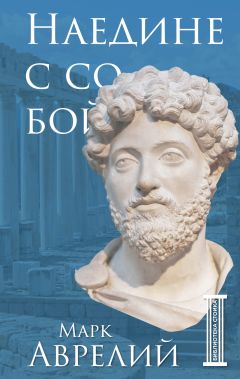
Автор книги: Марк Аврелий Антонин
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Главное содержание царствованию Марка Аврелия дали, однако, его труды по защите империи. Не было чувства, более ему далекого, чем стремление к военной славе. В осуждении ее он идет не менее далеко, чем Тертуллиан и другие христианские писатели. «Паук гордится, если захватил муху, другой – если поймает зайца, третий – если уловит в сеть рыбешку, четвертый – если овладеет вепрем, пятый – сарматом; а если исходить из принципов, что они как не разбойники?» (10, X). «Что значит слава Александра, Гая, Помпея перед лицом Диогена, Гераклита, Сократа?» (8, III). Его пренебрежение к военной славе, однако, совершенно не похоже на эротический, изнеженный пацифизм Тибулла и на мечтания Вергилия о золотом веке. Пребывание на войне только тяготило его, но к делу защиты государства он относился со всем вниманием и добросовестностью. Войну с парфянами вел Луций Вер, но роль этого распущенного и бездеятельного человека, не способного дисциплинировать ни себя, ни других, едва ли не была номинальна. Главная тяжесть упала на его помощников, назначенных Марком Аврелием, который не делал себе иллюзий относительно способностей Луция Вера, – и выбор командующего состава, за исключением, может быть, Авидия Кассия, талантливого, но честолюбивого и недостоверного, оказался блестящим. Опасность на востоке была устранена.
Серьезнее она была на Европейском Севере и Северо-Востоке. Значение германского мира, расстилающегося у границ Римской империи, было оценено Тацитом. Пока эти народы пребывали во взаимной раздробленности, их можно было не замечать, но как только из них образовались большие сплоченные союзы, все политическое равновесие римского мира нарушалось.
С одним из таких союзов, сложившимся в Богемии, Моравии и Северной Венгрии и приведшим в движение германские и негерманские племена, которые двинулись на юг от Дуная, прямо угрожая империи, пришлось иметь дела и Марку Аврелию. Значительная часть его жизни прошла на берегах Дуная, в борьбе с маркоманами и квадами. План кампании был чрезвычайно продуманный и в конце концов увенчавшийся успехом: это была тактика, рассчитанная на выносливость и упорство римского солдата, методическая, медленная, не гонящаяся за блестящими победами и построенная на строгой экономии силы. Паннония была очищена, варвары прогнаны на левый берег Дуная. В то же время Марк Аврелий избегал всякой бесполезной жестокости, всякого вероломства и относительно врагов; не видел он опасности и в известном проникновении германцев на римскую территорию, полагая, что эти романизированные варвары явятся лучшей защитой против грядущих нашествий. Он в широких размерах допустил германцев в римские легионы, дал им на известных условиях земли в Дакии, Паннонии, Мезии, Римской Германии и оставил в то же время достаточную военную силу на Дунае, которая могла бы отразить посягательства на территорию и пределы империи. Проникнутый стоическим универсализмом, он не чувствовал какого-либо предубеждения против варварских народов; скорее, можно заметить ноты насмешки и раздражения в отзывах об Азиатском Востоке. Мысль влить в организм Римской империи свежие соки этих народов, которых Тацит хотел поставить как образцы современному обществу, – подобная мысль была достойна великого и проницательного ума, но и этот ум не мог бы предвидеть, как быстро пойдет эта инфильтрация и как мало способности сопротивления заключала в себе римская культура.
Памятником этих походов императора остается колонна, украшающая до сих пор пьяцца Колонна в Риме; Сикст V поставил на верх ее статую апостола Петра, но барельефы, изображающие военные сцены, сохранились хорошо. Более, однако, чем эти барельефы, уже отмеченные чертами артистического упадка, о годах, проведенных императором на берегах Дуная, напоминают «Размышления». Там, среди вечерних досугов, написана часть их. Они открывают нам прежде всего то глубокое чувство одиночества, которое должен был испытывать их автор, оторванный от общества людей, с которыми он мог бы разделить свои самые дорогие мысли, и не менее глубокое сознание долга, которое заставило его посвящать всю энергию внутренне столь чуждому для него делу.
Этот гармонический образ, который создается при сопоставлении внутренней работы с внешней историей жизни, не роднит ли Марка Аврелия с идеалами, которые приносила античному миру новая, уже столь могущественная в конце II века сила – христианство? Мы знаем, что в христианской традиции замечается стремление, так сказать, приблизить к себе великого язычника, смягчить или даже затушевать факты, свидетельствовавшие о его враждебном настроении, противопоставить им другие. Пусть Марк Аврелий преследовал христиан; христианские авторы не хотели накладывать на него клеймо гонителя. «Великий и добрый» – так называет его христианский автор сивиллиного стиха, живший в III веке. «Справьтесь с вашими анналами, – убеждает Тертуллиан римских магистров, – вы увидите, что монархи, которые свирепствовали против нас, принадлежали к числу людей, гонения со стороны коих могут служить только к чести гонимых. Наоборот, изо всех монархов, которые признавали божеские и человеческие законы, назовите хотя бы одного, который бы гнал христиан. Мы же можем привести в пример одного из них, который объявил себя нашим покровителем, – мудрого Марка Аврелия. Он не отменил открытых эдиктов, изданных против наших собратьев, но он уничтожил их последствия, установив суровые казни, угрожающие нашим обвинителям». Наконец, Мелитон, епископ Сардский, обращаясь в своей апологии прямо к императору и напоминая ему о гонениях Нерона и Домициана и о терпимости Адриана и Антонина, прибавляет: «Что касается до тебя, ты имеешь к нам те же чувства (как Адриан и Антонин), но обладаешь еще более высокой философией и филантропией; мы уверены, что ты сделаешь все, что мы у тебя попросим».
Здесь, естественно, вспоминается легенда, связанная с одним из драматических эпизодов похода против квадов. Армия оказалась отрезанной от источников питьевой воды; истощенная жаждой и усталостью, она очутилась в месте, где варвары могли легко ее уничтожить. Римлянам угрожала катастрофа, которая по своим последствиям была бы гораздо более для них роковой, чем гибель Вара, как вдруг разразилась буря, на римское войско хлынул благодатный дождь, освеживший солдат, а в сторону варваров пошел сильнейший град и стала ударять молния, так что ими овладела полная паника. Это было чудо, по обычной версии, обязанное молитвам Марка Аврелия, воздействовавшим на Юпитера. На римской колонне мы видим, как «дождливый Юпитер» (iupiter pluvialis) напояет римлян и поражает варваров.
Другое, менее распространенное предание приписывает чудо египетскому магу Арнуфу, который заклял Гермеса. Наконец, версия, принятая значительной частью христианских писателей, утверждает, что римская армия была спасена молитвами коленопреклоненных воинов-христиан – их Бог, а не Юпитер послал бурю; при этом прибавлялось, что пораженный чудом Марк Аврелий написал письмо Сенату с воспрещением всяких преследований против христиан.
Эта тенденция христианских историков и апологетов далеко расходится с истиной: Марк Аврелий никогда не был другом христиан. Единственное место в его «Размышлениях», где упоминается о христианах, показывает, что он оставался холодным перед их готовностью принять мучение и смерть за свое исповедание; в этой готовности он усматривал даже нечто суетное и театральное (11, III). He может быть также и речи об отмене прежде действовавших и направленных против христиан законов – прежде всего закона о collegia illicita[14]14
Недозволенная коллегия (лат.) – т. е. собрание, имеющее преступный характер; в первые века нашей эры к числу таких собраний относились и любые собрания христиан.
[Закрыть]. Наконец, не подлежит сомнению, что его царствование было запятнано актами кровавого преследования христиан. Достаточно вспомнить здесь героических мучеников Лионской и Вьеннской церквей – одно из наиболее потрясающих событий из истории раннего христианства. Правда, инициатива здесь шла не от императора, а от местных властей и местного же населения. При громадности и физической децентрализации империи участь христиан вообще зависела прежде всего от местных исполнителей закона – и мы видим, как одни провинции могли пользоваться полным религиозным миром, тогда как в других происходили жестокие гонения.
Однако нельзя отрицать всякое участие Марка Аврелия в деле лионских христиан. Его легат обращался к нему с вопросом, и ответ императора был более жесток, чем аналогичный ответ Траяна на запрос Плиния. Марк Аврелий предписывал освободить всех ренегатов и предать смерти упорствующих. Едва ли в этом случае есть основание не доверять церковной традиции, хотя отвратительная сцена жестокости, разыгравшаяся при казни, не могла быть отнесена к желаниям императора. Также и Малая Азия при Марке Аврелии обагрилась кровью христианских мучеников, а знаменитый Поликарп, епископ Самосский, кончил жизнь на костре. Можно, конечно, сослаться на различные апологии, которые подавались императору и которые как будто показывали, что известная терпимость существовала – мыслима ли была бы пробная апология от имени какой-нибудь признанной ереси, обращенная к инквизиции! Но если авторы апологий, подобно Мелитону и Афиногору, не подвергались преследованиям, они не могли бы похвалиться и каким-либо успехом.
Объяснить это отношение Марка Аврелия не представляется трудным. Нужно ли прежде всего напоминать, что последовательная и полная терпимость есть чуть ли не самое редкое явление в человеческой истории? И это если даже оставить в стороне религиозные организации, построенные на принципе преемства и авторитета, забыть о клерикальных и антиклерикальных ненавистях. В свое время Локк дал не менее блестящую защиту свободы религиозной, чем свободы политической, и все-таки он не распространял терпимость на католиков и атеистов. Можно сказать, у английского мыслителя мы совсем не видим фанатизма: в католиках он видел прежде всего исконных врагов протестантской Англии, ее государственности и национальности, в атеистах – людей, лишенных той санкции, которая одна в состоянии обеспечить нравственный образ мыслей и действий. Но никаких следов фанатизма, какой-либо политической или религиозной ненависти мы не находим и у Марка Аврелия. Именно христианам он ставит в вину фанатизм, тем более предосудительный, что он соединен с тщеславием и страстью к эффектам. Он не понимал христианских мучеников, но их не понимал и Эпиктет; и для него здесь был лишь ожесточенный фанатизм. В глазах императора христиане – люди суеверные, без умственной любознательности и нравственного достоинства; они к тому же для поверхностного взгляда даже в конце II века могли казаться разновидностью иудаизма, а к евреям, по свидетельству Аммиана Марцеллина, император относился с брезгливой враждебностью. Можно сказать, что вообще в наплыве и распространениях восточных культов Марк Аврелий, совершенно непохожий здесь на Адриана, видел моральную опасность и вред.
Всех этих антипатий было бы, очевидно, недостаточно, чтобы императору изменила его обычная снисходительность к заблуждающимся. Против христиан действовал он или, во всяком случае, не останавливал действий местных властей как ответственный руководитель Римского государства. Христианство посягало на религиозные устои этого государства, которые трудно было бы отделить от политических – его исповедники отказывались принять участие в официальном культе. Пусть христианские апологеты доказывают, что их единоверцы – добрые граждане, исполняющие все обязанности, что они молятся за императора и за процветание империи, – в глазах представителей римской государственности, и притом чуждых вульгарным предрассудкам, они оставались инородным телом. Можно сказать, применяя понятие, которым так злоупотребляли в защите клерикальной и антиклерикальной нетерпимости, христианам ставилось в тяжелую вину нарушение морального единства; а так как заботы о последнем легче было встретить у лучших, чем у худших императоров, то и среди преследователей христианства, вопреки апологиям, мы видим далеко не только Неронов и Домицианов, как и самая терпимость к нему являлась часто плодом простого равнодушия. В этом смысле сирийские императоры III века, сами чуждые римской государственной традиции и политическим предрассудкам, могли проявить гораздо большую широту, чем Траян и Марк Аврелий, могли, подобно Александру Северу, ввести Основателя христианства в избранный ими пантеон культов.
Несомненно, однако, что Марк Аврелий заблуждался здесь и политически. Внутренний процесс, переживаемый христианской Церковью и общинами, приближал их к примирению с империей, а не отдалял. Те настроения, которые отразились в Апокалипсисе, как и хилиастические[15]15
Хилиазм (от греч, chilias – «тысяча») – учение о предстоящем тысячелетнем царстве Божием на земле.
[Закрыть] образы, уступают место более спокойному отношению.
В Церкви торжествует течение, враждебное крайностям, не принимающее ни эзотерической догматики гностиков, ни преувеличенного ригоризма донатистов[16]16
Донатисты – раннехристианская секта IV в., основанная карфагенским епископом Донатом; члены секты были сторонниками религиозной строгости и, в частности, требовали сурового осуждения христиан-отступников, выдававших по приказу императора Диоклетиана свои священные книги для сожжения.
[Закрыть]. Личное озарение, пророческий дар отступили на задний план: на первый выдвигается иерархия и дисциплина. Псевдоклементины, послания Игнатия, трактаты Иринея призывают к послушанию, верности епископам. В борьбе с ересью укрепляется епископальная организация Церкви и уже вырисовывается особый авторитет римского престола. Торжество начал организации епископского авторитета само по себе психологически разрушало непримиримость отношения к государству. Недалеко время, когда христианская община Антиохии обратится к императору Аврелиану за разрешением спора, кто является ее законным епископом. Обращенная к Марку Аврелию апология Мелитона уже предвидит союз империи с христианской Церковью, исторические судьбы коих связаны настолько крепко, что временные недоразумения не могут их разъединить. Мелитон как бы проводит реформу Константина. Можно ли было при этом, оценивая политически христианство, принимать во внимание лишь отказ принести жертву гению императора?
Но если общее направление в развитии раннего христианства достаточно выяснено исследователями XIX века, если они смогли выделить ядро тех мыслей и чувств, вокруг которых кристаллизовалось мировоззрение пастырей и пасомых, для язычников конца II века все это оставалось закрытым. Различные оттенки для них сливались в единый цвет: здесь могли разобраться только редкие специалисты, подобные Цельсу. Средний римлянин этой потребности внимательнее всмотреться в христианскую среду вовсе не чувствовал, и Марк Аврелий здесь не отличался от среднего римлянина. Его философское мировоззрение давало ему как бы априорно определенную оценку христианству, в котором он видел лишь одно из многочисленных препятствий для здоровой государственной жизни.
Эти препятствия не сломили энергии императора, но еще более укрепили чувство человеческого бессилия. Тяжелее трудностей, подчас могущих казаться неразрешимыми, внутреннего устроительства и внешней защиты империи, для него было сознание, что он говорит на непонятном для окружающих языке, что они им тяготятся, принимая его морально-философские интересы за несносный педантизм. В «Размышлениях» мы находим заметку о чувстве злорадства, с которым встречается смерть самого достойного человека: нельзя не видеть в ней автобиографической основы. «Никто не бывает столь счастлив, чтобы его смерть не вызвала в ком-либо из окружающих чувства злой радости. Пусть он был добродетелен и мудр; все же найдутся в конце концов какие-нибудь люди, которые про себя скажут: наконец мы можем вздохнуть свободно, освободившись от этого наставника. Правда, никто из нас от него не страдал, но все же мы чувствовали, что в душе он осуждает нас» (10, XXXVI).
Жизнь для Марка Аврелия все более становится приготовлением к смерти, которой посвящено так много места в последних книгах «Размышлений». И он встретил ее с глубоким спокойствием. В лагерной стоянке на берегу Дуная, около нынешней Вены, заболел он тяжкой болезнью, смертельный исход которой признал сразу, и уже не принимал ни пищи, ни питья. Сыну своему Коммоду он завещал окончить войну и не покидать армии; окружающим он напоминал о необходимости выполнить долг. Поручая Коммода их заботам, он прибавил характерную оговорку: «Если тот окажется этого достойным». Было ли здесь бессознательное стремление уменьшить ответственность, лежавшую на императоре, который признал Коммода наследником? Для Марка Аврелия монархическая наследственность могла быть лишь средством, не целью. Быть может, он и не видел вокруг себя других достойных преемников. Он представил Коммода солдатам, сохраняя спокойное выражение лица при тяжком страдании; вообще его выносливость в болезни поражала окружающих. Умер он 17 марта 180 г. совершенно один: даже сына он не допустил остаться у постели во избежание заразы.
Источники единодушно изображали скорбь армии и народа. Марк Аврелий всегда был так чужд какого-либо искания популярности; теперь обнаружилось, на каких глубоких и подлинных чувствах держалась его популярность. Он так часто в своих «Размышлениях» вскрывал всю тщету посмертной славы – теперь она была ему дана. По словам Геродиана, «не было человека в империи, который бы принял без слез известие о кончине императора. В один голос все называли его кто лучшим из отцов, кто доблестнейшим из полководцев, кто достойнейшим из монархов, кто великодушным, образцовым и полным мудрости императором – и все говорили правду». По отзыву Капитолина, «таково было почтение к этому великому властителю, что в день его похорон, несмотря на общую скорбь, никто не считал возможным оплакивать его участь; так все были убеждены, что он возвратился в обитель богов, которые лишь на время дали его земле. Когда еще не кончился торжественный обряд его похорон, Сенат и римский народ провозгласили его «богом благосклонным» (Deus propitius), чего не было раньше и чего не повторялось позже. Был воздвигнут в честь его храм, установлена коллегия жрецов, получивших имя Антониниев. Не только ему воздавались божеские почести, но считали нечестивцами тех, кто не имел в своем доме его изображения». Это был апофеоз совершенно иного рода, чем обычные формальные апофеозы, и он оказался много более прочным. Перед памятью Марка Аврелия благоговейно склонялись такие не похожие на него властители, как Септимий Север, Диоклетиан и Константин. В нем видели сочетание мудрости с той правдивостью, которая способна искупить и чужие грехи. «Ты сам, – говорил Капитолин, обращаясь к Диоклетиану, – ты видишь в нем бога – и он для тебя не обычное божество; ты обещал ему особое почитание, давая обет, подражал его примерам».
* * *
«Размышления» Марка Аврелия разделяются на книги и главы – но их порядок чисто внешний. Некоторым единством обладает лишь первая книга, где Марк Аврелий вспоминает своих родных, наставников и близких людей и объясняет, чем он им обязан, заканчивая перечислением всего того, чем он обязан богам. Мы имеем своеобразный дневник – не внешних событий, а мыслей и настроений, более важных в глазах автора, чем внешние события. Можно сказать, что «Размышления» представляют полную противоположность другой книге, которая также писалась среди военных тревог, – «Запискам о галльской войне» Юлия Цезаря. Здесь заботливо устранено всякое проникновение в глубь душевных переживаний, весь интерес также исключительно поглощен объективным миром, как у Марка Аврелия миром субъективным. Цезарь преследовал цели политической апологии, хотя беспритязательность и свежесть его рассказа так хорошо скрывают его мотивы. Марк Аврелий обращался лишь к самому себе – он хотел закрепить переживания, которые могли служить моральной поддержкой и побуждением. Никогда не думал он этими строками влиять на других или исправлять их. Отсюда глубокая искренность, которая интуитивно воспринимается всяким читателем «Размышлений» и которой так недостает многим автобиографиям и исповедям, отсюда и непринужденность формы: Марк Аврелий не искал ее, как не ищут, делая пометки на полях книги. Император с благодарностью вспоминает о грамматике Александра, который научил его не выходить из себя по поводу всякого варваризма или солецизма[17]17
Неправильный стилистический или грамматический оборот.
[Закрыть] собеседника. Нет риторических забот, но выражение всегда точно и ясно передает не только мысль, но и окружающий ее душевный фон.
Отсутствию внешнего плана соответствует и отсутствие чего-нибудь напоминающего философскую систему в содержании. Весьма часто в тексте мы встречаем слово δείγματα[18]18
Образец, пример (греч.).
[Закрыть], которое постоянно напоминает, насколько существенны для каждого человека эти руководящие им начала.
Как далеко, однако, это греческое слово от современного придаваемого ему значения; догматизм совершенно чужд Марку Аврелию – это черта, бросающаяся в глаза сразу. Нет ничего ошибочнее в этом смысле видеть в нем догматического последователя стоицизма.
Прежде всего прочность моральных истин не связана для него с тем или другим представлением о мире. У него нет определенной космологии – хотя бы тощ которую выработал стоицизм. Он склоняется к этой последней в ее общих чертах, но достоверность ее нигде не стоит для него вровень с достоверностью нравственных начал, к которым обращается человек. Дело не только в том, что интерес Марка Аврелия сосредоточен на этих последних, как это вообще мы наблюдаем в позднейшем стоицизме, и не только в его сомнениях относительно возможности постигнуть физическую истину; для него, если даже правы не стоики, а эпикурейцы, и, если миром управляет не единый закон, а самый случай, если все сводится к игре атомов, побуждения человека к добру этим не устраняются и привязанность к миру не усиливается. Эта мысль повторяется чрезвычайно часто. «Или все происходит как бы в едином теле, беря начало в едином духе, и часть не должна роптать на то, что происходит в целом, или же существуют атомы и ничего, кроме их смешения и рассеяния. Что же тревожит тебя?» (9, XXXIX). «Если не атомы, то вседержительница природа» (11, XVIII). «Существуют ли атомы или единая природа – прежде всего следует установить, что я являюсь частью целого, управляемого природой» (10, VI). «Может быть, мир подвержен периодическому возгоранию (как думали старые стоики – Зенон, Клеанф, Хрисипп); может быть, он вечен и не подвержен гибели (к этому склонялись позднейшие – Зенон из Тарса, Панеций, Посидоний) «(10, VII). «Может быть, круговращение вселенной раз навсегда предопределено мировым разумом, может быть, его повторяющимися решениями; место, занимаемое человеком в мире, от этого не меняется» (9, XXVIII). Ана достоверное познание мира кто решится притязать. «Вещи настолько сокрыты от нас, что многим философам, и незаурядным, они представлялись совсем непостижимыми; и даже сами стоики признают их трудно постижимыми: всякое наше согласие с чем-нибудь не есть нечто неизменное – где можно найти человека неменявшегося? «(5, Х).
Поэтому, когда в «Размышлениях» мы читаем, что «человеческому телу свойственны элементы, огненные, воздушные, водяные и земляные» (11, XX), автор пользуется лишь распространенной гипотезой, не возводя ее на степень категорической истины.
Это отсутствие догматизма освобождает от сектантского духа, от преувеличенного прославления одной философской школы за счет других. Когда Марк Аврелий находит родственные ему мысли у Эпикура, он не боится их брать, не боится и признать в представителе гедонистической философии мудрого учителя жизни (9, XLI; 12, XXXIV).
Отказ от категорических утверждений, отсутствие догматизма не есть еще, конечно, равнодушие. Мир, состоящий из хаоса и атомов, неравноценен миру, управляемому единым разумом. Диалектически нельзя выйти из поставленной перед нашей беспомощностью альтернативой, но общий характер мироздания и наше самосознание согласуется более со вторым, чем с первым решением. Человек находит в мире необходимость; опыт его бессилия научает его быть фаталистом. «Что бы с тобой ни случилось, оно предопределено тебе из вечности, и сплетенье причин изначала связало твое существование и происшедшее в нем событие» (10, V). Но эта необходимость устрашает лишь поверхностный взгляд; для более проникновенного она превращается в провидение. Постоянно у Марка Аврелия повторяется эта альтернатива: слепой случай или разумная необходимость, – только один раз появляется трилемма: роковая необходимость, или благостное провидение, или же беспорядок и господство никем не управляемого случая (12, ХІV). Но господствующий взгляд в «Размышлениях» видит эту необходимость в ее нравственном аспекте. «Все происходящее происходит не только согласно определенному порядку, но и согласно справедливости, как будто кто-нибудь распределял все сообразно заслугам». Таким образом, самый фатализм уже не подавляет человека, а ободряет его. Мудрый должен всецело восчувствовать действие вселенского разума среди кажущегося хаоса и мнимых побед зла; он не обвинит природу за то, что «она раздает жизнь и смерть, славу и бесславие, радость и горе, богатство и бедность, не делая различий между добрыми и злыми» (2, XI; 9,1). Марк Аврелий хорошо знал, насколько сильно поднимается здесь возмущенное чувство справедливости, и он стремится его успокоить, показывая несоответствие нашего ограниченного мерила и неисповедимых бесконечностей космоса. Природа никогда не может быть всецело понятной человеку, но она и не должна быть для него чужой: ему дается ей следовать; «жить сообразно природе» – заповедь не одного стоицизма, а всей античной этики; разногласие начиналось только там, где спрашивали, что надо понимать под природой? Нужно ли ее искать в обособленной человеческой личности или в целом мироздании? Является ли, согласно Протагору, человек мерой всех вещей или «все вещи», всё – мерою для человека?
Стоики, как известно, решительно отстаивали второе толкование, отстаивали физический и моральный коммунизм бытия. Марк Аврелий не считал возможным диалектически доказать разумность целого, он, по-видимому, допускал возможность морального отношения к жизни даже при чисто атомистическом мировоззрении, но он сам испытывал как бы религиозное благоговение перед природой в ее целом. Следование природе должно быть чуждо горечи и ропота.
«Беглец – тот, кто скрывается от своего властителя; и если властвует закон, то и нарушитель закона должен быть назван беглецом. Но и тот, кто сокрушается, гневается, боится, – тот не желает чего-нибудь совершившегося, совершающегося или имеющего совершиться в силу порядка, установленного мироправителем – законом, который определяет каждому подобающее. Итак, тот, кто боится, сокрушается или гневается, тоже беглец» (10, XXV). Природа, веленьям коей должен повиноваться человек, – есть единство и целость, которое не может быть дано в чувственном опыте отдельного человека (11, V); выражаясь термином Д. Бруно и Спинозы, это скорее natura naturans, чем natura naturata[19]19
Природа творящая, чем природа сотворенная (лат.).
[Закрыть]. Это единство не только разумно – оно божественно.
Догматизм религиозный присущ «Размышлениям» не в большей мере, чем догматизм философский. «В теологии, – говорит Ренан, – Марк Аврелий колеблется между чистым деизмом, политеизмом, истолкованным в физическом смысле, как его истолковывали стоики, и своеобразным космическим пантеизмом. Он не держится за одну гипотезу более, чем за другую, и пользуется безразлично тремя словарями – деистическим, политеистическим и пантеистическим». Ни один не может притязать на исключительное право раскрытия людям божественной тайны. Одно представлялось Марку Аврелию несомненным: наличность в мире божества; атеизм противоразумен. «Вопрошающим: «Где ты видел богов или откуда узнал об их существовании, что так ревностно почитаешь их?» – отвечай: ”Во-первых, боги доступны и зрению. Далее, души своей я тоже никогда не видал и, однако же, чту ее. Точно так же и относительно богов: испытывая беспрестанно проявления их силы, я узнал из этого об их существовании и преклоняюсь перед ними“» (12, XXVII).
Но что представляют эти боги, являются ли они лишь аспектами созидающего разума – σπερματικός λόγος[20]20
Сперматические начала (греч.) – в философии стоиков содержащиеся в первичной материи принципы образования вещей.
[Закрыть], о котором учили стоики и на который часто ссылается Марк Аврелий? Несомненно, мы найдем у него тенденцию к монотеизму. Если мир един, то един наполняющий его бог, един и общий закон, едина и истина (7, IX). Учение о посредниках между божеством и человеком, та демонология, которая так принялась на почве религиозно-философского синкретизма, остается ему чуждой. Общение человека с божеством осуществляется прежде всего самопознанием, а затем и молитвой. По-видимому, для Марка Аврелия первое может заменять второе: молитва есть ее лишь словесное выражение внутреннего чувства, и как таковое она должна быть проста и свободна наподобие приводимой им молитвы афинян о дожде (5, VII).
Но как примирить молитву со всеобщим предопределением? Это трудность, непреодолимая лишь для религиозного утилитаризма. В глазах Марка Аврелия молитва есть символ покорности человека миру, а не средство изменить его вечный ход. Мудрый и в молитве может лишь сказать природе: «Дай, что хочешь, и возьми, что хочешь» (10, XIV) – слова, которые так напоминают обращение Августина к Богу: «Da mihi quod iubes, et iube quod vis»[21]21
«Дай мне, что пожелаешь, и пожелай, что сочтешь нужным» (лат.).
[Закрыть]. Такое обращение понятно, если божество или боги не являются простыми равнодушными зрителями мирового процесса – место, которое им соглашалась отвести эпикурейская теология. Обычная у Марка Аврелия дилемма – слепой случай или разумная необходимость – выражается иногда в утверждении или отрицании божеского промысла. Второе нечестиво, ибо при нем падает смысл всего культа, как смысл молитвы, но оно логически допустимо и не устраняет этической самодеятельности человека (6, XLIV). Сам Марк Аврелий, однако, решительно принимает первое – и поэтому для него сливаются задачи космодицеи и теодицеи. Зло, которое мы видим в мире, не оправдывает ропота ни на природу, ни на богов: богоборство не только Манфреда и Каина у Байрона, но и Прометея в стихотворении Гёте, апеллирующего от жалких и эгоистичных небожителей к всемогущему времени и вечной судьбе, должно быть признано возмущением против самого времени и самой судьбы. Марк Аврелий далек от обычных ссылок на целесообразность природы, устроенной к услугам человека; он чужд здесь всякого антропоморфизма и отнюдь не склонен изображать человеческую действительность в сколько-нибудь розовых красках. Но страдание и зло для нас перестают быть таковыми, если мы себе представим всю бесконечную эфемерность нашего существования в потоке целого: космическая справедливость несоизмерима со справедливостью человеческой – но она есть справедливость. В самых наших жалобах, обращенных против богов, мы предполагаем их благую природу: иначе сетовать на них было бы столь же безумно, как сетовать на бездушные атомы (12, V). Марка Аврелия не удовлетворила бы теодицея, которая дается в Книге Иова и которая выводит всемогущую божественную волю за пределы добра и зла – и добро и зло суть как бы лишь установления этой воли. Мораль имеет некоторое самостоятельное существование от религии; она возможна и при скептицизме, хотя последний для нее – неблагоприятная почва: как говорится в платоновском «Эвтифроне», святое не потому свято, что его желают боги, а потому его и желают боги, что оно свято. Поэтому для Марка Аврелия не требуются религиозно-метафизические постулаты в смысле Канта.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?