Текст книги "Россия и ислам. Том 1"
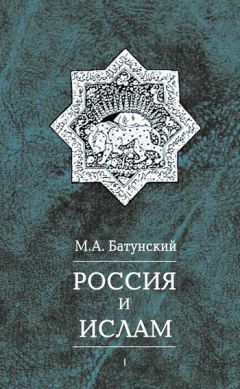
Автор книги: Марк Батунский
Жанр: Религиоведение, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Глава 3
Российское государство и ислам: поиски эмпирического и концептуального компромисса
1. Русская общественная мысль обосновывает внешнеполитическую активность Российского государства на балканском участке «мусульманского фронта»В условиях интенсивной политизации и реполитизации русская общественная мысль напряженно искала любые концепции, любые смысловые и символические структуры для обоснования внешнеполитической активности государства на гигантском «мусульманском фронте», в частности на его балканском участке.
Именно с событиями 1480 г. Л.В. Черепнин связывает столь интересный литературный памятник, как повесть («История») о взятии турками в 1453 г. Константинополя (Царьграда).
Это произведение дошло в двух редакциях. Одна из них представлена списком Троице-Сергиевой лавры начала XVI в.1, другая известна по большому количеству списков XVI–XIX вв.2.
Первая редакция – наиболее полная – начинается с рассказа об основании Царьграда и пророчества о его дальнейшей судьбе. В ряде списков второй редакции этот рассказ выделен в особое произведение. Только в первой редакции (она – более ранняя и относится, по мнению большинства исследователей, ко второй половине XV в.) имеется краткое послесловие, в котором как об авторе «Истории» говорится о некоем Несторе Искандере, турецком пленнике, русском по происхождению, вынужденном принять ислам.
По вопросу о происхождении первой редакции в советской историографии существуют две разные точки зрения.
Согласно Н.А. Смирнову3, основу памятника составили записки Нестора Искандера о взятии турками Царьграда. В дальнейшем они были дополнены рассказом об основании этого города, предсказаниях о его будущем, о молитвах, читавшихся греками в дни осады, а также сообщениями о различных видениях. По мнению же М.О. Скрипиля, «История» по списку Троице-Сергиевой лавры XVI в. есть произведение одного автора – Нестора Искандера, писавшего по-русски. Оно отличается цельностью и единством, которые обнаруживаются в «историософии, строе идей, композиции, художественно-образной системе, фразеологии, языке». В задачу автора, утверждает Скрипиль, входило «так написать историю Царьграда – историю его прошлого, настоящего и будущего, – чтобы была очевидна предопределенность его исторического бытия, так как только при ней сохранялась надежда на его возрождение»4.
Черепнин присоединяется к позиции не Скрипиля, а тех, кто подчеркивает сложноструктурный характер «Истории». Он выделяет в ней прежде всего два пласта: 1) общие размышления о судьбах Царьграда в плане исторической концепции, выводящей причины перемен на всемирно-исторической арене из борьбы христианства и ислама («бусурманства»); 2) конкретные картины защиты населением Царьграда своего города от мусульман5.
Уже в начале «Истории», где говорится об основании Царьграда и описывается сопутствующее этому факту знамение (борьба орла со змием, причем первоначально змий победил орла, затем христиане убили змия и освободили орла), – проводится одна главная мысль: будущее Царьграда решится исходом христианомусульманской конфронтации. Ведь орел – «знамение крестьянское», змий – «знамение бесерменское». И раз змий сначала взял верх над орлом – значит, на какое-то время «бесерменство одолеет христианство». Но поскольку христиане убили змия, «а орла изымаша», постольку, следовательно, «напоследок» христианство «одолеет бесерменство» и «седмохолмаго (т. е. Царьград) приимут, и в нем въцарятся»6.
Тот же оптимизирующий мотив7 звучит и в конце «Истории»: Царьград завоеван турками. Исполнилась первая часть пророчества. Турецкий султан, «беззаконный Магумет», «седе на престоле царства благороднейша суща всех иже под солнцем». Но должна свершиться и вторая часть предзнаменования, имевшего место при закладке Константинополя, – конечная победа в борьбе с исламом останется за христианством: «Русии же род с прежде создательными всего Измаилта победят и седмохолмаго приимут с прежде законными его, и в нем въцарятся и судрьжат седмохолмаго Русы…»8. Здесь речь идет уже не только о реставрации глобально-доминирующей роли христианства, но и, главное, о переходе этой роли к Русскому государству как центру противостояния «бусурманству»9.
И хотя турецкая агрессия отнюдь не грозила непосредственно России, тем не менее задача свержения в третьей четверти XV в. другого ответвления мусульманского владычества – татарского, заставляла, учитывая далеко идущие планы московских правителей10 (планы эти стали еще более честолюбивыми после того, как в 1485 г. Иван III принял титул «государя всея Руси»11), уже заранее внимательно вглядываться в дела Балкан12. И поэтому кажется вполне обоснованной следующая мысль Черепнина: «Нет ничего невероятного в том, что и создана-то «История…» была на Руси тогда, когда происходила ее последняя схватка с Большой Ордой, во время нашествия Ахмед-хана в 1480 г. Не вышла ли эта «История…» из тех же церковных кругов, из которых вышло «Послание» к Ивану III ростовского архиепископа Вассиана?»13 Ведь в обоих памятниках излагаются, напоминает Черепнин, одинаковые идеи. Когда Вассиан называет Ивана «во царях пресветлейшим», он логически продолжает мысль «Истории». Троном византийских императоров, престолом «царствиа благороднейша суща всех иже под солнцем» завладел «беззаконный» турецкий султан. Теперь лишь московский великий князь является «боголюбивым и вседержавным царем», защитником «хрестьянства от бесерменства»14.
И остальные высказывания автора «Истории», продолжает развивать свою гипотезу Черепнин, вполне гармонируют с теми советами, которые дает Ивану III Вассиан15. В итоге Черепнин приходит к следующему выводу: в 1480 г., когда на Русь двинулись войска Ахмед-хана и когда колебались не только некоторые бояре, но и сам Иван III16, идти ли в бой или нет, именно тогда «в церковных кругах, близких к архиепископу Вассиану, была составлена повесть о взятии турками Царьграда в 1453 г.». События турецкой осады и завоевания Константинополя рассматривались в «Истории» как один из важных этапов в сопротивлении Византии и славянских стран наступлению восточных завоевателей, в вековой борьбе «христианства» с «бусурманством»17. Проводилась идея о том, что с падением Византии руководство этой борьбой переходит к Руси18. И «между строк можно было прочитать: хотя Византия и пала, но пример ее сопротивления врагу следует использовать»19.
Еще в 1472 г. Иван III20 заключил брак с Софьей Палеолог21, что имело большое значение для престижа России в целом22, а также для ее церковно-политической борьбы не только с Литвой и Польшей, но и в Сербии, Болгарии, Венгрии, в образующихся дунайских княжествах23 и, наконец, на других восточных флангах, которые (теоретически, по крайней мере) интегрировались одним и тем же понятием – Ислам.
Как отмечалось выше, «травмирующим эпицентром» его переставали быть татары24. И хотя суггестивной мощи самого этого слова надолго суждено было оставаться первенствующей25, тем не менее уже тот факт, что исчезла угроза иметь ордынцев в качестве, так сказать, постоянного зрительного стимула, надо счесть воистину фундаментально-важным и для внутренней26 и для внешнеполитической жизни России27.
Интеллектуальное пространство как бы освобождалось для того, чтобы:
– термин «Восток» мог существовать в разных смыслах, в разных функциях, на разных семантических уровнях в структуре как специализированных, так и популярных языков культуры;
– чтобы в единой, казалось бы, и непреклонно-догматической системе конкретно-чувственных образов и абстрактно-логических схем, в совокупности своей направленных на создание однозначно толкуемого образа Врага, получили возможность сосуществовать (и даже соединяться) несколько, кажущихся взаимопротивопо-ложными подходов уже и к «чужим поганым»28, к поволжским, кавказским и азиатским «язычникам», христианским и мусульманским народам и государствам.
Пути к ним (в том числе, например, на Кавказ)29 были известны издавна, и даже сохранились довольно значительные фрагменты соответствующей информации. Однако с момента ее производства вплоть до момента ее потребления прошло настолько много времени, что она уже фактически лишилась своей прагматической ценности. Этот «темпоральный барьер» – наряду, конечно, с целым рядом других (языковые, политические и пр.) и особенно вкупе с тем обстоятельством, что в период монгольского владычества в русской культуре, по сути дела, уже не было модели ислама, – крайне осложнял описанную выше внешнеполитическую ситуацию. Ведь она требовала разных режимов функционирования русской30 дипломатии и политической мысли31 и, следовательно, разных функциональных схем их деятельности в разных регионах мусульманского мира. Ведь даже если и брался, как правило, «знаковый барьер», если и бывала вскрыта «знаковая оболочка» теми или иными переводчиками, то все равно трудности достижения более или менее глубоких знаний об исламе оставались громадными. Тут-то как раз и имела место ситуация, «когда все (или почти все) слова знакомы и понятны, понятны и соединения слов, синтагмы, в целом же смысл остался неясным»32, ибо в информации идет речь о вещах, для понимания которых необходим тезаурус, т. е. определенный запас предварительных сведений, знаний об объекте33.
Но было ли в XIV в. какое-то подобие концептуального аппарата, столь необходимого для понятийного закрепления онтологических схем, для – пусть и минимальной хотя бы – формализации «христианской теории ислама» и, наконец, для осуществления их связи с практической (миссионерская, дипломатическая, инокультуры-познающая) деятельностью?
Конечно, некоторые реликты по крайней мере всех трех компонентов этой «христианской теории ислама» – онтологических схем, теологического и концептуального аппаратов34 – сохранились. Но ни каждый из них в отдельности, ни даже все они вместе никак не смогли бы добиться сколько-нибудь адекватного описания функциональных и морфологических характеристик того или иного объекта из громадной и пестрой цепи, именуемой Исламом.
Обратимся в качестве доказательства справедливости нашего тезиса к отчетам XV в. о «хожениях» в Святую Землю, – отчетам, составленным представителями (притом порой довольно видными) церковно-интеллектуальной и светской элиты и потому просто обязанных знать основные элементы касающейся ислама парадигмы, ее символические обобщения, ее определения, ее общепризнанные метафизические концепции, ее предписания и аксиологические установки.
Вот один такой пример. Инок Зосима около трех лет (с 1419 по 1422 г.) провел в Палестине и счел нужным в своем «Хожении»35 сообщить лишь о том, как именуют Бога разные народы: «А се Богу имена: жидовские Аданаи, арапские36 — Гаала, греческий Теос, арменскии Арствич, татарский Тенгрии1, русский Бог». Но не следует делать вывод, будто Зосима отказывается видеть в татарах мусульман, изображая их поклонниками тенгрианства.
Здесь нам придется вернуться к любопытным семантическим признакам слов «мусульмане», «бесермене», «татары» и их разных порой значений в различных системах описания.
В. Водов отмечает38, что слово «бесермены», то есть этимологически «мусульмане»39, и образованные от этого существительного прилагательные не применяются в княжеских грамотах к золотоордынским татарам; для этого оперировали словами «татары» («А имут нас сваживати татарове…»40) и «Орда» с образованными от них прилагательными. Термин «бесермене» по отношению к татарам употребляется исключительно в летописях41, да и то не всегда последовательно, а также в памятниках церковного происхождения42. Однако не следует придавать этому факту излишне большое значение, объясняя его тем, что мусульманство сравнительно поздно завоевало в Золотой Орде положение господствующей религии43.
Как множество раз отмечалось выше, массовое сознание еще до исламизации Золотой Орды подвело татаро-монгол под категорию «мусульмане», именуя их «агаряне» и «исмаильтяне»44и т. п. И если действительно вначале, как доказал М.Н. Тихомиров45, термин «бесермене» часто означал камских и волжских булгар (хотя, как верно замечает Водов, он же прилагался и к татарам46, несмотря на то что, как было сказано, вовсе не употреблялся в княжеских грамотах по отношению к золотоордынским ханам), то с конца XIV в. «бесерменами» именуются и турки47. «Люди турские» – прежде всего «басурмане»48, и борьба с ними есть святое христианское дело (так, в «Исторической» повести о взятии Азова в 1637 г. этот акт представлен как богоугодный, целью его явилось не только освобождение исконно христианского города, но и – в перспективе, по крайней мере, – движение на Царьград и даже Иерусалим49).
Что же касается инока Зосимы, то он, скорее всего, имел в виду домусульманские верования тюрков.
Но все же представляется необходимым именно здесь обстоятельно осветить в историко-этимологическом плане вопрос о – я тут почти буквально воспроизвожу название только что упомянутой (и, замечу сразу же, весьма информационно насыщенной) статьи Благовой – словах басурманин – мусульманин и магометанин– мухаммеданин.
Как и западное, русское востоковедение подчас знавало, как отмечал в свое время Н.К. Дмитриев, по нескольку фонетических вариантов одного и того же ориенталистического термина, личного имени или другого наименования50. Эти варианты конкурировали между собой с переменным успехом в разные периоды развития востоковедения51, пока наконец в результате научного отбора не утверждался один из них52.
И первая, и вторая пара изучаемых Благовой слов – «басурманин-мусульманин» и «магометанин-мусульманин (мухаммеданин)» основываются на словоупотреблении, реально существовавшем в языках народов мусульманского мира. В основу этих двух пар легли слова муслим и мухаммади (му’мин) с приблизительно одинаковым значением, но резко различающимся кругом распространения: первое применяется для наименования всех исповедников ислама53; второе зачастую обозначало различные мусульманские «еретические течения»54. Слово муслим, которое не могло не претерпеть известных трансформаций у разноязычных мусульманских народов, имеет свою историю на Востоке: от муслим «было образовано на персидской почве множественное число муслиман, откуда пошли потом формы мусуlман, мусуlман и т. п.»55. Попадая в многоразличные тюркские диалекты и языки, это слово как бы преломлялось сквозь фонетическую призму56: в простонародном турецком языке зафиксировано, например, мÿ сÿрман, в татарских диалектах и в хотонских записях Потанина – мусурман57, в кумыкском и киргизском – бусурман58; надо напомнить еще и о современных бесермянах тюркского происхождения, говорящих на одном из удмуртских диалектов59. Последние формы с разными огласовками характерны для так называемых «бэкающих» тюркских языков. Мелиоранский, анализируя эти формы – в том числе слово «бесурменин», дважды встретившееся ему в Ипатьевской летописи под 1184 г., – делает вывод, что «формы «бесурменин, бесерменин, бусурман» или «басурмане» русские могли получить в таком или очень близком виде от половцев (что вероятнее), и от болгар (т. е. булгар. – М.Б.)…60».
На весьма различные языковые источники этого слова, отмечает Благова61, указывает самое многообразие его наиболее ранних фонетических вариантов – басурман при этом оказывается, по-видимому, наиболее поздним62. Морфологическое освоение данного слова русским языком63 также знало колебания: наряду с вариантами бесермен // бусурман и прочими рано употребляются формы с суффиксальным наращением – ин (бесурменин – 1184 г.). Для множественного числа Преображенский («Этимологический словарь». С. 572, где все содержание статьи «Мусулmманин» сведено к отсылке к слову «басурман») фиксирует басурманы и басурмане (сравни еще бессермени). Согласно Мелиоранскому, «слово64 это, являющееся также в нескольких близких по звуку вариантах и в позднейшем русском языке и сохранившееся до наших дней, значит, бесспорно, первоначально «мусульманин»65. Именно с этим значением употребляются и производные этого слова: бесерменъство (мусульманство) в «Хожениях» Афанасия Никитина, в «Актах исторических» («Посылает везде… как всюды во христианство, так и в бесерменство»66); в Палее XIV в.67; в 1554 г. говорили о «бусманских царях»; в 1556 г. – об «иге бурманском» (имея в виду нападение крымских ханов на Литву); при перечислении различных «иноверных народов» в «Повести о царе Федоре Иоанновиче» встречаем и Аравития и Бессермени68. В книжный язык почти современный вариант попал из восточных письменных источников довольно рано69. Но лишь с XVIII в. – когда появляются французский перевод Корана и труд Дмитрия Кантемира об исламе и специальная литература начинает уверенно ориентироваться на книжные традиции Востока – в русском книжном языке, а потом и в обиходной речи закрепилась «нейтральная» в своей близкой соотнесенности с оригиналом – мусульманин. Между тем слово «басурман // басурманин» приобрело оттенок враждебности, недоброжелательности в наименовании мусульманина70 (произошло также расширение первоначального значения – до враждебно-недоброжелательного наименования вообще иноверца, иноземца).
Приведу соображения и других исследователей – в первую очередь Т.И. Тепляшиной, которая в целом твердо поддерживает гипотезу М.Н. Тихомирова об этнониме бесермяне. Между тем в русской историографии давно уже стала как бы аксиоматической точка зрения, согласно которой бесермяне — это измененное слово басурманы или бусурманы, в допетровской Руси и позднее употреблявшееся в значении «иноверец» вообще и «мусульманин» в частности 71.
Не вдаваясь в освещение последующей истории вопроса72, отметим (вслед за Тепляшиной73), что (как доказал Тихомиров) нельзя отождествлять этноним бесермен с термином «басурмане»74, ибо:
– с XVII в. термин «бесермяне» устанавливается для обозначения особой народности, которая прежде именовалась чувашами. Бесермян и позднее строго отличали от соседних с ними татар и удмуртов;
– этноним бесермяне (самоназвание бесерман) образован из двух составных частей: бесер и элемента ман75;
– этнический термин «бесермяне» (бесерман) в исторической литературе появился гораздо раньше, чем слово «бусурман». Русское слово «бусурман» или «басурман» (мусульман) стало известно позже, уже в период татаро-монгольского владычества в Поволжье. «Огульное отождествление в научном мире слова бусурманин с этнонимом бесермянин76 произошло позднее: ни сами бесермяне, ни соседящие с ними народы словом бусурман, бусурмане никогда не называли бесермян77. Слова бесермяне и бусурмане получили ложное переосмысление, которое принято именовать народной этимологизацией или народным толкованием»78.
Читателю, бесспорно будет интересна и добросовестно освещенная Благовой79 этимологическая история второго слова изучаемой пары80.
Оно также, входя в русский язык81, имело ряд вариантов – не только фонетических, но и отражавших его употребление среди различных исповедующих ислам народов (сравни обусловленные собственно арабской традицией муслим и его вариант – с необоснованным удвоением – мусслим с одной стороны, и тяготеющие к иранской и тюркской традиции варианты муслиман, мусульман наряду с заимствованным из западной передачи музулман, или музульман).
Как и в отношении бусурман, имеют место колебания в морфологическом освоении слова: при наличии давнего моусоульманин параллельно употребляются формы с суффиксальным нарастанием и без него – муслиман и муслиманин, мусульман и мусульманин (причем мусульман встречается довольно поздно – в языке Пушкина82). В начале XVIII в. – женский род еще образуется посредством суффикса – ыня – мусульманыня, при более позднем мусульман-ка; в XVIII в. встречается и в русской словообразовательной модели (мусльманство по типу давнего бессерменьство), и в западноевропейской («мусульманисма» в «Полной картине Оттоманския империи…» д’Оссона. Пер. с фр. СПб., 1795).
Очень любопытна и судьба имени основателя ислама Мухаммада (но такое чтение наиболее близко его арабскому оригиналу; в русском же востоковедении утвердилось чтение с палатальной огласовкой последнего слога – Мухаммед).
Не имея непосредственных контактов с арабами, русские услышали имя их пророка в ходе контактов с неарабскими (тюркскими в основном83) мусульманскими народами, по-своему аккомодировавшими это слово. Касаясь данного сюжета, Мелиоранский писал: «Имя арабского пророка Мухаммеда или Мохаммеда в Переяславской летописи имеет форму Магмет («закон Магметев» на стр. 4), когда речь идет о половцах, но когда речь идет о болгарах84 (стр. 18) появляются формы Бехметевы (веры), Бохмету, Бохмит и т. д… Весьма возможно, что сами болгары (булгары. – М.Б.) произносили вместо Мохаммед – Бохмет. Русские вообще знали это собственное имя в нескольких формах. В «Слове о законе и благодати» (митрополита Иллариона. – М.Б.) Моамед и Бохмит считаются даже, по-видимому, двумя различными лицами»85.
Точно так же основатель ислама «как бы раздвояется86 (хотя на самом деле в общем-то твердо имеется в виду лишь один человек. – М.Б.)» и (в возводимом Крачковским к позднему греко-византийскому источнику) в таком памятнике, как «Чин изложение известнейшее о сем, како подобает приймати приходящих от иноверных от жидов или от срачин» (в псковском списке конца
XVI в.) читаем: здесь проклятия произносятся на «Моамеда и Бахмета, его же срачини чтут яко апостола божия и пророка», а также: на «нарицаемую Кору (т. е. Коран. – М.Б.), сиречь все писание Моамедово»87.
Книжный язык русского средневековья пестрит и множеством фонетических разночтений имени мусульманского пророка. Уже в «Начальном Своде» и «Повести временных лет» он фигурирует (под 986 г. в рассказе Философа) как Бохмит (как полагают, этот рассказ связан с переделкой фрагмента из хроники Георгия Амартола IX в.; чтение Бохмит зафиксировано в ее переводе, сделанном в конце первой половины XI в.88).
В XVI в. этот вариант зафиксирован уже без губной огласовки, более соответствовавшей оригиналу89 (см. приведенный в Русском хронографе первой редакции (1512 г.) тот же фрагмент из хроники Амартола о «Бахмете еретице…»), а в обличениях против еретика Феодосия Косого (середина XVI в.) говорится, что «восток развратил диавол Бахмет»90. Соответствующие историко-этимологические91 данные92 о последующих десятилетиях я приведу позже, пока же зафиксируем следующее.
Смысловая оппозиция христианство // ислам выполняла высоко моделирующую функцию и в русской культуре XV в., независимо от того, широко или нет шла в ее языковую ткань экспансия ориентализмов, некоторые из которых могли бы со временем толковаться либо в «нейтралистском», либо в тотально-отрицательном плане. Несмотря на то что в Русском хронографе (см. выше) об исламе говорится как о ереси, этот сюжет, как я подчеркивал выше, не получил никакого сколько-нибудь серьезного развития в старорусской профессионально-богословской и светской литературе93, точно так же – вновь выделю крупным планом и данную деталь – все то, что было связано с личностью и деяниями Мухаммеда. Шла ли речь о собственно исламе или – намного реже – о его пророке, всегда почти соответствующий знак в его объективном, «словарном» значении обретал традиционно-метафорическое значение «насилия», «жестокости», «лжи», «дьявольщины» и т. п. В лексическом значении он неизменно (чему я приводил примеры в главе I) парадигматически сопоставлен с «мраком», «темнотой», «мглой», т. е. с очень активным в поэтике русской средневековой литературы рядом. В смысловой структуре значения знака «ислам» (независимо от его временных разночтений) безусловно преобладает семантический элемент – «тьма»; на синтагматической оси он сочетается со смыслами, актуализирующими инвариантный признак «тьма»; лексико-семантическое поле содержит лексемы с негативной эмоционально-экспрессивной окраской (мусульмане – «подлые», «поганые», «сыроедцы», «обманщики» и т. п.). Короче говоря, пущено в ход все для того, чтобы создать образ враждебного, мрачного, неизменно готового нанести коварный удар скопища варваров94 и чтобы сам термин «Ислам» воспринимался во всех контекстах как своеобразная метафора. Этим крайне затруднялась возможность того, чтобы знак «Ислам» мог терять хотя бы малую часть своего семантического наполнения и обрастать побегами новых смыслов95.
Сказанное, однако, не исчерпывает сути дела.
Русская культура конца XV в. неоднородна96, нестабильна – вследствие асимметрии между ее элементами. Функционирование каждого из них различно: для одних характерна высокая степень константности; другие, напротив, отличаются вариативностью, что порождает «маргинальные зоны» – именно там чаще всего генерируются и хранятся варианты, способные дать социуму выход из самых что ни на есть запутанных ситуаций, в том числе и тех, которые прямо касались межконфессиональных контактов.
Речь идет о тех сферах «высокой» культуры, которые уже по самому своему формальному статусу, по самому своему сугубо специализированному назначению вовсе не обязаны в «полном виде» репродуцировать набор стандартно-идеологических установок и символов и потому обретающие крупную степень вариативности97.
Вернемся поэтому к анализу сочинений русских путешественников и паломников на Ближний Восток.
* * *
Спустя несколько десятков лет после Зосимы, в 1456 г., те же места, что и он, посещает еще один путешественник – Варсанофий. В своем «Хожении»98 он упоминает, что в Рамле «людии множество живет, сириане, и хресиане, и сорочинове», – пассаж, интересный, пожалуй, всего-навсего выделением сирохалдеев из общей массы палестинских арабов-мусульман и христиан (потому-то его можно интерпретировать и как стремление русского правительства обстоятельней разобраться в различных деталях эволюционирования ближневосточного христианства).
Через 10 лет, в 1465-66 гг., в арабских странах побывал «гость» («гостями» назывались русские купцы, которые вели заграничную торговлю) Василий. Он преодолел чрезвычайно трудный и опасный сухопутный маршрут через Малую Азию на Халеб – Хаму – Хомс – Дамаск – Газу – Иерусалим – Каир и тем же летом обратно. О Василии «ничего не известно, но пристальное его внимание к градоустройству и фортификации (вспомним об игумене Данииле!99 – М.Б.) заставляет думать, что путешествие Василия по Передней Азии и Египту не ограничивалось паломническими целями»100 (даже этноконфессиональные данные он сообщает исключительно как разведчик101). В том же примерно духе действовали многие другие русские официальные и неофициальные представители, паломники, путешественники на Ближний Восток102, в отчетах которых «ясно проступают и внешнеторговые, и военно-дипломатические цели»103.
Но такой узкоспециализированный подход104 закрывал пути для трезвого гносеологического осмысления реальной структуры ислама – сколь бы ни была она далека от логической самосогласованности и как бы ни раздиралась внутренними противоречиями. Да и содержавшиеся в соответствующих документах факты были все же весьма скудны и неоднозначны105, что должно было заставить прибегать к независимым от объективного наблюдения регулятивно-методологическим установкам. Они же так или иначе исходили из того, что обозреваемый в глобальном масштабе мусульманский мир – исключая не имевшие, как казалось, принципиальной значимости локальные неоднородности – однороден, изотропен, стационарен, причем в первую очередь именно как концентратор Зла106 (даже если в целом ряде «Хожений» нет на сей счет каких-либо развернутых деклараций). Все возможные реакции на Ислам по-прежнему должны были бы быть крайне эмоциональными и – хотя бы в перспективе – полярными: семантическому полю суждений надлежало располагаться вдоль одной оси измерений. Значит, выработалась бы функционально полноценная, вполне определенная и одинаковая для всех система оценок (опять-таки, повторяю, независимо от того, с каким знаком – отрицательным или положительным – трактовалось бы определенными лицами это верование).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































