Текст книги "Россия и ислам. Том 1"
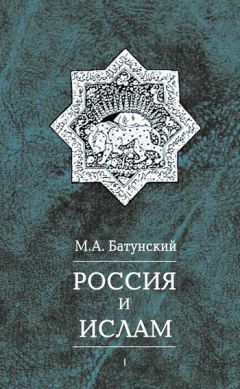
Автор книги: Марк Батунский
Жанр: Религиоведение, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Диалог 5
Империя на излете
Пролегомены:
– Дистанционирование друг от друга прагматических мотивов отрицательных (антиисламских) идеалов и нормативов повышало значение саморефлексии, сложных сцеплений индивидуальных результатов познания мусульманского мира и устойчивых стереотипов, ставивших барьеры как перед абстрактно-рассудочными, так и интуитивно-эмоциональными его репрезентациями.
Перевожу в другую систему слов: на смену пониманию ислама как безнадежно отрезанного от христианства и потому пугающего нас инобытия (псевдобытия, небытия) вырабатывается в русском сознании позиция для возможного диалога.
Три мыслителя помогают нам понять драматичный ход этой работы: Данилевский, Леонтьев и Достоевский.
Данилевский вносит в этнологическую проблематику приемы естествоиспытателя: все у него причинно, все природно, все подчинено объективным законам. Иногда эти законы заносят нас туда, откуда довольно трудно вести диалог, особенно в свете дальнейшего опыта. Например, что «племена, входящие в состав империи и имеющие право на ту же степень личной, гражданской и общественной свободы, как господствующая исторически народность (то есть как русские. – Л.А.), но не на политическую самостоятельность; ибо, не имея ее в сознании, и потребности в ней не чувствуют и даже чувствовать не могут» (а если могут, если чувствуют? – Л.А.). Или: что кавказские горцы – «природные хищники и грабители» (как дальше вести диалог? – Л.А.).
Однако логическая последовательность приводит Данилевского к признанию некоей естественной (природной?) глобальной целостности, единой для всего человечества.
В языковой системе Батунского это выглядит так:
– Отвергается имманентная традиционному европоцентризму стойкая дихотомичностъ образно-концептуальных моделей западного и незападного социумов.
Говоря по-нашему: Россия – это вам не Европа, но и не Азия, это нечто самобытное и самодостаточное.
Тут, правда, Данилевского покидает невозмутимость естествоиспытателя: его «пробирает дрожь» при мысли о межеумочном положении, в котором рискует оказаться Россия, и мы сегодня можем его понять: страна, утратившая положение великой державы, мечется «меж станами», ища себе место в подступающей геополитической схватке. Но тут Данилевский-ученый помогает Данилевскому-гражданину сохранить самообладание: как истый натуралист, описывающий отряды и классы исследуемого мира, он намечает десяток культурно-исторических типов: от египетского до романо-германского (среди этих десяти, заметим, нет мира русского – Россия, как мы видели, застряла в «промежутке», от которого Данилевского брала дрожь). Но сам факт сосуществования равнодостойных культурно-исторических типов оказывается в конце концов главным открытием Николая Данилевского, и именно это подхватывают у него Арнольд Тойнби, Лев Гумилев, а в наши дни – Сэмюэль Хантингтон с его грядущим противостоянием цивилизаций.
Нам, однако, интересна в «промежутке» между цивилизационными «типами» судьба России. Ее судьбу естествоиспытатель вычисляет, исходя из того, что культурно-исторические организмы, как и все живое, рождаются, растут, дряхлеют…
Ислам дряхл – вот на что надеется Данилевский. Мусульмане оказали нам «невольную и неоценимую услугу», оградив нас как православных – от напора латинства и как славян – от поглощения романо-германством. И мы, русские, должны теперь сделать то же, что немцы тысячу лет назад: те создали Западную Римскую империю германской национальности, мы должны создать Восточную Римскую империю славянской национальности…
Марк комментирует:
– Борьба с исламом – предлог, и только… Это видимость борьбы, маскирующая собою истинную борьбу – славяно-греческий отпор романо-германской Европе.
В ситуации, когда Пруссия впервые осознает свою силу и готова нокаутировать Францию (труд Данилевского «Россия и Европа» опубликован в 1869 году), подзаголовок его – «Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к романо-германскому» – звучит более чем актуально. Но мы сегодня извлекаем из него (помимо десяти «типов») иные мотивы. Именно – первые реплики возможного диалога равных собеседников: России и ислама.
Правда, общий подход Данилевского ко всечеловеческой истории как к «полю», на котором расцветают все цветы, подвигает его к предсказаниям, от которых современных политиков, наверное, тоже пробирает дрожь: появятся, обещает он, «молодая Армения, молодая Грузия, а может быть, народятся и молодая Мордва, молодая Чувашия, молодая Якутия, молодая Юкагирия…».
На Юкагирии Марк прерывает цитату, а заодно и дрожь, с удовлетворением напоминая нам, что таким образом Данилевский освобождает русскую мысль от западоцентризма. Спасибо.
Следующий герой – Константин Леонтьев.
Его схема такова. Мы, «загадочные славяне-туранцы», зажаты с двух сторон – Азией и Западом. В Азии нас подстерегают свирепо-государственный исполин – Китай и мистическое чудище – Индия, но не они нам страшны. Страшны нам (собственно, не нам, а Леонтьеву) те «жалкие помои великорусской либеральности», которые хлещут в Россию через бреши и подкопы, сделанные железной рукой Петра I.
Данилевский боялся немцев – Леонтьев боится отечественных либералов. Мы, русские, более всех иных российских подданных – «европейцы в худом смысле этого слова, то есть медленные разрушители всего исторического и у себя, и у других». Русские – вот главные вредители России. «Русификация окраин есть не что иное, как демократическая европеизация их». То есть порча. И если ислам препятствует русификации (а он ей препятствует), то тем самым он спасает нас от всеевропейской либеральной чумы. Слава Богу, «мусульманским народам либерализм прививается трудно».
Как видим, и здесь взаимодействие с исламом в первом приближении – только предлог, маскировка и прикрытие отчаянного отпора, на сей раз – либерализму.
Отпор, однако, коллективный; его дают, по Леонтьеву, «русский старовер и ксендз, и татарский мулла, и самый дикий, злой черкес»; они «лучше и безвреднее» для нас, чем наши «единокровные демократы-либералы».
Марк комментирует это со своей точки зрения:
– Леонтьев тяготеет к совсем иной модели – модели комплиментарного взаимодействия русского и «инородческих» консерватизмов, обеспечивающей возможность процессов их, говоря наисовременным научным языком, репликации, транскрипции и трансляции как первейшего условия в поединке с «источником глобальной заразы» – романо-германской Европой. Если изложить все эти воззрения Леонтьева в иных терминах…
О, каждый раз, когда Марк переводит разговор из одной системы терминов в другую, я испытываю чисто филологический восторг.
– …Если изложить все эти воззрения Леонтьева в иных терминах, то можно утверждать: он стремился трансформировать Россию таким образом, чтобы она функционировала как сложная, самоуправляющаяся система. Точно такие же атрибуты следовало предоставить и ее составным частям, чтобы каждая из них являла себя в качестве некоей бесструктурной протоплазмы, способной, однако, с течением времени расти, размножаться и, главное, уклоняться в нежелательном с точки зрения и целого (Российской империи) и остальных компонентов направления…
То есть империя сделала свое дело и, как мавр, может уходить; сплотила народы и пусть себе распадается; главное – принципы, которыми оперирует Леонтьев:
– Леонтьев оперирует в первую очередь принципом интегратизма, т. е. восхождения от отдельных конфессионально-этнических единиц и всевозможных связей между ними к целостной государственно-идеологической конструкции со специфическим для нее «избирательным действием» по отношению к внешнему миру.
Интегратизм, то есть восхождение от отдельных этнических (и государственных) единиц к целостной конструкции, свойствен и исламу (конфессиональные оставляю богословам). Но чтобы осознать это в исламе, нужен именно диалог, а это не так легко. Даже с помощью Леонтьева.
Переходя к Достоевскому, осознаем опять-таки внешний толчок, заставляющий искать «прикрытия». Русско-турецкая война – вот что побуждает великого писателя объясняться на предмет христианско-мусульманского взаимодействия.
Избыток разноосновных суждений и противоречивых импульсов, терзающих при этом душу автора «Дневника писателя», побуждает Марка Батунского к следующему обобщению, которому я не могу отказать в проницательности:
– Я бы поостерегся определить суть историософии Достоевского какой-либо однозначной формулой (вроде бахтинской «полифонии») или даже обширным набором таковых. Она, эта суть, не поддается рациональному толкованию, формально-логическому анализу; она аморфна, беспредельна и в общем ничему не противостоит… «Всечеловечность» Достоевского – это такой туманный и неопределенный мыслительный конструкт, который позволяет предполагать, что, скажем, «российское» и «азиатское» могут быть взаимопроницаемы, могут находиться в единстве, присутствовать друг в друге – точно так же, как «российское» и «европейское». В круговорот, беспрестанно творимый «всечеловеческим» – хотя оно и должно ориентироваться лишь на православно-русский идеал, – включается то, что с точки зрения любого ортодоксального национализма, западо– или востоко-центризма и т. п., несопоставимо, суть явления разного порядка. Все, однако, оказывается взаимосвязанным, взаимообусловленным, подчиненным каким-то единым, хотя и трудно определимым (или просто-напросто никогда не могущим быть удовлетворительно выраженными) закономерностями. Это – вовсе не смена одного типа культуры другим, например азиатского европейским (или наоборот), в некоей временной и пространственной протяженности, последовательности, но скорее их одновременность, их постоянный взаимопереход, настолько, однако, бурный и многогранный, что в конце концов должны исчезнуть всякое противопоставлеие, всякое разделение, всякая дуальность.
Логики нет, но зато опять брезжит «принцип интегратизма». Русской всеотзывчивости, да еще рождаемой в чисто художественном, «пушкинском» варианте, этот принцип не только не мешает, но в высшей степени способствует. И даже вплотную подводит нас к тому пониманию ислама как «Своего Иного», на который уповает Марк (и я, грешным делом, тоже).
Правда, дорога в рай вымощена камнями преткновения, за все надо расплачиваться. Я уж не говорю, что великодушные обещания Достоевского предоставить казанцам право «продавать нам халаты», а потом и мыло – вряд ли встретят встречный энтузиазм у татар, – наверное, они предпочтут какой-нибудь свой вариант дневника писателя, кем-то другим написанного. Но что же прикрыто у Достоевского, что замаскировано этими халатами, что отмыто этим мылом?
Попробую ответить.
Предшественники Достоевского отважились сказать: Россия – это не Европа и не Азия. Федор Михайлович перевернул формулировку: Россия – это и Европа, и Азия. Что дальше? Дальше – вопрос о том, где кончается «наша земля». Нигде не кончается. «Где в Азии поселяется «урус», там сейчас становится земля русскою… Там наши богатства. Там у нас океан».
Вот и дошли до океана. «Устройте поток воде – и исчезнут плесень и вонь». То есть: переключите черную энергию Верховенского-младшего вовне – пусть он делает всю землю до Дальнего Востока нашенской. «И не опустеет Россия, не бойтесь».
Каково читать все это сегодня, когда в опустевшую Россию возвращаются из Азии выдавленные оттуда потомки «урусов», поверивших когда-то такому вот «не бойтесь»!
Не бойтесь! – продолжает успокаивать себя и нас Достоевский. Никогда в Азии не явится новый халифат, не воскреснет вновь фанатизм и не обрушится мусульманский мир опять на Европу.
А на Америку? – хочется переспросить…
А что, если неспроста успокаивает себя автор «Дневника…», неспроста нервничает? Конечно, в его время можно было успокоиться количеством ружей (уточнить бы: не ружей, а винтовок). Ну, пусть халифат и объявился бы «где-нибудь в азиатской степи, в песках; но чтоб низринуться на Европу, в наш век потребно столько денег, столько орудий нового образца, столько ружей, заряжающихся с казенной части, столько обоза, столько предварительных фабрик и заводов, что не только мусульманский фанатизм, но даже самый английский фанатизм (как видим, «фанатизм» Достоевский не склонен резервировать лишь за исламом! – комментирует Марк Батунский) не в состоянии был бы ничем помочь новому Калифату. Одним словом, решительно ничего не будет, кроме хорошего».
Обозы, фабрики и заводы – это, конечно, хорошо. А дюжины мешков гексагена, а дюжины автоматов в руках шахидов, а тысячи заложников не хотите? А пары самолетов, таранящих небоскребы? Нет, не зря, видно, нервничал классик на излете империи.
Вернемся к материям метафизическим.
«Ключи Вифлеемского храма служат только предлогом для достижения целей политических», – пишет Достоевский.
Батунский комментирует:
– Достоевский чужд (хотя, конечно, не во всем и не всегда) линейного, альтернативного мышления («или то, или это»), ибо оно не дает решения беспрестанно им выдвигаемых сложнейших проблем.
С проблемами мы и переходим в новое исторические время.
Эпилог
Умма
Переходя из века XIX в век XX – откочевывая из раскаленных песков практической исламистики, на которых так и не удалось построить ничего универсального, в академический оазис такого чистого востоковедения, где уже не противостоят друг другу непреклонные вожди полчищ и не перекрикивают друг друга отчаянные миссионеры, а в изложнице методологических основ мирно журчит когнитивная целостность, Марк, как может показаться, покидает поле боя, – но это не так.
Может быть, отпочкование «светского» исламоведения, отделившегося наконец от озлобленности дня, и было в XX веке самым красноречивым ответом безумию, спасением чистого знания от слепого невежества. Ибо если бы исламистика продолжала и в XX веке служить политической практике, то решать ей пришлось бы не конфессиональные и богословские вопросы, а куда более жесткие, например еврейский вопрос. Попробуем осмыслить ситуацию в иных терминах: очень было интересно: какой этнический элемент ислама ответствен за все его дела? Ирано-арийский? Арабо-семитский? Тюркский? Если учесть, в какие тона были окрашены в первой половине XX века понятия «ариец» и «семит» и какая в ту пору велась меж тоталитарными режимами борьба за «тюрок», – так это и лучше, наверное, что укрылись ученые под сень академизма и в ситуации меж двух мировых войн удержались от соблазна из «работников» культуры и науки превратиться в «деятелей».
Виктор Розен, Агафангел Крымский, Василий Бартольд – вот три корифея, из наследия которых извлекает Марк Батунский ценности чистого, неангажированного исламоведения. Во втором случае это не всегда удается, но в целом позиции ученых благородны.
Теперь же, на рубеже нового тысячелетия, добытые ими ценности приобретают жгучую злободневность.
Эти ценности извлекаются из беспорядочного месива данных, из огромного, хаотичного, разнородного скопища фактов, сведений, мнений, предрассудков и ложных обобщений, из того царства атомарности, которое мы с трогательным простодушием именуем одним изысканно-претеннзионным термином – исламоведение (оценили интонацию? Из-за академического забрала иногда выглядывает Марк-человек: задумчивый, ироничный и добродушный).
Так что же извлекается из этого хаоса?
Иными словами: что такое ислам в понимании одного из крупнейших исламоведов нашего времени?
Придется начать с отрицательных определений.
Ислам – НЕ сумма своих составных частей. Каждая из них на самом деле обладает отчетливой самостоятельностью. И все-таки остается в магнитном поле ислама.
При этом в исламе нет ничего единичного: каждый отдельный его элемент проявляет себя только как часть целого. (Здесь Марк немного озорничает: берет формулу В.Гумбольдта о природе языка и заменяет «язык» «исламом».) Я бы заменил в этой новой формуле, вполне законной с точки зрения структурализма, только одно слово: только. Ибо часть – не только часть целого, но тоже целое, имеющее части… Получается подвижное единство, в котором целое является началом перманентно-ведущим, но не тотально детерминирующим.
Но что же такое это «целое»?
Это НЕ государство, НЕ этнос, НЕ конфессия, НЕ географическая точка (Мекка или Медина или, допустим, Кум). Это даже НЕ конкретно-исторический Мухаммед, коего интеллектуальные и нравственные качества сами по себе никак не объясняют того грандиозного эффекта, который получила его деятельность, давшая миллиарду людей то, чем они по сей день живы.
Чем живы? – вот в чем вопрос. Что дает ислам этому миллиарду людей?
Не столько креативный, сколько репродуктивный аспект функционирования системы, – авгур переходит на свой язык. То есть это регулятор ВСЕХ отношений: групповых, межличностных, с обществом, с Богом. Тотально! А религия? А религия – лишь одна из составных в этом гибком целом, где сохраняется принципиальная стабильность при максимальной конкретной подвижности частей.
Может, это стабилизация повседневных будничных нужд. А может, наоборот, экстатическое состояние, которое обозначается русским словом порыв. (Лев Гумилев изобрел для обозначения этого состояния другое слово, но, кажется, Батунский не слишком жаловал этого замечательного мыслителя, поэтому из тактичности я не буду его цитировать.)
Но как объяснить само это общее состояние пестрого исламского мира, испытывающего единый порыв? Можно конкретно-исторически. А можно – признав честно, что тут сокрыто что-то неведомое и вечное.
А если это «что-то», вдруг наполняющее энергией все автономные части и структуры восточного мира (уммы ислама), и есть суть, смысл и самоцель, относительно чего все остальное – только формы и следствия?
Получается, что суммарная позитивная характеристика ислама есть зеркальное отражение его отрицательных определений: это И великая монотеистическая религия, И глобальное наследие арабской мудрости, И государственная мысль, И цивилизационные регуляторы повседневной жизни: юридические, нравственные и т. д. – любые.
Когда-то Бартольд, стиснутый (но и защищенный) советским академическим званием, вот так же искал новое название для
Среднеазиатского региона: это уже не «русская колония», не «мусульманская земля», не «тюркская колыбель», не «ираноарийский очаг», а некая качественно новая среда обитания разных этносов, конфессий и соответствующих им духовных ценностей.
А еще раньше Розен, никак не связанный советскими идеологическими доктринами, писал, что не в одном Мухаммеде и его идеях сила, и не в одном арабском духе суть того великого исторического поворота, начало которому положено в 622 году, а в том сила и суть, что этот фермент попал в массу застоявшихся древних культурных рас и выпустил на арену истории свежих борцов, сильных физической бодростью и страстью прямолинейной молодости, но не зараженных гипертрофией мысли.
Поневоле спросишь себя: что делать нам? Избавляться от гипертрофии мысли? Уповать на свежих борцов?
Первое для Марка немыслимо. А вот второе небессмысленно. Если физическая бодрость и страстная прямолинейность дополнятся пониманием смысла и цели.
Наследник великих востоковедов, Марк Батунский вооружает нас пониманием. Слово «вооружает» я употребляю с неохотой. Как и слово «окно», со времен Петра отдающее топорностью. Будем надеяться, что к ситуации больше подойдет образ «двери» – открытой двери, через которую Россия сможет выходить для всечеловеческого общения: на Запад, на Восток и на Юг…
Для такого общения наследие Марка Батунского бесценно.
Часть I
Русская средневековая культура как основа генезиса и функционирования разноликих моделей теоретических и прагматических оценок ислама
Глава 1
Киевская Русь и мусульманский мир (домонгольский период)
1. Восприятие Востока (Азии) в дохристианской РусиНа дохристианском этапе своей истории Древняя Русь1 завязала довольно оживленные связи – отнюдь не всегда носившие идиллический характер – не только с некоторыми регионами Западной Европы и с Византией, но и с мусульманским миром2 – связи и торговые,3 и политические, и культурные. Протянувшиеся до Багдадского халифата, городов Северного Ирана, прикаспийского побережья и до среднеазиатских владений Саманидов4, они отнюдь не всегда носили идиллический характер.
Если и допустить, что древнерусская государственность5 нуждалась в монотеизме6 как наиболее адекватном механизме ее сакрализации и легитимизации в качестве имперской структуры7, то любая более или менее объективная аналитическая ретроспекция решительно отвергает соблазнительные, но тем не менее немыслимые в ту пору варианты в пользу нехристианского монотеизма8 – будь то иудаистский9 или мусульманский10.
В своем стремлении преодолеть характерный для последних десятилетий языческой фазы «кризис идентичности» посредством внедрения новой системы идей и конструирования новых представлений о собственной системе как рекурсивно организованной, жизнеспособной и одновременно – универсальной, древнерусская элита искала такие интеллектуальные рамки, которые, зиждясь на монотеистическом универсализме, давали бы именно благодаря ему гораздо больший, в сравнении с предшествующими, партикуляристскими верованиями, жестко-экспансионистский11 накал,12 – в том числе и против непрестанно и тотально расширявшегося домена ислама с имманентным ему набором метафизических доктрин, моральных ценностей и экзистенциальных установок.
Дело тут, следовательно, не только в многогранном влиянии на дохристианскую Русь византийской культуры, но прежде всего – в собственных стратегических интересах киевских военнополитических лидеров.
Ведь уже в 626 г. русы воюют у стен Дербента, а в 643 г. они поддерживают хазар в их борьбе с халифатом. Ко времени правления византийского императора Ираклия (610–641 гг.) относится любопытное свидетельство русской «Степенной книги» о том, что Русь воевала с Персией, – акция, требовавшая далеких заморских походов13. Что касается последующего столетия, то напомним, что в 737 г. арабский полководец Марван проник глубоко внутрь Хазарин, дошел до «Славянской реки» (очевидно, Дона), где пленил 20 тысяч оседлых славянских семейств, насильственно переселив их в Кахетию14.
Византия, зорко следившая за изменением обстановки в Восточной Европе, активно противилась усилению Руси у берегов Черного моря, Дуная и Волги15, тем более что (начиная с VII в.) стесненная арабами империя проявляла все больше заинтересованность в землях к северу от Черного моря16.
Со своей стороны Русь стремилась к овладению важнейшими водными путями, которые вели на Восток17.
Во второй половине IX и первой половине X в. интересы Руси и Византии неоднократно сталкивались, приводя к конфликтам между этими государствами. Еще в 860 г. Константинополь чуть не пал под ударами войск Аскольда и Дира18. «Не исключено, – пишет в своем исследовании по истории русской дипломатии А.Н. Сахаров, – что наступлению руссов на Византию способствовали арабы, которые сами готовились к широкой военной кампании против империи…»19. Однако это не более чем гипотеза. Благо, как грустно замечает В.Т. Пашуто, вообще есть повод «с ужасом думать о той хрупкой фактической основе, на которой возводим мы здание средневековой истории русской внешней политики»20.
То же, что можно – на сегодняшний день, во всяком случае, – отнести к категории «твердые факты», свидетельствует, что в целом нет оснований счесть сколько-нибудь сильным преувеличением21 слова хазарского царя середины X в. Иосифа: «Я веду с ними /русскими/ упорную войну. Если бы я их оставил /в покое/, они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада»22.
Что же касается предшествующего столетия, то, как отмечает А.Н. Сахаров, «отечественные ученые давно уже обратили внимание на странную последовательность в истории военных предприятий Древней Руси, в истории ее внешней политики IX – первой половины X в.: после мирных договоров с Византией руссы направляли свои дружины на Восток23, в Закавказье и в Иран, против тамошних мусульманских владетелей – вассалов Багдадского халифата»24, этих прямых и потенциальных врагов Византии. Здесь Русь выступала ее союзником25, не забывая, впрочем, и о том, чтобы себе же «проложить торговую дорогу в богатые районы Передней и Средней Азии»26.
Но более того: в 912 г. русский отряд в составе греческой армии борется с критскими арабами, помогая, таким образом, Византии в ее конфронтации с халифатом не только на Востоке27, но и на Западе28; в 954 г. руссы (вместе с болгарами и армянами) помогают Восточно-Римской империи29 в конфликте с сирийским эмиром Сайф ад-Даула30; в 960–961 гг. они помогают отвоевывать Крит, а в 964 г. – Сицилию31 и т. д.32. Как видим, закладывалась в высшей степени солидная основа для последующего, еще более массивного и целеустремленного, в сравнении с языческими временами, участия Древней Руси «в общеевропейском крестоносном движении»33.
Под этой основой я понимаю не только конъюнктурные (или даже стратегические) соображения явственно-политического плана, в общем и целом заставлявшие Русь избирать европобежную ориентацию, а выкованную еще до принятия христианства (то есть до утверждения в качестве официально господствующего стремления видеть конкретно-конфессиональные ценности облеченными в вечные формы и навязать «другим» свои принципы духовной организации) тенденцию расчленять мир на отдельные иерархически неравноценные части, мысля отношения между ними лишь в терминах перманентных драматических коллизий. И в этом, казавшемся бесконечным процессе динамического взаимодействия разнородных полярностей ведущую роль играло противостояние Степи34, противостояние35, поздней четко символизированное как оппозиция «Европа – Азия»36: сыны последней «врывались на быстрых конях, как настоящий степной ветер, переворачивали все вверх дном и, опустошив, обезлюдив страну, довольные, покидали ее»37.
И коль действительно Древняя Русь, отражая натиск кочевников, «объективно поддерживала борьбу балканских земель против арабского владычества»38, содействовала «защите цивилизации других стран Европы»39, то надо помнить и о том, что являвшаяся перед Русью в самых разных обликах «восточная угроза»40 производила на ее обитателей «сотрясающее воздействие»41, заставляя длительное время вращаться в замкнутом кругу противопоставлений. Обусловленный им примат абсолютистских тенденций влек за собой представление о нехристианском Востоке как о мире, в котором смещаются основы «нормального» личностного и исторического бытия42.
Анализ в первую очередь отраженных в фольклоре43 знаковосимволических систем дохристианской древнерусской культуры свидетельствует, что, освобождаясь (как и всякая «архаическая»44 культура) от обязательств по воссозданию непосредственной фактуальной достоверности исторических событий, все те из них, которые были непосредственно сопряжены с Востоком, она преподносила в обертонах своеобразного «катастрофизма», подчеркнутого драматизма и в общем непреклонного дуализма45, охватившего как культурные, так и природные объекты46 и утверждавшего разность древнерусского47 и восточного (кочевнического – в первую очередь) вариантов ценностного постижения и освоения универсума48.
В зародившихся еще в языческий период волшебных сказках часто фигурирует чудовище. У него нет единого наименования49: его называют то Чудом-Юдом, то Змеем, то заимствованным из былин именем Идолище50. Но уже с рубежа бронзового и железного веков оно стало олицетворением кочевников51. Да и вообще весь первичный, зародышевый восточнославянский героический эпос Б.А. Рыбаков считает возможным стадиально связать «с эпохой познания ковки металла и первых битв со степными врагами»52.
Более развернутую характеристику находим у О. Сулейменова. Психологически, пишет он, необходимость отрицательного имени – лжеэтнонима – оправданна. «Этнически и расово отличные миры находят друг другу универсальные определения, в основу которых подчас ложатся весьма общие характеристики»53. В дохристианской Руси функцию обобщающего имени кочевников несли слова «языги», «язычники» (таким образом, уже в дохристианский период сознавались конфессиональные /культурные/ отличия между русским и другими, в частности восточными, этносами. – М.Б.), т. е. степняки54. Надо бы добавить: не только степняки, но и носители инокультурных и иноконфес-сиональных начал.
Церковь, продолжает Сулейменов, придала этому лжеэтнониму новое значение – нехристиане, нехристи. В связи с этим он теряет конкретную направленность, им нарекают уже не только степняков, но и литовцев, а также русских, не принявших истинной веры. Потребовалось новое имя для кочевников. Таковым стало, полагает Сулейменов, слово «поганый», источником которого послужило тюркское «паган», пастух55. На самом же деле носящее в себе всецело негативный заряд слово «поганый», во-первых, имеет латинскую «первооснову» (paganis, мн. pagani) и, во-вторых, как мы не раз убедимся в этом далее, применялось отнюдь не к одним только кочевникам (и вообще не ради них одних получило статус специального термина). Иное дело, что мифический герой, злой демон русских сказок Кощей Бессмертный есть «олицетворение непрекращающейся, неистребимой агрессии степи…»56.
Конечно, с течением времени в сферу древнерусского языческого мировоззрения57 вступали все новые и новые фрагменты специфически азиатского (опять-таки – кочевнического преимущественно58) бытия – причем отношение к какому-нибудь одному из них могло и не носить последовательно-враждебного настроя. И однако, объединение этих, нередко противоречивых, локальных картин не меняло основ общих представлений о Востоке: они в эпоху раннего средневековья характеризовавались такими имманентными чертами формальной стороны архаичного сознания, как наглядность, картинность, визуальность, предельно шаблонизированных и стереотипизированных59, но в совокупности своей являвших грозное противостояние сколько-нибудь крупным и периодическим вторжениям азиатских культур, рассматриваемых и онтологически и аксиологически как тотальнодеструктивное начало60.
Убежденный противник любых вариантов «евразийства», склонного к «преувеличенным представлениям о значении географического положения России, о роли в ней «восточных» и, в частности, «туранских» элементов»61, академик Д.С. Лихачев (доказывавший, что Русь изначально «не боялась «европеизации» как таковой, но меняла ориентацию»62) писал: «Не обнаружено сколько-нибудь заметного влияния азиатских стран в русском изобразительном искусстве и в архитектуре…» Что же касается древнерусской литературы, то здесь «… прежде всего обращает на себя внимание полное отсутствие переводов с азиатских языков. Древняя Русь… не знала ни одного перевода с турецкого, с татарского, с языков Средней Азии или Кавказа (курсив мой. – М.Б.). Устным путем проникли к нам два-три сюжета с грузинского и с татарского… Следы половецкого эпоса… крайне незначительны, особенно если принять во внимание интенсивность политических и династических связей русских князей с половцами. Как ни странно, восточные сюжеты проникали к нам через западные границы Руси, от западноевропейских народов… Может быть, отсутствие переводов с азиатских языков следует объяснить тем, что на Руси не находилось переводчиков, знающих эти языки? Но уже самое отсутствие переводчиков с азиатских языков было бы фактом примечательным. Однако эти переводчики были… в том самом Посольском приказе63, где делались переводы литературных произведений с латинского и польского и который был своеобразным литературным центром в XVII в.»64.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































