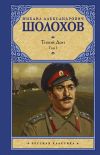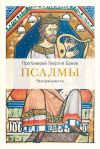Читать книгу "Фарватер"

Автор книги: Марк Берколайко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Марк Берколайко
Фарватер
© Берколайко М., 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Фарватер
От автора
Дед чаще обычного отрывался от чтения, оценивая, максимально ли тщательно я раскрашиваю контурную карту республик Средней Азии. Эти мои старания были им сочтены судьбоносными: если раскрашивание получится (относительно нанесенных пунктиром границ) точным, а тонирование (акварельными красками) равномерным, географичка подобреет и итоговый «трояк», позорное клеймо для всего рода нашего, мне не влепит.
Впрочем, ему вполне можно было и не напрягать зрение – пыхтение мое разносилось по комнате и свидетельствовало, что тружусь на совесть. Но он поглядывал, пыхтеть приходилось все громче… и только очень нескоро до меня дошло, что мучаю легкие зря. Что патриарх наш не любуется картой, приобретающей пятнистость летнего сарафана, а мысленно тянется к выложенной между нею и его книгой пирамидкой из пепельницы, пачки сигарет, коробка спичек и затейливо инкрустированного мундштука.
Наконец, свершилось – дед бережно разломил пополам выуженную из пачки сигарету, аккуратно вставил половинку в мундштук, прикурил, пыхнул… и, после первого острого наслаждения, счел полезным для сидящего перед ним «племени младого» завести просветительскую беседу.
– Что сейчас читаешь?
– Джека Лондона, «Время-не-ждет», – пробурчал я, мысленно моля руку и кисточку, чтобы пронзительная голубизна Узбекистана не вклинилась в жеманную розоватость Туркмении. – Там Элам Харниш…
– Э́лам! – рявкнул дед. – Э́лам Харниш!!
И что, спрашивается, было рявкать?! Ну оказалось «племя» еще бестолковее, чем ожидалось… тоже мне причина!
Но последствия – при полном, повторюсь, отсутствии причин – были ужасны: рука, конечно же, дрогнула, и голубой вторгся в священные пределы розоватого, породив видимый глазу участок спорной территории.
– Ты усвоишь когда-нибудь?! – бушевал дед. – Усвоишь ли ты когда-нибудь, что в англоязычных именах ударение падает на первую гласную?! Джордж Гордон Байрон, а не Джордж Гордон Байрон!
– Усвою, – слезливо пообещал я, но не выполнил обещание, поскольку до сих пор не знаю, правильнее ли говорить «законы Ньютона» или, как учили в школе и университете, «законы Ньютона».
Перечислю промежуточные итоги: перекур отдохновением для деда не стал, карта была испорчена безнадежно, а тяга к малярным работам умерла во мне навсегда.
Однако здесь же и воспою, не откладывая, милосердие географички: годовой «трояк» не состоялся! – в мой потрепанный дневник брезгливо, как в картуз нищего, был брошен спасающий честь рода «четвертачок».
Но оказалось, что не стоило обращать внимание на итоги промежуточные, поскольку на горизонте замаячило улучшение status quo – дед прельстился второй половинкой сигареты, проделал ритуальные действия, затянулся, помягчел и сказал:
– Видел я как-то раз подобного джеклондоновского героя. В Одессе. Пролетка, а у меня был персональный выезд… – И тут голос его обрел такую значительность, что я, смерд ничтожный, склонил голову еще ниже.
То, что хозяин завода, где работал дед, добавил к щедрому окладу инженера-технолога ежегодный абонемент на ложу в одесской опере и собственный выезд, мне было известно сызмальства – и право, персональный «Москвич» моего отца не шел ни в какое сравнение с той сказочной пролеткой на дутых шинах. Веселый же, по-одесски говорливый кучер, всегда готовый услужить и приворовать, был уже даже не сказочен, а легендарен.
– Пролетка моя приближалась к дому, а это был совсем новый и очень красивый дом…
Да-да, про дом я тоже знал, про тот четырехэтажный дом, считавшийся, тем не менее, трехэтажным, поскольку счет шел с бельэтажа, а первый этаж, со двора вполне полноценный, на улицу выходил как цокольный.
И про жителей «благородных» этажей знал немало: в бельэтаже (давайте все-таки договоримся считать его вторым этажом) обитала семья видного дантиста, там же размещались приемная и кабинет, откуда часто разносились страдальческие крики; на третьем жил дед с семьей, четвертый, частично мансардный, занимал архитектор, спроектировавший этот чудо-дом.
Даже то, что флигель арендовал не при высоких чинах, но очень надменный таможенник, знал тоже… и нос мой от нетерпения уже почти елозил по карте.
«Хватит про выезд и дом, – мысленно подгонял я деда. – Про одесского Э́лама Харниша давайте!»
– Пролетка приближалась к дому, а это был совсем новый и очень красивый дом! И тут нас обогнал мужчина – огромнее любого портового биндюжника и такой стройный, что хоть борца античного с него лепи, хоть дискобола. И обогнал, что совсем обидно, не бегом, а быстрым шагом, но каким шагом! По метру с лишним, мощным и полетным, как… не знаю даже, с чем сравнить… да вот хоть с голосом Шаляпина. Кучер мой раззадорился, пустился наперегонки… кобылка уже вот-вот в галоп сорвется, а скороход вроде бы и не спешит, не припускает, только шаг все шире и легче. А в руках у него бадейка, нет, бадья, заполненная тюльпанами… никогда больше я не видел такого количества тюльпанов! Из Люстдорфа, конечно же, нес, купил у немецких колонистов, на Привозе такие не достать.
Растерянный швейцар придерживал массивную дверь, поджидая деда, а дождавшись, доложил захлебывающимся шепотом соглядатая:
– Это, господин инженер, тот самый сумасшедший, который в любую погоду плавает… Не успел я смекнуть, пускать или нет, он меня, как «тубаретку», отодвинул… да еще и скомандовал, громила чертов: «Дверь не затворяй, следом жилец ваш едет!» И маханул одним прыжком на цельный марш. Вот вам крест, на цельный марш! С бадьей в обнимку! Бес он прыгучий, не иначе!
И закрестился размашисто, и обретшая свободу дверь бабахнула так, что задрожали стены парадного подъезда.
Дед зачем-то заспешил, перепрыгивая не через марши, разумеется, а всего-то через две-три ступени, хотя и это, учитывая не бог весть какой рост, давалось ему не без труда. А ведь неспешный ежевечерний подъем по отдраенной до зеркальности лестнице был так приятен! Он так напоминал восхождение на вершину, где материальный достаток уже почти незамечаем – как незамечаемы ковры, устилающие лестничные площадки… превосходные, кстати, ковры, густоворсовые, услужливо снимающие со штиблет налеты надоедливой одесской пыли.
Однако тем вечером дед несся, перепрыгивая через две-три ступени, и успел, оказавшись перед дверью своей квартиры, услышать зазвеневший наверху голос жены архитектора:
– Господи, Георгий Николаевич, сколько тюльпанов, какие дивные! Вы меня балуете!
И в ответ басок – и тоже зазвенел. А ведь дед, неистовый меломан, до той минуты был уверен, что басы звонкими не бывают.
– Отчего же балую?! Да хоть и балую, мне, Регина Дмитриевна, это в радость… От самого Люстдорфа нес. На извозчике, даже на трамвае, вышло б дольше. А так – ни один бутон не раскрылся!
Захлопнулась дверь на четвертом этаже, а дед, взбудораженный отзвеневшими признаниями в любви, забарабанил набалдашником трости в свою дверь и возопил, отбивая от нетерпения чечетку:
– Оля, это я, открывай!
И, ей-богу, его голос тоже зазвенел.
– Что дальше было? – поторопил я деда.
– Откуда мне знать? – пожал тот плечами. – Это все.
– А архитектор? Муж?
– При чем тут муж? – усмехнулся дед. – Он какой-то дохлый был, типичный «муж объелся груш»…
«Повидать живого Элама Харниша, – переживал я, – за пятнадцать минут рассказать и объявить, что это все?!»
Сейчас непременно пустился бы доказывать, что за любым «всё» теснятся скрывшиеся в тумане нашего неведения другие «всё», а в них случались другие встречи и разлуки, в них по-другому была утешительна ложь, и как-то иначе ранила правда…
Но тогда смог лишь возразить неубедительно:
– Не может быть, чтобы всё!
– Учти на будущее: «всё» случается гораздо чаще, чем «не всё», – приговорил дед и, скорее всего, забыл об этом разговоре.
А я недавно вспомнил и решил, что был тогда прав: не всё, совсем не всё вместили в себя описанные дедом майские сумерки 1914 года…
Потом почему-то вспомнился рассказ (или легенда?) о взаимоотношениях измученного Гражданской войной поэта Максимилиана Волошина и зловещего, но слывшего эстетом комиссара Белы Куна.
И в «другое всё», почти независимо от моей воли, стали вплетаться реалии той страшной поры, а заодно и домыслы о ней…
Словно кем-то диктуемая, начала проступать первая фраза: «Весна 1914-го была явлена Одессе сразу и вдруг…», и разом представилось, будто…
Будто бы весна 1914-го была явлена Одессе сразу и вдруг, как зрителям – залитая светом сцена, о существовании которой за тяжелым занавесом можно разве что догадываться.
Но когда пыльный бархат взвился наконец куда-то, а полусонный оркестр, тянувший унылые мелодии межсезонья, приободрился и грянул… когда хор подхватил, – тогда сложилось наконец!
Сложилось согласно той радостной правде, что Одессе привычно жить в мажоре оперы-буффо… Или даже оперетты: «Смотрите здесь! Смотрите там! Как это нравится все вам?» – «Корневильские колокола» – ничего другого из популярной тогда вещи не знаю, а это «Смотрите…» любил напевать дед.
Так почему бы не предположить, что в первый день мая 1914 года истомившимся в ожидании весны одесситкам и одесситам все вокруг – и здесь, и там – до восторга нравилось?..
Часть I
Каждому назначен свой фарватер в океане Времени…
Глава первая
Долго спорили, что Павлушке надеть. Мамуля, с иногда подхватывающей ее страстью сокрушать устои, утверждала, что первый по-хорошему шалый день взывает к раскованности, а мундир – в пригороде, среди дач – типичный признак «человека в футляре»…
– Но если встретится кто-то из учителей? – возражал сын. – Или инспектор попадется по дороге?! Ведь остановит, выговорит и непременно доложит директору!
– Как ты опаслив! – досадовала Регина Дмитриевна. – Совсем не в нашу, соловьевскую, породу!
Спор разрешился, когда со второго этажа вторично протелефонировала мать другого Павлушки, Торобчинского, прозванного Торбой.
Наш же Павлушка, Сантиньев, именовался позатейливее – Сантимом.
Дед рассказывал, что телефон в Одессе появился в 1882 году, одновременно с Петербургом, Москвой и Ригой, одесситки «висели» на аппаратах часами, нагрузки на сети и коммутаторы случались чудовищные, а соединяющие абонентов барышни хамили безудержно.
Зато барыши дольщиков телефонных компаний разгонялись, как трескучие мотоциклетки.
А во время первого, бесконечно длительного, разговора мадам Торобчинская обмолвилась, что многие ее знакомые отправляются сегодня на Большой Фонтан, к упирающемуся в море Дачному переулку, где безумный гигант в пять часов пополудни совершит очередной заплыв по маршруту «14-я станция – Ланжерон – Люстдорф – 14-я станция».
– Что значит очередной?! – удивилась Рина. – Что такое вы, Люси, говорите? Кто этот «безумный гигант» и почему я о нем ничего не знаю?
– Потому что не читаете газеты и пренебрегаете жизнью общества! – ответствовала одномерная, вся в высоту, Людмила Михайловна. – Потому что поглощены исключительно поэзией и музыкой… если только не заняты сыном, – тут же, впрочем, прибавила жена дантиста, желая объективно отразить жизненные приоритеты соседки и подруги.
Одномерная Люси более всего на свете ценила объективность своих суждений. Ведь бессмысленно же оценивать людей придирчивее, нежели они того заслуживают, – хотя бы оттого бессмысленно, что и без чрезмерной строгости оценок к смертной казни через повешение дóлжно приговорить каждого второго.
В ее собственной семье этим «вторым» был, несомненно, муж – дантист Торобчинский. Конечно же, еврей, как и полагается порядочному дантисту, но выкрест. Веревка по нему плакала в силу многих причин, но основной была та, что, устав за день от кариесов, пульпитов и пародонтозов, он иногда бывал не в настроении сопровождать супругу в концерты, в театры и на журфиксы. Добро бы хоть ссылался при этом на внезапно нагрянувшую мигрень, так нет же, прикрывая сизыми веками скорбные семитские глаза, говорил неубеждающе ласково: «Люсечка, мне бы посидеть с рюмочкою коньяка и свежим нумером журнала Лондонского королевского общества стоматологов».
Отвратительно, согласитесь, уклоняться от общественной жизни во имя очередных рассуждений о больных зубах!
В семействе же Сантиньевых казнь, по мнению категоричной Люси, заслужил архитектор: своей демонстративной отрешенностью от всего, что не камень, дерево, конструкции или декор; своим капризным высокомерием в разговоре, но главное – частыми и продолжительными отлучками в последние три года.
В Петербург, якобы во исполнение выгодных заказов, – версия, пригодная для кого угодно, но никак не для Люси, чей взор пронизывал покров любой тайны.
В самом деле: с десяток богатых и щедрых одесситов рады были б вымолвить, словно невзначай: «Какой чудный новый дом (дачу, конторское здание) Сантиньев для меня замыслил!» – и поверить, будто бы в казенной, скупой на веселье и деньги столице могло найтись что-то выгоднее?!
…Как бы то ни было, в три часа пополудни, когда Павлушки вернулись из Ришельевской гимназии, решено было отправиться на пикник, которому начало заплыва придаст дополнительную пикантность. Отправиться с сыновьями, но – увы! – без мужей, ибо архитектор привычно отсутствовал, а дантист вынуждался обстоятельствами не отходить от кресла до вечера. «Глубокого вечера!» – о чем поведал, скорбно прикрыв сизыми веками подозрительно честные семитские глаза.
…Холодные закуски стараниями Ганны, кухарки Сантиньевых, были приготовлены быстро. Горячий чай заполнил сохраняющий температуру сосуд немецкой фирмы «Термос» – вопль моды для благополучных одесских семейств – ну а выезды трудами старичков кучеров были «готовы завсегда». Но тут возник спор. Как одеться Павлушке, ученику 4-го класса знаменитой на всю Россию Ришельевской гимназии?
Первой мужской одесской гимназии – той, что на углу Садовой и Торговой. Никак не второй, что на Старопортофранковской… не третьей или четвертой, тем паче не пятой, примостившейся на невзрачной Новорыбной улице!
Недаром же Юрий Олеша говорил, что мир делится на окончивших Ришельевскую гимназию и не окончивших её…
Да, так вот, ученику 4-го класса мундир и самому уже надоел, но ремень, но массивная бляха с выпуклыми буквами «РГ», начищенными так, что даже солнце, неосторожно бросив на них свои лучи, жмурилось от ответного блеска! Ремень и бляха – это вам не «сю-сю» белых фартучков гимназисточек Мариинки, это noblesse, которое oblige, это оружие, без которого ришельевец наг и беззащитен, как казак без нагайки или морской офицер без кортика!
В конце концов договаривающиеся стороны сошлись на перехваченной ремнем рубахе, а шинель – долой; вместо нее – тончайшее демисезонное пальто, почти плащ. Чтобы никому не стало обидно, такое же облачение присудили и Торбе, учащемуся третьего класса все той же Ришельевской. Дамы решили так во время второго, необычно краткого телефонного разговора, успев, разумеется, обсудить и свои туалеты – загодя пошитые в ожидании тепла и света свободные платья из муслина. Риночка остановилась на любимом белом, Люси – на цвете сложном, пронзительно-ярко-лиловом. Он, в сочетании с одномерностью мадам Торобчинской и ее же рыжей гривой, особенно зримо создавал образ молнии, ударяющей с карающих небес.
Шляпы, зонтики и фильдекосовые перчатки были согласованы столь же быстро – и вот два нарядных ландолета отправились в неблизкий по тогдашним меркам путь.
Немало колясок собралось на пляже. А еще прикатили три «мотора» и, в силу редкостности своей, мигом собрали вокруг себя кучки зевак. Шоферы, презирающие все, что не гудит и не тарахтит, на вопросы, казавшиеся им наивными, не отвечали, зато от ехидных комментариев «заводились» быстрее, нежели вверенные их заботам двигатели от пока еще маломощных стартеров.
Об эту пору случалось, кстати, путать в разговорах шоферов и шаферов, поскольку ударение не установилось, и многие произносили «шóферы».
Да ведь и были же основания путать! Неважно, что одеяния («прикиды», как уже тогда говаривали в Одессе) разнились: костюм-тройку с несколько фривольным жилетом и с бутоньеркою в петлице даже слепому легко было отличить от галифе, кожаных краг и перчаток с раструбами. Но сколько высокомерия, боги мои, сколько высокомерия! Значимость исполняемых ими обязанностей что шОферы, что шАферы блюли и подчеркивали, подчеркивали и блюли.
Сидевший в «Peugeot Goux» чудак, в ответ на неосторожное замечание о некоей галльской легковесности кузова, врезал так врезал: «Зато свои 187 килóметров в час наберет! Вы, тяжеловесный мой, чихнуть не успеете!» «Зачем это я чихать буду?! – обиделся галлофоб в кафешантанном канотье. – Пусть твоя бабушка в могиле чихает!» То есть, как мы бы сейчас сказали, перевел дискуссию в совершенно иной дискурс.
Громоздкий усач за рулем «Руссо-Балта» в ответ на реплики гудел как заведенный: «Неладно скроен – и чето?! Зато крепко сшит – вот чето! Царь, чай, не дурак, только в таком и ездить!»
И был так убедителен, что вскоре закивали: да, в данном случае не дурак.
И только «Олдсмобиль» не вызывал ни вопросов, ни реплик. Разглядывали белые шины, плавные линии, отличной малиновой кожи обивку салона… и припоминали, что этот, по цене трехэтажного дома, американский зверюга выиграл недавно гонку у самого быстрого в мире железнодорожного экспресса, а совсем-совсем недавно потряс всю Одессу, лихо взобравшись по знаменитейшей лестнице Николаевского бульвара[1]1
С 50-х годов XX века – Потемкинская (здесь и далее прим. автора).
[Закрыть]. А белозубый шофер, словно не замечая молчаливого восхищения зевак, поглядывал в небо и напевал «It's a long way to Tipperary…»
Песня эта появилась в 1912 году в Лондоне. Через несколько месяцев английские моряки завезли ее в Одессу, и она мигом была подхвачена оркестрами всех ресторанов, таперами всех кабаков и кабачков; весной же 14-го года ее мог прогорланить любой босяк, имеющий счастье шлёндрать по самому музыкальному в мире городу. А ведь повсеместно ее запели ближе к концу Первой мировой!
Хотя бы поэтому никогда не говорите, будто Одесса – это почти Европа. Скорее наоборот: Европа – это почти Одесса!
Владелец же «Олдсмобиля», стоявший неподалеку в группке таких же, как он, сиял ярче лакированных боков драгоценного своего; сиял ярче церковных куполов, на которые крестился с недавних пор так истово, словно зазывал Господа в компаньоны.
Павлушки торчали у «Руссо-Балта» и так были увлечены, что материнский зов не услышали. С сообщением: «Идет!» – вынужден был приковылять кучер Сантиньевых.
Исполин шел от крайнего домика Дачного переулка – да не шел, а словно летел, легко отталкиваясь от дружественной земли – и глаза у гимназистов разбегались, не умея выбрать, какими группами мышц полюбоваться вдосталь. В идущем не было ничего от угрюмой силы цирковых борцов, от выхваляющейся силы атлетов. Нет, это была мощь, скрытая под гладкими поверхностями «Peugeot», под грациозной громоздкостью «Руссо-Балта», это была мощь «Олдсмобиля», без натуги одолевавшего ступени и площадки красивейшей лестницы мира. Это была элегантная мощь лебедя, взмахивающего необъятными крыльями будто бы нехотя, будто бы только для того, чтобы противопоставить беспорядочности воздушных вихрей благородную устремленность своего полета.
«Нет, не те сравнения, – думала Рина, – довольно глупо сравнивать безграничное с чем-то конечным. Его мощь безгранична, а все эти авто и лебеди банальны хотя бы уж потому, что первыми приходят на ум. Просто восхищаться, как восхищаются мальчишки, – самое уместное».
Во многих головах мелькнуло, наверное, нечто подобное, потому что раздались аплодисменты. Сначала неуверенные и случайные, они быстро стали дружными, звучащими в такт шагов приветливо улыбающегося колосса; так приветливо, что кончики закрученных по казацкой манере темно-русых усов вот-вот, казалось, коснутся краешков глаз, щурящихся от вовсю разошедшегося солнца.
Но Рина не зааплодировала, более того, мыслей своих устыдилась. «Разве можно, – корила она себя, – представлять безграничным что-либо человеческое?! Безграничен только Бог!»
Люси тоже не аплодировала. Во-первых, чтобы не быть с толпою заодно, во-вторых, столь горячо приветствовать следует не экзотические спортсменские рекорды, а усилия во имя улучшения деградирующего общества!
Слов нет, необыкновенная стать мужчины в черном купальном трико не может не вызвать трепет нерассуждающего женского сердца, но объективность ума как раз и способна подсказать, что весьма неприлично глазеть на незнакомого господина, да еще и обнаженного, в сущности!
И она, – с некоторым, правда, трудом, – заставила себя всмотреться в морскую даль, рябистую, обещающую нешуточное волнение.
Приметная то была группа: два гимназиста, отбивающие ладони и вопящие с петушиными фиоритурами: «Ура русским богатырям!», и две дамы. Одна, молниеобразная, озирала горизонт с суровостью битого бурями капитана, а другая…
Светлая шатенка, почти блондинка, в белом платье, в затеняющей лицо белой шляпе, под белым же зонтиком… облачко, послушное любому дуновению судьбы.
Вот и взгляд ее словно бы следил не за проходящим мимо колоссом, а за вращением подброшенной резким щелчком монетки… Упадет орлом или решкой – решит судьба. Но если орлом, то можно сковать невесть откуда взявшегося «безумного гиганта» сверкающей облачной изморозью и унести… унестись… Если же решкой, то нужно не просто пренебречь невесть откуда взявшимся, а еще и обозначить предгрозовым, черно-лиловым окоемом гибельную для него черту…
Однако монетка «упасть» не успела, и дорешать задачу Рине не довелось. Гигант сам остановился напротив и произнес приветливо, обращаясь, впрочем, не к ней:
– Может быть, господа ришельевцы, поплывем вместе? Хотя бы до двенадцатой станции? Тогда и в вашу честь публика «Ура!» закричит. На Дону, в Павловске Воронежской губернии, где я вырос, казачата в эту пору уже в воде… версту проплывают… правда, по течению… – он спохватился, что пустился в чересчур длинные разглагольствования, и поспешил исправиться: – Позвольте, впрочем, представиться: Бучнев Георгий Николаевич, стивидор…
Весенняя зелень мужских глаз встретилась с глубокой, но уже будто бы чуть изнуренной зноем зеленью женских… и с этого, в сущности, началось «другое всё»…
– …А это Георгий Николаевич Бучнев-старший, отставной сотник Донского войска. Мой дед и первый наставник в плавании.
Почти невозможно себе представить такую увлеченность одним человеком, что не замечаешь рядом с ним другого – да какого! Вылитого Тараса Бульбу, но без ухарского запорожского чуба. Зато все остальное: неохватность плеч, косолапость конника, взгляд, жаждущий рубки, – совпадало досконально.
– Рад служить, – поклонился Бучнев-старший.
Затем обратился к внуку:
– Пора, Гёрка! Вдругорядь с дамами перемолвишься.
– Подождите! – воскликнула Рина, и Люси от этакого моветона слегка передернуло. – Зачем вы так далеко и на ночь глядя?! Это же опасно!
– Ничуть, сударыня! – улыбнулся Георгий. – Не в обиду деду моему будь сказано, давним пращуром моим наверняка был Чудо-юдо рыба-кит.
И пошел, но далеко – не ушел.
– Никогда больше не обращайтесь ко мне так церемонно: «сударыня»! – громко потребовала Рина. – Я – Регина Дмитриевна Сантиньева!
А вот это уже был настоящий шок не только для Люси, трагически прошептавшей: «Риночка, помилосердствуйте, что с вами происходит?!», а даже и для мало еще что разумеющих Павлушек, тем паче – для все прекрасно разумеющих окружающих.
Многие переглянулись, некоторые взвили брови, кое-кто хмыкнул. Но Георгий остановился и обернулся:
– Сердечнейше рад знакомству! – сказал он, вытягиваясь в струнку, как англичанин при первых же звуках «Боже, храни нашего доброго Короля!». – Это удивительно счáстливо, что мы познакомились!
Черт его знает, был ли владелец «Олдсмобиля» возмущен столь наглядно демонстрируемой тягой друг к другу мифологического титана и вневременной женщины или захотелось выпендриться, как это свойственно любому одесскому штинкеру[2]2
Штинкер – вонючка (идиш); в уголовной среде – «во все дырки» сующий нос стукачок.
[Закрыть], – однако встрял:
– Ф-ф-ф-у, что за амбрэ?! Ворванью от вас несет за версту. Не комильфо, любезный, совсем не комильфо!
Бучнев ответил исчерпывающе:
– Pour les courses de fond le corps est graissé abondamment avec l’huile de baleine. Cet aide du sauver la chaleur, et les muscles restent élastiques[3]3
Для дальних заплывов тело обильно смазывается китовым жиром. Это помогает сохранить тепло, и мышцы остаются эластичными.
[Закрыть].
– Что это вы не по-русски?! – побагровел купчина.
– Потому что употребление вами слов «ambre» вместо «аромат» и «comme il faut» вместо «как надо, как положено» создает впечатление, будто французский для вас удобнее. Если бы вы, впрочем, соизволили выразиться, что я не похож на денди, то дал бы те же разъяснения на английском. Ну а если б сказали «не как гранд-синьор», то ответил бы по-итальянски, на «гранд-сеньор» готов был откликнуться испанским… Удовлетворены, надеюсь?
– А ежели нет, то и ступайте себе с Богом! – хмуро прибавил отставной сотник и еще раз поторопил внука: – Гёрка, хватит балаболить, половина шестого уже!
Вскоре пловец скрылся из виду, а владелец «Олдсмобиля», остаточно ежась от провожавших его усмешливых взглядов, несся в любимый ресторан на Греческой площади – и тосковал.
Тосковал, оттого что аппетит на морском берегу нагулять не успел. Оттого что какой-то голодранец безнаказанно поиздевался над ним, почтенным российским негоциантом (так недавно именовали его газеты империи), торгующим заморскими товарами по всей Херсонской губернии и Бессарабии. И какое кому дело, если попутно торгуется конфискат и контрабанда – при соблюдении, вестимо, интересов таможни, полиции и прочая, прочая, прочая? Оттого, наконец, тосковал, что лихой его шóфер, наглец изрядный, надоедливо распевал, крутя баранку: «It's a long way to Tipperary, it's a long way to go…» И ведь не прикажешь замолчать – обидится и уйдет. А где другого такого взять, чтобы еще раз прославил на всю империю, чтобы еще раз въехал на самый верх лестницы Николаевского бульвара, но теперь уже задним ходом? Чуть что не так – уйдет чертов пролетарий, уйдет к конкуренту, которому тоже хочется приобрести славу почтенного негоцианта. Вот и приходится слушать, как форсит зарвавшийся пролетарий, распевая все громче: «It’s a long way to Tipperary to the sweetest girl I know!»
Не закопаться бы в детали: платья, шляпки, фривольные жилеты, краги, перчатки, зонтики, марки авто, ландолеты, сосуды Дьюара фирмы «Термос», допотопные телефонные станции…
Нужно вообразить, будто на пустынном песчаном пляже зарываюсь всей кистью, до запястья – и рывком вверх! Песчинки – плотной тучкой, но тут же разлетелись, улеглись – и ничего не изменилось. По-прежнему ни одной живой души, песок все так же спрессован, только заслезились запорошенные глаза. Но терплю и повторяю, повторяю и терплю – и вот наконец-то…
Зазвучали голоса деда, бабушки… плач капризничающей девочки – той, что суждено было стать моей матерью…
А еще множество незнакомых голосов… Веселых, грустных, радостных, сердитых, бодрых, ноющих…
Нет только встревоженных.
Хотя до того дня, когда Парки перестали прясть нити жизни, а Мировая Мясорубка перемолола первые порции пушечного мяса, оставалось всего три месяца.