Текст книги "Валентин Серов"
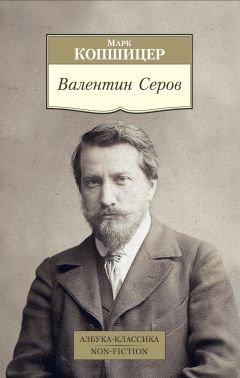
Автор книги: Марк Копшицер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Марк Копшицер
Валентин Серов
Там, где не велик нравственный облик, нет великого человека, нет даже великого художника или великого человека действия, а есть лишь пустые кумиры для низкой толпы: время уничтожит их всех вместе. Успех для нас не важен. Надо быть великим, а не казаться им.
Р. Роллан. Героические жизни
Эта милостивая природа позаботилась так, что ты во всем мире найдешь, чему подражать.
Леонардо да Винчи
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство АЗБУКА®
Глава I
Валентин Александрович Серов родился в Петербурге в ночь с 6 на 7 января 1865 года.
В эту ночь отец его, знаменитый композитор и музыкальный критик Александр Николаевич Серов, в ожидании предстоящего события оркестровал «Рогнеду», свою вторую оперу. Он стоял у конторки, наносил на линованную бумагу нотные знаки и прислушивался. В соседней комнате врач принимал роды.
Раздался крик младенца. Свершилось… Кто это? Мальчик или девочка? Вопрос! Он поставил вопросительный знак в партитуре и попытался продолжать работу. Младенец не унимался. Крик несся по квартире. Отец не вытерпел и, не дождавшись, пока его позовут, пошел узнавать, кто родился.
Это был сын. Итак, у него сын. Маленький Серовчик…
Он опять вернулся к конторке, но работать уже не мог, а только слушал проникавший сквозь все двери крик младенца и усмехался про себя.
Наконец Серовчик затих. Александр Николаевич пошел к жене. Она лежала, откинувшись на подушки и закрыв глаза, бледная, с умиротворенным лицом. Она была совсем молода, почти девочка. Ей не было еще восемнадцати лет.
Прошло немногим больше года с того дня, как она переступила порог квартиры знаменитого Серова. О, это было совсем не так просто! Она училась тогда в консерватории, все преподаватели которой ненавидели Серова за его острые критические статьи («критики», как их тогда называли), за язвительные, полные сарказма остроты, передававшиеся из уст в уста всем причастным искусству Петербургом, за пропаганду музыки Вагнера, наконец, за его собственную оперу «Юдифь», шедшую с огромным успехом.
Но Валентина Семеновна Бергман не побоялась немилости преподавателей и уговорила своего знакомого, некоего Славинского, повести ее к Серову. Валентине Семеновне было в ту пору всего шестнадцать лет. Но, несмотря на юный возраст, она успела стать настоящей «шестидесятницей», в кровь и плоть впитавшей идеи Чернышевского и множества других больших и малых писателей и публицистов, прогрессивных или казавшихся таковыми. За свои воззрения она была исключена из пансиона, но нисколько не унывала.
Служение народу было уже в то время и осталось на всю жизнь главной целью ее существования. А так как она страстно увлекалась музыкой, то решила стать и стала впоследствии пропагандистом музыки среди народа.
Серов был для нее олицетворением прогресса в музыке, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы он стал ее кумиром, и она со всем пылом юной своей решительности предпочла блестящему положению воспитанницы консерватории роль ученицы опального реформатора.
Первый вопрос, который она задала, когда они познакомились, был:
– Скажите, как сделать, чтобы музыка была полезной?
– На бирже пеньку продавать, – мгновенно отозвался Серов.
Так с первых же слов определились разногласия, которые сопровождали их отношения в течение всей жизни.
Она пришла сюда как ученица и осталась в роли жены.
Нет, конечно, все было законно и прилично. Идеи идеями, а общественное мнение тоже кое-чего стоит.
И все было так, как должно быть и как бывает обычно. Она понравилась ему «с первого взгляда». Во время первой же беседы выяснилось сходство музыкальных вкусов: оба любили Баха и тут же сыграли в четыре руки его фугу. Серов много и вдохновенно, вдохновеннее даже, чем всегда, говорил о музыке.
Назавтра же она бросила консерваторию, и он стал ее педагогом. Он отдался этому делу с рвением влюбленного энтузиаста.
Через некоторое время Александр Николаевич должен был признаться себе и ей, что она стала необходима ему. Когда она, заболев, не приходила, Серов тосковал.
Он рассказал ей всю свою жизнь. Когда Валентина Семеновна бывала у него, он никого уже не принимал, кроме самого близкого своего друга – поэта Аполлона Григорьева.
Наконец он решился и, собравшись с духом, сделал предложение.
Она сейчас же поставила условие: чтобы была нейтральная комната, как у Веры Павловны и Лопухова, героев «Что делать?».
– Не верьте вы книжкам, – сказал ей Серов, – жизнь умнее их. А главное, вспомните! Вера Павловна с Кирсановым не имели нейтральной комнаты…
Предложение было принято. Валентине Семеновне Бергман не исполнилось еще семнадцати лет, когда она стала невестой знаменитого Серова. С увлечением рассказывает она в своих воспоминаниях, как представляла жениха своей соседке, какой-то старушке-швее, восторженной почитательнице Серова, как эта соседка была изумлена и плакала от радости, как все было словно в рождественском рассказе.
Дело и вправду происходило незадолго до Рождества.
Однако всплыло и препятствие – родители Валентины Семеновны. Когда старики узнали, что их дочь, оставив консерваторию, стала ученицей Серова, они написали ей письмо, в котором назвали композитора «политическим интриганом».
Это была небогатая еврейская семья, и родителям не так-то просто было расстаться с мыслью, что свое блестящее будущее их дочь поменяла на роль ученицы какого-то старого холостяка, будь он хоть тридцать раз реформатором, а теперь еще хочет стать его женой. Их дочь приехала из Москвы в Петербург с великолепными характеристиками, стипендиаткой Русского музыкального общества. Она сразу же стала ученицей самого Антона Григорьевича Рубинштейна.
И теперь все это полетело к черту.
Пришлось ехать в Москву. Пришлось Серову пустить в ход все свое неповторимое обаяние. И старики Бергманы сдались.
После женитьбы стали жить замкнуто. Валентина Семеновна бросила свои композиторские попытки, с восторгом принимала все выходившее из-под пера мужа (он сочинял в ту пору «Рогнеду»), занималась переводами статей из музыкальных журналов и влюблялась все больше и больше в Александра Николаевича, который на время привил ей даже свои вкусы, вкусы человека сороковых годов: она восторгалась «Ундиной» Ламотт-Фуке, «Записками охотника», живописью Брюллова.
Но яд шестидесятничества был крепок в ней, и, когда прошли первые восторги, она начала постепенно возвращаться к прежним своим воззрениям и вкусам.
Через год после замужества, в ночь с 6 на 7 января 1865 года, Валентина Семеновна родила мальчика, который был назван Валентином.
Впрочем, с первых же дней жизни его имя стали переделывать, – может быть, чтобы не спутать его с именем матери, ведь ее тоже звали Валентиной. Его имя переделали в Валентошку – Тошку – Антошку – Антона – Тоню. Так и называли его всю жизнь друзья и родные каким-нибудь из этих имен, кому какое нравилось.
Тоня был очень смирным ребенком, не кричал, не капризничал. Отец был доволен, его жизнь не претерпела никаких изменений. Только изредка он отрывался от работы и, подойдя к кроватке, в которой лежал сын, улыбался счастливой улыбкой и говорил: «А ведь вырастет, шельмец, спорить со мной станет, свои мнения отстаивать будет!» – и, усмехнувшись, отходил к конторке.
Мальчик развивался очень медленно. К двум годам он еще не говорил, да и позже у него случались периоды какого-то отупения, когда он не произносил ни слова, не мог понять простых вещей. Но это проходило, и тогда он становился живым, общительным и очень наблюдательным ребенком. Отец любил рассматривать с ним старого Бюффона, которого купил на первые подаренные ему деньги, когда был таким маленьким, каким был сейчас Тоня.
И сын внимательно, с интересом смотрит на изображения этих удивительных созданий, так не похожих на все, что его окружает.
В городе он видит только одних животных – лошадок. Он чувствует трепет, когда смотрит на них. Взобравшись на подоконник, он часами наблюдает, как они провозят по улице кареты и телеги, а зимой санки. Глаза у них закрыты черными кожаными шорами, и кажется, что шоры – это огромные лошадиные глаза. И он долго смотрит на них своими серыми выразительными глазами, так похожими на глаза отца.
И руки у него похожи на отцовские: маленькие, широкие, с короткими пальцами. Он уверенно держит ими карандаш и пытается нарисовать лошадку. Ему кажется, что у нарисованной лошадки мало ног, ведь они такие тоненькие: линия – нога. И он рисует пятую ногу, шестую, седьмую… Когда их набирается тринадцать, он останавливается: теперь, пожалуй, хватит.
Отец смеется над его рисунками. Он берет карандаш, старого Бюффона и срисовывает ему замечательную лошадку. В детстве он тоже любил рисовать, и особенно животных, и он доволен, что сын унаследовал его вкусы. И не только отец рисует ему лошадок. Пожалуй, еще лучше делает это их гость, друг отца Николай Николаевич Ге. Его лошадки необыкновенные, совсем живые. Тоша прячет эти рисунки и потом рассматривает их: странно! – четыре ноги, а не кажется, что мало.
У родителей много знакомых художников. Вот, например, они ходили к скульптору Марку Антокольскому смотреть огромный горельеф «Нападение инквизиции на евреев, справляющих Пасху» и скульптуру «Иван Грозный». Родители были в восторге от «Ивана» и от «Инквизиции», но Тоня был в восторге от воспитанника Антокольского мальчика Элиасика[1]1
Впоследствии известный скульптор Илья Гинцбург. Его облик в те годы запечатлен на портрете Репина (1871).
[Закрыть], который лепил ему из воска все тех же милых его сердцу лошадок. Тоня до того увлекся восковыми лошадками, что забросил куда-то свою шапку и возвращался домой в меховой шапке Антокольского, большой, словно снятой с Ивана Грозного.
После этого случая Антокольский, приходя к Серовым, стал приводить с собой своего воспитанника, так что маленький скульптор стал первым приятелем Тоши.
Когда ему было четыре года, родители взяли его с собой за границу в гости к композитору Рихарду Вагнеру, другу отца.
Вагнер жил в городе Люцерне на берегу красивого озера, и они ехали туда в лодке. Вокруг виллы Вагнера бродили туристы-англичане. Они мешали работать старому композитору, эти невозмутимые и чересчур любопытные люди с бедекерами в руках. Когда он гулял, они рассматривали его сквозь решетку, словно достопримечательность, педантично фиксируя в своей памяти: «Видели виллу знаменитого композитора Вагнера и его самого. Одет в черное, на голове берет…»
Для охраны от туристов Вагнер завел огромного ньюфаундленда, который за то, что был совершенно черного цвета, получил кличку Russ (сажа).
Russ был замечательным животным. Пока старый Иоганн, слуга Вагнера, обносил гостей рейнвейном (отличным старым рейнвейном), Russ, этот непримиримый враг туристов, позволил маленькому Тоше взобраться к себе на спину, а маленькой Еве, голубоглазой и златокудрой дочери Вагнера, погонять себя хворостиной. Они сразу же подружились, и каждый раз, когда Серовы приходили к Вагнерам, Russ прыгал вокруг и весело махал хвостом, а Ева приветливо улыбалась.
Что он запомнил еще?
Беседку с фазанами в саду и ослов на горных дорогах. Ослы были очень похожи на лошадок, только гораздо меньше, и потому Тоша, когда мама с папой ушли вперед, не побоялся подойти к ним. Он даже взобрался на одного маленького смирного ослика. Но когда мама с папой обернулись, оказалось, что ослики испачкали Тошин костюм, руки и даже лицо. Пришлось возвращаться в город купать и переодевать сына. Они опоздали на праздник к Вагнеру, и Вагнер был очень недоволен. Но потом, когда узнал, в чем дело, долго смеялся. И даже как-то во время разговора после гневного восклицания: «Сколько на белом свете ослов!» – остановился, расхохотался и, положив руку на Тошину головку, сказал: «А тебе они милы, мой мальчик, да?»
Очень скоро, однако, романтический период в жизни супругов Серовых окончился; с Валентины Семеновны спала пелена, которой окутал ее муж: она опять стала шестидесятницей. В музыке влияние Серова продолжалось, но и только… Она вошла в нигилистскую фракцию «Труженики науки»; ее кумирами опять стали Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Шелгунов, Милль, Лассаль, Смайлс.
Квартира Серовых на 15-й линии Васильевского острова представляла собой в те годы странную картину. Сюда еще раньше заглядывали многие известные лица: художник Ге, изобретатель Ладыгин, путешественник Миклухо-Маклай, скульптор Антокольский и его друг и однокашник Репин, поэт Майков, писатели Тургенев, Достоевский и Островский. Теперь сюда стала приходить молодежь, небрежно одетая, много и громко говорящая, курящая и вообще бесцеремонная. Было установлено абсолютное и безусловное равенство мужчин и женщин. Не только короткие волосы и безусловная эмансипация, – уступить женщине стул значило оскорбить ее, и оскорбленная не обижалась, только принимая во внимание невежество неофита или гостя, да еще потому, что обиды пахли чем-то отжившим, феодальным.
Когда кто-нибудь в Петербурге спрашивал адрес Серовых, ему говорили: «На 15-й линии, в угловом доме на Большом проспекте, увидите народ в окнах, услышите музыку – туда и войдите, не говоря ни слова».
Действительно, туда мог прийти всякий. И всякий пришедший попадал в довольно странную атмосферу, возникшую из-за различия характеров Александра Николаевича и Валентины Семеновны Серовых. Трудно представить себе двух человек, которые при сходстве вкусов и стремлений были бы так непохожи во всем остальном.
Каждый имел свою рабочую комнату.
Александр Николаевич – кабинет с коврами и диваном, с письменным столом и креслом, с конторкой, старыми театральными афишами, безделушками.
В комнате Валентины Семеновны, которая носила название «мастерской», стояли только рояль и стул, все остальное, как не имеющее прямого отношения к музыке, ее главному занятию, было изгнано.
Та же разница была и во внешнем облике супругов. Его внешность, подчеркнуто романтичная, театральная, резко контрастировала с ее остриженными волосами, строгим лицом и строгим покроем платья.
Печать этого контраста легла и на собрания в их квартире. Серов играл друзьям отрывки из своей новой оперы «Вражья сила», которую сочинял по мотивам драмы Островского[2]2
У Островского эта драма называется «Не так живи, как хочется».
[Закрыть], как всегда, пылко и восторженно говорил о музыке, а в это время молодежь затевала горячие споры, поднимала крик. Серов убегал к себе в кабинет, бранился, за ним уходили его друзья и почитатели. Молодежь на время смущалась, замолкала: к Александру Николаевичу относились с уважением, и не потому, что он композитор, что он старше их, нет, но он был ученым человеком, он был силен в естественных науках, знал астрономию, геологию, архитектуру и не ставил себе этого в заслугу.
Однако больше, чем громкие разговоры приятелей жены, больше, чем их бесцеремонность, Александра Николаевича раздражало содержание их разговоров. Они были недовольны существовавшими в России порядками, он же считал их недовольство мальчишеством, фрондерством, чем-то совершенно несерьезным. Он очень ценил либерализм времен Александра II, ибо помнил страшные годы николаевской реакции, наступившей после восстания декабристов, и теперь, когда слышал, о чем говорили друзья его жены, его охватывал панический страх. Он боялся возвращения реакции.
Единственное, что считал Серов серьезным в делах своей жены, что он всячески поощрял и в чем даже сам принимал участие, были чтения «для народа», причем народ был представлен кухаркой и ее подругами. На чтениях, кроме прислуги, присутствовали гости Серовых, и все покатывались со смеху, слушая, как хозяин дома, и здесь проявивший блестящий талант, читает «Повести, изданные пасичником Рудым Паньком».
Так продолжалось, пока Александр Николаевич Серов скоропостижно не умер. Случилось это 20 января 1871 года. Незадолго до того он побывал в Вене на конгрессе, посвященном столетию со дня рождения Бетховена, и вернулся не совсем здоровым, но продолжал писать «Вражью силу», горячо спорить о музыке, даже строил планы поездки в Индию, и никто не ждал трагического конца. Все были потрясены этой неожиданной смертью.
…Но вот выполнены все формальности. Тело предано земле. Другу покойного, художнику Ге, заказан его портрет…
И как-то сразу оказалось, что все эти сборища нигилистов, весь этот «зверинец 15-й линии», как назвала их позже Валентина Семеновна, были возможны потому, что композитор Александр Николаевич Серов имел большую квартиру и очень терпимо относился к затеям своей жены, которых никогда не мог понять.
Теперь все кончилось. Валентина Семеновна за несколько дней заметно постарела, осунулась. Оказывается, она очень любила своего мужа, больше, чем ей самой думалось. Надела траурное платье. Ее посещала только одна из нигилисток, княжна Наталия Николаевна Друцкая-Соколинская. Валентина Семеновна была очень дружна с этой маленькой изящной блондинкой, постоянной посетительницей ее сборищ, куда княжна, в отличие от всех прочих, приходила красиво и богато одетой. Ей это прощалось, ибо Талечка (так называла ее Валентина Семеновна) все свои деньги отдавала для «дела».
И теперь, когда в квартире Серовых воцарилась тоска, она одна была утешительницей молодой вдовы.
Только шестилетний Тоша, плохо понимавший значение случившегося, будто назло, был крайне оживлен. Он шалил, прыгал по стульям и диванам и, единственный, рассеивал гнетущую атмосферу.
А его мать обсуждала тем временем с тетей Талей его судьбу. И в результате их совещаний было решено, что Валентина Семеновна едет в Мюнхен к музыканту Леви, другу Вагнера, кончать музыкальное образование, чтобы впоследствии заниматься музыкальным образованием крестьян. Друцкая выходит замуж за доктора Осипа Михайловича Когана, и они еще с двумя супружескими парами поселяются в имении князей Друцких, чтобы там организовать земледельческую интеллигентскую колонию с гигиеническими и этическими целями по рецепту доктора Когана. Туда же с ними отправляется и маленький Тоша Серов, чтобы стать воспитанником коммуны, а впоследствии идеальным человеком и достойным гражданином.
Цель общины, организованной на хуторе Никольском Смоленской губернии, была не совсем ясна, но, предположительно, участники ее, шесть взрослых и один ребенок, должны были стать пионерами будущего общества и личным примером доказать, что идеи Чернышевского не утопия.
Были установлены строгие, обязательные для всех членов законы.
Во имя равенства одевались все одинаково, причем мужской костюм был избран, надо думать, потому, что он удобнее, а не потому, что мужчине стыдно ходить в юбке.
Сейчас, когда со времени описываемых событий прошло почти сто лет, нам очень многое кажется смешным.
Действительно, нельзя не улыбнуться, когда читаешь о решении дворянско-интеллигентской коммуны, основанной в имении, принадлежащем одной из ее участниц, во имя усугубления равенства купаться всем вместе, мужчинам и женщинам. Стыд полагался несуществующим.
Ребенок был членом коммуны и должен был подчиняться общим правилам.
Его воспитывали строго и непреклонно, по единожды выработанной методе. Так как с детства решено было приучить его к труду, ему приходилось в порядке очереди наравне со старшими заниматься всеми работами по дому.
Но шестилетний мальчик не любил этих работ. Поди втолкуй ему, что это делается не в виде наказания, не для эксплуатации его труда. Он ненавидел маленький, липкий от жира комочек, который именовался мочалкой и служил для мытья посуды, он никак не мог понять, что это не что иное, как один из атрибутов воспитания будущего совершенного человека. Впрочем, он не мог понять этого всю жизнь, и воспоминание о мочалке даже в зрелые годы вызывало у него неприятную дрожь.
И вряд ли мытье посуды, равно как и другие пункты воспитательной методы, сделали его тем идеально честным человеком, каким он стал впоследствии; скорее, наоборот, он стал им, несмотря на методу.
Кроме Тоши Серова, в коммуне решено было воспитывать еще одно живое существо. Дабы не нарушен был принцип Ноева ковчега, на воспитание была взята крестьянская девочка, которая была еще меньше Тоши. Эта девочка должна была путем воспитания ее в искусственной среде стать в будущем совершенным человеком женского пола, подобно тому как Тоша должен был стать совершенным человеком мужского пола. Члены коммуны очень верили в то, что это возможно.
А пока что она, одетая в мужской костюмчик, была поручена Тошиному вниманию.
С этой девочкой связано большое разочарование в жизни маленького Серова.
Обнаружив склонность Тоши к рисованию, тетя Таля купила ему краски и даже рассказала, как умела, о законах перспективы. Он подолгу рисовал и потом раскрашивал рисунки. Как-то он нарисовал девочке отличных лошадок, но они не надолго развлекли ее. Тогда, чтобы иметь возможность продолжать свою работу, он устроил для девочки другую забаву: он вырезал карман в пальто тети Тали; девочка была в восторге, а он, воспользовавшись временем, свободным от гувернерских обязанностей, стал рисовать оленей. Он думал о них уже несколько дней. Целые стада их проходили перед его мысленным взором. Олени были красивыми, с ветвистыми рогами и твердыми крупами.
И он нарисовал это стадо оленей и был чрезвычайно горд своим рисунком. Но его преступление скоро было обнаружено, и последовало наказание: олени, его чудесные олени, гордость маленького художника, были преданы уничтожению. Наказание было, может быть, теоретически очень педагогично, но лучше бы его побили. Он был возмущен и обижен, он горько плакал и был безутешен. У него отобрали краски и карандаши, и в дальнейшем он только украдкой мог заниматься рисованием.
Валентина Семеновна удивлялась впоследствии: «Получился совершенно непредвиденный результат Тошиного гощения в возникающей общине: он ее возненавидел, и Талечку в первую голову».
Наивная женщина, она не могла до конца дней своих понять, что для Талечки рисование, которым занимался маленький Серов, было одним из элементов воспитания, к тому же не самым главным (присмотр за девочкой и мытье посуды мочалкой значительно важнее), для него же это, даже в том возрасте, было самым главным в жизни, ну вот как для Валентины Семеновны и Талечки всяческие системы и учения.
В детстве человек острее воспринимает и надолго запоминает обиды. Он с горечью и возмущением рассказал об этом случае матери при первом же свидании. Он даже спустя сорок лет вспоминал о нем с возмущением.
– Такая это была страшная обида, – говорил он незадолго до смерти Сергею Глаголю, – что и теперь я, уже стареющий человек, до сих пор не могу спокойно об этом вспомнить, – до сих пор какое-то бешенство поднимается в груди.
Он рассказывал также Глаголю, что и до случая с изрезанным пальто его страсть к рисованию использовали для того, чтобы заставить получше мыть посуду и получше следить за девочкой. Если он справлялся со своими обязанностями неудовлетворительно, тетя Таля попросту отбирала у него карандаши и краски. Так что изрезанное пальто было отчасти актом не то мести, не то протеста.
Впрочем, Никольское оставило у него и приятные воспоминания. Там он впервые увидел и навсегда полюбил русскую природу, русскую деревню.
Лошадки, его любимые лошадки, ходили там без упряжи. Он научился ездить на них. Бывал в ночном и, сидя у костра с деревенскими ребятишками, мог часами, не отрывая взгляда, смотреть на спящих с опущенной головой лошадей. Их гривы свешивались почти до земли, лошади вздрагивали от ночного холодка – все было ново и замечательно. Он пытался изобразить это на бумаге, и теперь лошадки его уже твердо стояли на четырех ногах. Он рисовал их бесконечно, пока ему не запретили. Но самое большое впечатление произвело на него корчевание леса.
До глубокой ночи жгли пни исполинских деревьев, вверх летело пламя, дерево трещало, рассыпало искры. Тоша, словно завороженный, смотрел на это зрелище, его невозможно было загнать домой… Он приходил, когда кончались работы, усталый и счастливый и, едва успев смыть грязь и копоть, засыпал как убитый.
А утром он пытался передать красками то, что видел вчера вечером. Но ничего не получалось: желтая краска была слишком бледной, красная – слишком яркой, чтобы передать огонь. Он злился на свое неумение, но не очень огорчался – впереди был еще день такого же изумительного зрелища: опять поваленные деревья, вывороченные пни и костры на их месте…
Коммуна распалась, просуществовав год.
Коганы покинули Никольское и уехали в Мюнхен, увозя с собой Тошу и подопытную девочку, которую все еще намеревались воспитать идеальным человеком.
После года разлуки мальчик опять встретился с матерью. Он поведал ей о том, что хочет стать художником, и рассказал, как нехорошая тетя Таля запретила ему заниматься рисованием.
Мать могла предполагать, что он действительно станет художником, но не была уверена в этом – он мог стать и музыкантом. Однако искусство – дело будущего, сейчас главным была воспитательная метода. Ему все же предстояло стать прежде всего идеальным членом общества, а потом уже кем угодно, помимо этого.
Но в Мюнхене Валентина Семеновна жила с единственной целью: получить систематическое музыкальное образование, прерванное замужеством. Дни она проводила у Леви, своего учителя, вечера – в театре или концертном зале. Ей некогда было заниматься воспитанием сына. Она пошла на компромисс. Тоша был отдан в народную мюнхенскую школу (Volksschule).
Так началась его жизнь в Мюнхене. Это был интересный город, он не был похож на все, что видел Тоша до сего времени. Узкие кривые улицы, узкие высокие дома с острыми кровлями из красной черепицы, узкие стрельчатые окна, спокойная, размеренная жизнь. По улицам двигались телеги с огромными бочками. В бочках было знаменитое мюнхенское пиво, лучшее в мире. Мюнхенцы гордились своим пивом. Мужчины, толстые, красные, сидели в пивных, называемых виртшафтами, и орали словно опереточные герои: «Eine Seidel Bier!», «Noch eine Seidel Bier!», «Dritte Seidel Bier!»
Пиво они закусывали очень длинными сосисками и колбасой. Сосиски и колбаса были тоже лучшими в мире. Во всяком случае, мюнхенцы были в этом убеждены.
Но Тошу не интересовали ни колбасы и сосиски, ни толстые мюнхенцы, ни густое темное пиво. Его интересовало то, что повозки с бочками везли лошади; о нет, не русские жалкие лошаденки, которые дрогли на петербургских улицах, запряженные в крестьянские телеги или санки, даже не благородные рысаки, бесшумно катившие по торцам Невского проспекта элегантные коляски и роскошные кареты. Это были совсем другие лошади. Они были огромны. Они били колоссальными копытами по булыжникам мостовой; чуть выше копыт висела густая бахрома, с мощной шеи свешивалась длинная густая грива, хвост был заплетен в толстую косу. Эти рабочие лошади были привезены сюда из далекой Шотландии.
Ими больше всего интересовался Тоша в первые дни пребывания в Мюнхене. Их он рисовал вечерами, после занятий в Volksschule, когда мать оставляла его одного и уходила «на свою проклятую музыку», которую он возненавидел всей душой, потому что она была причиной его одиночества.
Но все же здесь было лучше, чем в Никольском…
А потом Валентина Семеновна, желая окончательно освободиться от воспитательских обязанностей, отдала сына в простую баварскую семью, где он очень скоро забыл рисование и даже родной язык.
К счастью, Тоша нашел то, чего не могла ему дать Валентина Семеновна, то, что не было предусмотрено методой и в чем он очень нуждался, – материнскую ласку. Он сближается с детьми очень культурного мюнхенского семейства Риммершмидт. Новые друзья восторгались его талантами, а фрау Риммершмидт подарила ему частичку своего чудесного доброго сердца. И это лучше всяких метод и контрметод сделало его таким, каким хотела видеть сына Валентина Семеновна, – мягким и добрым.
Он до конца жизни с любовью и благодарностью вспоминал об этой женщине и ее детях.
В 1873 году в жизни Тоши произошло важное событие: в Мюльтале, курортном городке близ Мюнхена, куда Серовы переехали на лето, он познакомился с художником Кёппингом, который жил с ними в одном доме.
Каждое утро Кёппинг, взяв с собой все необходимое, уходил за город писать этюды. Как-то он пригласил Тошу разделить его компанию и после этого совершенно определенно заявил Валентине Семеновне, что ее сын очень талантлив. Но Валентина Семеновна все еще сомневалась. Она боялась, что талант ее сына преувеличивают, что он просто вундеркинд, не больше.
Она послала Тошин рисунок, льва в клетке, в Рим Антокольскому, своему старому приятелю. Вскоре пришел ответ: Антокольский писал, что маленький Серов действительно очень талантлив.
Таким образом, было решено учить Тошу у Кёппинга. Мальчик делал быстрые успехи. Кёппинг не мог нахвалиться способностями своего ученика. Они ходили на этюды за город, а вернувшись в Мюнхен, рисовали в студии Кёппинга, посещали студии других художников и знаменитую Мюнхенскую Пинакотеку, причем в этих случаях к ним присоединялась Валентина Семеновна, с интересом слушавшая рассуждения старого художника о знаменитых картинах и их творцах: здесь висели полотна Рембрандта, Веласкеса, Брейгеля…
Было решено: он станет художником. И с тех пор разговоры с сыном о его будущем мать начинала словами: «Когда ты станешь художником…»
Валентина Семеновна купила ему альбом и собственноручно сделала надпись: «Тоня Серов. № 1».
Летом опять жили в Мюльтале, туда же переселился Кёппинг. В доме все было подчинено живописи – Валентина Семеновна не могла уже игнорировать интересы сына. Ему было девять лет, но он настойчиво предъявлял свои права.
«Мольберты, кисти, альбомы, – пишет Валентина Семеновна, – входили в обычную нашу обстановку; рисовали на вольном воздухе, в комнате, даже в кухне. И всегда всерьез, с требованием истинного искусства».
Это стало тем более легко, что Валентина Семеновна, оставив Тошу на попечение Кёппинга, уехала в Рим, куда вызвал ее Антокольский, чтобы серьезно обсудить будущее Тоши.
Антокольский, посмотрев привезенные рисунки, сказал ей:
– В старину здесь, в Италии, были мастерские, и ученики выучивались своему искусству лучше, чем во всевозможных академиях. И теперь я предпочитал бы влияние одной личности, но крупной, давлению целой группы академистов, и к тому же еще бездарных.
Антокольский посоветовал – и Валентина Семеновна согласилась с ним – отправиться в Париж, где жил в то время Репин.
Осенью 1874 года мать и сын Серовы покинули Мюнхен и прибыли в Париж.
На следующий день после приезда, едва устроившись, Валентина Семеновна повела Тошу на Монмартр, на площадь Вернон, к «господину Репину». Тоша не помнил его, но мать рассказала, что Репин бывал у них в доме, когда был жив отец, а потом, когда отец умер, Репин приходил по приглашению Валентины Семеновны писать портрет покойного композитора. Но портрет был уже заказан Николаю Николаевичу Ге.









































