Текст книги "Валентин Серов"
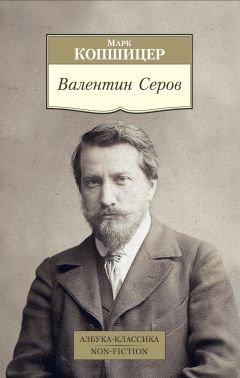
Автор книги: Марк Копшицер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Как думаешь, получу я за них двадцать пять рублей? – спрашивал он у Сережи Мамонтова.
Но он получил неожиданно триста рублей. Такие деньги были для него в ту пору сказочным богатством.
Самой значительной работой 1884 года был портрет Людмилы Анатольевны Мамонтовой, писанный маслом. Это почти парадный портрет, первая очень серьезная работа, почти самостоятельная, но не выдающаяся. Он все же еще ученик, он еще не понял себя до конца, не отрешился от всех влияний, не слил воедино все полезное, полученное от учителей…
Антокольский, о котором упоминается в письме Серова, продолжал работать за границей, в Париже, но каждый год приезжал в Россию и обязательно посещал Абрамцево. В том же письме к невесте Серов пишет о нем: «Сегодня он только уехал, а то все время был тут. Виделся, конечно, каждый день. Часто беседовали об искусстве, конечно. Часто просто слушал, как он спорил об искусстве же с Васнецовым и другими. Умный он и начитанный (Аарон), но нетерпимый и в споре почти невозможен. Знаменитые люди часто, если не всегда, такие. Он прекрасно, серьезно относится к искусству, так же как я хочу относиться, и работает – ты сама знаешь, видела его работы. Нравится мне тоже, что он не стоит за западное, пошлое, бессодержательное направление искусства и бранит его».
Поистине лишь те мысли ценны и определенны, к которым пришел сам, путем размышлений и собственного опыта.
Прошедшей зимой у Симоновичей Серов поддерживал Врубеля в его спорах со старшими, высказывавшими те же мысли, что сейчас высказывал Антокольский.
Лишь спустя несколько лет, осознав себя как художника, Серов выработает свой собственный взгляд, который окажется и не таким, как у Врубеля, и не таким, как у Антокольского. Но Антокольский говорил страстно и убежденно, и это вызывало к нему всеобщие симпатии и уважение. С ним трудно было не соглашаться и, уж во всяком случае, нельзя было не слушать его с увлечением.
И всегда так получалось в этих беседах, что мысли Антокольского оказывались наиболее глубокими и интересными. Он говорил только о том, что сам хорошо обдумал.
Это стоило у него позаимствовать.
Молодому Серову Антокольский дает не только «идейные указания», но и практические советы, касающиеся психологии творчества: если ты не можешь больше писать, если каждый мазок твоей кисти кажется тебе фальшивым, каждая линия вялой – брось! Совсем брось работать. Отдыхай. Читай книги. Устраивай веселые игры и пикники. Лови бабочек. Плавай в реке. Греби. Валяйся в траве и смотри, как меняются очертания облаков. И занимайся этим столько, сколько будешь в состоянии. Потому что все равно когда-нибудь утром ты проснешься с отчаянной жаждой работать: рисовать, писать, весь день смешивать на палитре краски, подбирая нужные тона. Ты дорвешься до работы, как голодный до еды. И тогда за один день ты сделаешь больше и лучше, чем за месяц скучного принудительного труда, совершаемого с мыслью: «Неужели я выдохся?»
И Серов следует советам Антокольского.
«Я послушался и недели полторы ничего не делал, то есть не писал, а принялся по его же совету за чтение (советовал тоже не стеснять себя выбором, читать все: научное, беллетристику, путешествия и т. д.). Я откопал „Фрегат «Палладу»“, и, несмотря на скуку, которой там все-таки порядком, хотя она и прекрасная вещь и много в ней красивого, я все же с удовольствием кончил это длинное путешествие. Читал еще Шевченко и еще что-то. (Видишь, я тоже перечитываю те книги, которые читал или читаю, – как и ты.) Работать начал только теперь. Начал этюд – пейзаж (невеселенький)». И в следующем письме: «А здесь, если бы ты могла представить… что делается… здесь. Театр, репетиции, водевиль, обольстительные танцы, которые я устраиваю, одним словом, черт знает что такое. Ну, да это бешеное время прошло, да и слава богу».
В 1885 году Серов оставил Академию художеств и уехал в Одессу, где жили его невеста и Врубель. Он пробыл там всю зиму, а весной 1886 года после неудачи с созданием содружества художников опять появился в Абрамцеве.
И теперь-то, собственно, начинается тот период его творчества, который может быть назван абрамцевским…
В Абрамцеве, как всегда, было весело и интересно. Савва Иванович был увлечен своим новым предприятием: созданием Русской частной оперы, уже не любительской, для избранного круга зрителей и с самодеятельными артистами, а настоящей, соперничающей с казенной императорской сценой, которая погрязла в рутине и давно уже перестала быть искусством.
С Частной оперой связано появление в Абрамцеве и в московском доме Мамонтовых молодых учеников Поленова, сменившего в то время в пейзажном классе Московского училища живописи, ваяния и зодчества Саврасова.
Первым из привлеченных был Левитан. Он исполнил пейзаж к «Русалке», писал по эскизу Васнецова подводное царство, чем вызвал всеобщий восторг зрителей. Впервые в истории русского театра зрители аплодировали декорациям, а художники – Васнецов и Левитан – были вызваны на сцену. Писал Левитан декорации и для «Фауста».
Потом Левитан немного работал в Абрамцеве, написал там несколько этюдов, но у Мамонтовых не прижился.
С Серовым, однако, у него завязались хоть и не очень в ту пору близкие, но теплые дружеские отношения, продолжавшиеся до самой смерти Левитана. Левитан, величайший из русских пейзажистов, очень высоко ценил пейзажи Серова.
Тогда же появился у Мамонтовых другой ученик Поленова – Константин Коровин.
О, у этого был совсем иной характер! Трудно было найти фигуру более колоритную. Общительный, живой, темпераментный, Коровин тотчас же сошелся со всеми, стал общим любимцем, Савва Иванович души в нем не чаял, он ухватился за него, как хватался обычно за всех талантливых людей. Талантлив же Коровин был необыкновенно, и при его характере талантливость била из него ключом. Кроме того, он был совершенно какой-то свойский, и все его сразу же стали называть просто Костей или даже Костенькой.
С Серовым они сделались неразлучными друзьями, Мамонтов, любивший давать всем прозвища, называл их «Артур и Антон». Артур – это имя удивительно точно передавало внешность Коровина. В Коровине было что-то романтическое, как и в этом старом, немного даже архаичном имени, словно выхваченном не то из рыцарского романа, не то из комедии «плаща и шпаги». Так же как имя Антон – Серов сам утверждал это – больше подходило к нему, чем Валентин.
– Нечего сказать, – говорил он, – удружили мои родители. Этакое лицо, нос… и вдруг – Валентин! Что это? Да ясно, я должен петь арии Валентина! Меня называют Антоном. Пожалуй, это лучше. Ладно! Да, я скорее Антон.
В противоположность Серову Коровин был поразительно безалаберным и неаккуратным. Волосы его всегда были спутаны, причесанным его никто никогда не видел, рубашка между жилетом и брюками была измятой. Серов улыбался, глядя на своего друга.
– Паж времен Медичисов, – говорил он.
Он брал этот клок рубашки и тянул к себе. Рубаха вылезала из брюк. Коровин не заправлял ее обратно. Зачем?..
Он не сердился на своего друга. При всей своей мнительности, порой анекдотической[6]6
Как-то он с обидой сказал Левитану, разглядывая его этюд: «Признайся, а ведь это облачко ты взял у меня…»
[Закрыть], он был незлобив и очень любил Антона.
Антон тоже любил Костеньку. Он любил его за то, что тот обладал качествами, которыми сам Серов не обладал. Серов был медлительным и угрюмым, во всяком случае большую часть времени; Коровин был как фейерверк, быстрым, ярким, красивым, но зато Серов был настойчив и трудолюбив, Коровиным же часто овладевали длительные приступы лени. Серов был редкостно принципиальным (он говорил: «Принципов у меня мало, но я их строго соблюдаю»), Коровин был обидно беспринципен.
Этого качества Серов не выносил в людях. Но Костя Коровин и в беспринципности своей был так наивен и непосредствен, что на него невозможно было сердиться.
Если бы Коровин имел философское направление ума, он мог бы возразить Серову словами Бернарда Шоу: «Золотое правило не иметь золотых правил». Но Костя не имел философского направления ума, кроме того, он мало читал, если вообще читал что-нибудь в то время; его никто никогда не видел с книгой, он был поразительно безграмотен. Всю жизнь он писал, говорил и даже пел с ошибками. В арии Онегина он неизменно произносил: «Мне ваша искренность мела».
И вместе с тем был он удивительным рассказчиком, очень талантливым и своеобразным, с богатым воображением, с неиссякаемой фантазией. Часами, из вечера в вечер, мог он рассказывать девочкам Мамонтовым бесконечную, на ходу сочиняемую сказку про Лягушку-сморкушку. Да и любой его рассказ был всегда жив и интересен. Оставленные им воспоминания, написанные вчерне, бессистемно, поражают образностью и замечательным слогом. Эти наброски сделаны с талантом незаурядного писателя.
Введенный в мамонтовский кружок, Коровин стал одним из активных его членов. Декоратор он был блестящий, хотя и здесь не обходилось без курьезов, совершенно в духе Коровина. Как-то, написав декорацию к «Лакме», Коровин заснул здесь же рядом с этой декорацией и ногой опрокинул на холст белую краску. Пока он спал, декорацию унесли, и он увидел ее только на сцене, всю в белых пятнах. От страха за последствия он даже спрятался куда-то за ряды стульев. Каково же было его удивление, когда зрители пришли в восторг от «экзотического пейзажа с белыми цветами» совершенно в духе свободной коровинской живописи, а Мамонтов чуть ли не обнимать бросился Коровина.
О спасительная широкая живописная манера, о благословенный смелый мазок! Только вы можете способствовать чудесному превращению случайно пролитой белой краски в экзотические цветы, а всей этой трагикомедии в уморительный фарс, ибо Костя Коровин, как только понял обстановку, вылез из своей засады и, горделиво глядя на белые пятна, с апломбом произнес:
– Да, признаться, мне они удались.
Лишь несколько дней спустя Коровин не выдержал и с хохотом рассказал всем о происхождении белых цветов. И опять стал героем дня.
Серов не писал декорации для Частной оперы, как Коровин и Левитан, как Васнецов и Поленов. Его работа в этой области в те годы ограничилась лишь несколькими эскизами костюмов для постановки «Руслана и Людмилы». Значение театра для него было иным.
В 1886 году Мамонтов пригласил для участия в «Аиде» знаменитых певцов братьев Д’Андраде и певицу Ван Занд. Серов написал портрет одного из братьев и впервые совершенно неожиданно предстал перед судом публики: друзья без его ведома выставили эту работу на V Периодической выставке. Портрет был принят благосклонно, но значительного впечатления не произвел.
Другая работа, портрет Ван Занд, оказалась еще менее удачной.
Мария Ван Занд была очень хороша собой, молода, обаятельна, обладала изумительным голосом. Делиб написал для нее «Лакме». Она привыкла к успеху, к поклонению. Ей очень скучно было часами сидеть перед этим никому не известным художником, таким серьезным и сумрачным. Она посидела немного, поскучала и решила прекратить сеансы. Пришлось наскоро кончать работу…
Примерно в то же время Серов познакомился и сдружился еще с одним членом мамонтовского кружка – Ильей Остроуховым.
По обычаю абрамцевской компании Остроухов тоже получил прозвище. Его называли Ильюханция. И это тоже было очень удачное прозвище: длинное и какое-то неуклюжее, как сам Остроухов в те времена. Ильюханция очень хотел быть остроумным, но это ему не удавалось, остроты получались надуманными и тяжеловесными, как и написанная им гекзаметром сатирическая поэма «Юльядо-Ильяда», в которой Остроухов повествует о своей неудачной влюбленности.
Живописью Остроухов стал заниматься поздно. Он был состоятельным человеком и, страстно любя природу, сначала обратился к науке: занимался ботаникой, энтомологией, орнитологией. Искусство он тоже любил и, усердно посещая выставки, увлекся пейзажной живописью, особенно интимными пейзажами Поленова. Они так захватили его, что он охладел к паукам и птицам и решил попробовать писать картины. Но он был, как ему казалось, не очень молод, ему шел двадцать третий год, «а в этом возрасте, – пишет Остроухов, – уже умер наш гениальный певец природы пейзажист Васильев… Тем не менее страсть взяла свое, и я рискнул – в 1880 году после апрельской Передвижной выставки в Москве я впервые сел за мольберт под руководством добрейшего А. А. Киселева, единственного из знакомых мне художников-передвижников…»
В дальнейшем учителем и наставником Остроухова стал Василий Дмитриевич Поленов, с которым он познакомился у Мамонтовых. Абрамцево с его пейзажами было кладом для Остроухова. Целые дни просиживал он под зонтиком на берегу Вори и писал этюды. И часто компанию его разделял Серов. Летом 1886 года Серов написал в Абрамцеве много пейзажей и так сдружился со странным и застенчивым Ильюханцией, что дружба эта на время заслонила все остальное.
Вернувшись зимой в Москву, они решили продолжать работать вместе и сняли на Ленивке общую мастерскую.
К ним присоединился знакомый Серова по Академии Бруни. Но общество Бруни, собственно, находки не представляло: он был приверженцем самых дурных академических традиций.
Головин, часто заглядывавший в их мастерскую, вспоминал потом, какая огромная разница была между рисунками Серова, живыми, меткими, объемными, и вялыми академичными Аполлонами с женскими конечностями, которых рисовал Бруни.
Серов, вспоминает Головин, только изредка глядел на рисунки Бруни, произносил свое обычное «гм-гм» и, ни слова не сказав, возвращался к своей работе.
Как-то Серов рассказал Остроухову о прошедшей зиме, когда он работал с Врубелем, о поездке Врубеля в Венецию, и они твердо решили весной совершить такое путешествие.
Но Остроухов был богат. Серову же нужно было подумать, на какие деньги будет совершена поездка. К счастью, подвернулся заказ. Некто Селезнев, тульский помещик, заказал Серову плафон с изображением Гелиоса. Серов засел за скучную работу.
«Серов при благородном свидетеле Н. А. Бруни дал честное слово, во-первых, что он кончит плафон 27 (двадцать седьмого) апреля 1887 года; во-вторых, в том, что до 1 мая (первого мая) оного же года он в нашей компании, если она состоится, уедет за границу в путешествие.
Почетный гражданин Илья Остроухов
Н. Бруни
В. Серов
Ленивка, мастерская.
1887 г. Март 31».
Плафон был окончен в срок. Но что это была за работа! Традиционная четверка вздыбленных коней, традиционный лук за плечами Феба, темные пушистые облака под копытами и эти же облака, разорванные лучами, исходящими не то из головы, не то из-за головы Феба, золотая колесница, Утренняя и Вечерняя Заря, сдерживающие коней…
Рассказ свой Грабарю об этой работе Серов окончил словами: «Даже вспомнить тошно».
А когда Серов кончал свой рассказ о какой-нибудь старой работе подобными словами, он просил Грабаря не ездить, не искать, не смотреть картину. И при жизни Серова Грабарь подчинялся такой просьбе.
Но много лет спустя он все же начал розыски плафона и нашел его в какой-то школе. Плафон был реставрирован и ныне находится в Тульском музее.
Как не похожа эта работа на все созданное Серовым до и после! Никаких поисков, никакого вдохновения, никакого даже самого крошечного увлечения не чувствуется ни в одной детали композиции.
Однако же основная цель была достигнута. Серов получил за плафон значительную по тому времени сумму – тысячу рублей и в мае 1887 года в компании Остроухова и двух сыновей Анатолия Ивановича Мамонтова, Михаила и Юрия, отправился в Венецию.
Нет, кажется, города, который бы не бранили. Лондон ругали за туманы, Петербург – за то, что в нем мало национального и характерного, Москву – за грязь, Париж – за то, что он не Москва, находились любители ругнуть Рим за то, что там дует сирокко, Неаполь за то, что он слишком красив, но даже у самых отчаянных циников слова застревали в горле, когда дело касалось Венеции.
Ее красота, ее обаяние необыкновенны. Словно сказочное чудо, поднимается она из вод лагуны. Здесь все знакомо по виденному когда-то прежде на картинах и старых гравюрах, слышанному, читанному и все неожиданно ново. Это какой-то восторг, этот город, запечатленный на полотнах Каналетто и Гварди, прославленный как родина Тициана… Был ли хоть один человек, который, приехав сюда, остался бы равнодушным, не остановился бы пораженный, восторженный…
Состояние, охватившее Серова по приезде в Венецию, лучше всего выражено в его письме.
«Венеция, числа не знаю.
Милая моя Леля,
прости, я пишу в несколько опьяненном состоянии. Да, да, да. Мы в Венеции, представь. В Венеции, в которой я никогда не бывал. Хорошо здесь, ох как хорошо. Вчера были на „Отелло“, новая опера Верди: чудесная, прекрасная опера. Артисты – чудо. Таманьо молодец – совершенство…»
Это письмо к невесте, кажется, единственный пример в его переписке не обузданного умом восторга.
Впрочем, Серов был действительно пьян, и притом от самого обыкновенного коньяку, да к тому же по поводу самому прозаическому: друзья ели устриц и потом по совету хозяина гостиницы распили бутылку, чтобы не подхватить холеру, которая свирепствовала в ту весну в Венеции.
Но это касалось внешних проявлений Серова-человека. Что же касается Серова-художника, то он поистине пьян, до глубины души пьян Венецией, городом, где все, что окружало его, было искусством.
«…У меня совершенный дурман в голове, но я уверен, что все, что делалось воображением и рукой художника, – все, все делалось почти в пьяном настроении, оттого они и хороши, эти мастера XVI века, Ренессанса. Легко им жилось, беззаботно. Я хочу таким быть, беззаботным; в нынешнем веке пишут все тяжелое, ничего отрадного. Я хочу отрадного и буду писать только отрадное».
Гёте поучал когда-то: «Если хочешь постичь поэта, отправляйся в страну поэта». Серов полностью осознал глубину этой мудрости и ее справедливость здесь, в Венеции, где витал дух Ренессанса. Здесь ему открылось то, в чем он тщетно старался разобраться в залах Мюнхенской Пинакотеки. И более удачного выбора, чем Венеция, Серов, пожалуй, не мог бы сделать.
Музеи Венеции не так богаты, как флорентинские галереи Уффици и Питти или сокровища Ватикана в Риме, но сама атмосфера Венеции оказалась большим, чем любые, самые богатые коллекции, ибо это была атмосфера, в которой создавались шедевры.
Венеция – кажется, единственная из итальянских городов – сохранила не только старую архитектуру, но и дух старины.
И здесь Серов понял суть искусства художников Возрождения, не ту суть, о которой толковал Чистяков, а нечто гораздо более важное и глубокое.
Тогда исчезло стремление подделываться «под стариков», которое возникло после Мюнхена, это неотвязное стремление вчерашний день перенести в сегодняшний. Но появилось желание быть таким же «свежим», какими были они, эти вечно молодые «старики», какой была сама жизнь.
Атмосфера Венеции слилась с живописью Возрождения, и все стало на свои места.
Здесь, в Венеции, рядом с Веласкесом и даже выше его в душе Серова стал Тициан, и это пристрастие сохранилось у него на всю жизнь.
Работал Серов в Венеции мало. Он увез с собой в Россию лишь несколько обаятельных, написанных в серебристых тонах этюдов: «Собор Святого Марка», «Набережная Скьявони», а главное, рой впечатлений и страстное, нетерпеливое желание работать.
Увез он еще из Венеции сувенир: маленькую черного дерева полированную гондолу, чтобы, глядя на нее, вспоминать Венецию и все, что с ней связано.
А потом опять Абрамцево. Серов приехал туда прямо из Венеции, никуда не заезжая, словно боясь растерять где-то по пути поселившееся в нем неистовство, необыкновенную, огромную, целиком захватившую его жажду работать. Такого порыва он не знал еще никогда в жизни. Он был уверен, что создаст что-то очень значительное, хотя еще не знал что.
Это и есть то состояние, которое называется вдохновением, это приносит счастье; что-то неясное теснится в душе: какие-то звуки, слова, образы, краски растут, накапливаются, переполняют и наконец выплескиваются, переливаются через край, а потом принимают определенность, застывают, подобно металлу, воплощаются в четких, твердых формах.
Серов недаром писал, что все лучшие творения создаются в состоянии опьянения. Это было предчувствием. Потом он даже называл такое состояние сумасшествием: «Надо это временами: нет-нет да малость и спятишь. А то ничего не выйдет».
В это лето он написал портрет двенадцатилетней Веруши Мамонтовой, дочери Саввы Ивановича, известный под названием «Девочка с персиками».
Они были большими друзьями, двенадцатилетняя девочка и хмурый молодой художник. Впрочем, в обществе Веруши и ее сестер Серов совсем не был хмурым, он мог носиться с ними по саду, затевать, как в детстве, всякие проказы и забавы, он был их любимцем. «А они чего только не вытворяли со своим другом Антоном. Только, бывало, усядется он спокойно на большом диване – а при своем маленьком росте он не доставал ногами до полу, – девочки тут как тут, налетают на него бурей, хватают его за висящие ноги, задирают их кверху и опрокидывают Антона на спину… А то пристанут к нему: „Антон, Антон, покажи руки“. Надо сказать, что у Серова была очень оригинальная кисть руки, в особенности забавна она была при взгляде на вертикально поставленную ладонь: небольшая, широкая, с непомерно короткими пальцами. Так пристанут девочки, что Антон в конце концов, чтобы отвязаться от них, молча протягивает им руку ладонью к ним и сам с ними весело смеется»[7]7
Мамонтов В. С. Воспоминания о русских художниках. М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1950.
[Закрыть].
Однажды после обеда, когда хозяева и гости встали уже из-за стола и разошлись по другим комнатам, случилось так, что в столовой остались только Веруша и Серов. Веруша болтала о чем-то, а Серов молчал, долго смотрел на нее, что-то соображая, и наконец сказал, что хочет написать ее портрет, и попросил дать десять сеансов.
Но конечно же, этого оказалось недостаточно.
Больше месяца писал Серов портрет, мучился, что заставляет девочку отрываться от игр, скучать, позируя ему, но иначе он не мог – он не умел быстро работать, даже в состоянии «опьянения». Портрет был окончен только в начале сентября.
За окном осень. Воздух звонок, прозрачен и свеж. Деревья еще густы, но уже готовы расстаться со своей листвой. Они стоят совсем золотые, словно заново окрашенные лучами особенно желанного в эти дни солнца. «Осени первоначальной короткая, но дивная пора». Там, за окном, первый осенний холодок, такой приятный и бодрящий, а в комнате, как будто по инерции, все еще лето: румяные персики на белой дорожке и эта обаятельная девочка с летним загаром, так чудесно сочетающимся с молодым румянцем. Кажется, что она только что вбежала в комнату и, еле переведя дыхание, уселась за стол, чтобы милый-милый Антон с такими смешными руками окончил наконец ее портрет, который всем так нравится.
Она сидит спиной к окну, и лучи солнца, пробиваясь сквозь пожелтевшую листву, золотят стену с фаянсовой тарелкой, деревянного гренадера, играют в Верушкиных волосах, перепутанных, как колосья в копне.
Ее лицо на портрете совсем живое, кажется, что вот-вот ей надоест сидеть смирно и она, как это не раз бывало в жизни, заговорит: «А знаешь, Антон, что я придумала…» – и будет рассказывать о какой-нибудь новой игре, поездке на лошадях или в лодках или еще о чем-нибудь другом очень интересном.
И она, конечно, ни на минуту не подозревает, с каким трепетом много лет спустя будут входить люди в эту самую комнату, сотни тысяч людей, и будут смотреть на эти стены, на эти старые стулья у окна, на столик, на тарелку и гренадера и на ее портрет на стене. И на скатерть, удивительную скатерть Верушиной работы, на этой скатерти расписывались мелом все посетители Абрамцева, а Веруша потом вышивала росписи, так что получилась неповторимая коллекция автографов.
Портрет Веруши привел в восторг всех, кто жил в то время в Абрамцеве. Это было невероятно, почти волшебство. Конечно, никто не сомневался в талантливости Серова, но такого взлета не ожидали.
Ведь совсем недавно он был здесь ребенком, потом учеником Репина, учеником Академии, учеником Чистякова, какие-то три-четыре года назад он с трепетом взирал на Антокольского и Васнецова, все это было почти вчера.
Еще прошлой зимой он писал здесь пейзажи, ничего себе пейзажи, а этим летом – букет сирени в вазе, тоже неплохой, но, в общем, не выдающийся. И вот у всех на глазах совершенно неожиданно превратился в мастера, одним рывком опередил всех своих сверстников и даже учителей.
Когда у него спрашивали, как все это произошло, он только пожимал плечами и говорил, что думал о Репине, о «стариках», о Чистякове, а главное, о свежести, той свежести, которая есть в натуре и которая почему-то пропадает на полотнах у всех, решительно у всех современников, включая Васнецова и Репина.
Что он сделал, чтобы достичь этой свежести? Очевидно, следовал натуре, не мудрствуя лукаво. Его картина так свежа, потому что полна света и воздуха. Воздух – вот чего не хватало полотнам всех тех художников, что окружали его. Попытку наполнить картину этим самым «воздухом» сделал незадолго до того Репин в своей знаменитой картине «Не ждали».
Но Серов, не отягощенный грузом старого опыта, пошел значительно дальше. Его полотно кажется гораздо более свежим.
И способствует этой свежести еще то, что Серов совершенно необычно решает композицию портрета.
Существовали в живописи определенные композиционные схемы, менявшиеся по мере изменения стилей и определявшие законы композиции, задачей которых было создать равновесие всех элементов картины, выявив при этом сюжетный или идейный центр.
Но сколь бы ни была удачна схема, сколь бы ни был искусен в композиции художник, подчиняющийся схеме, – налет преднамеренности ощущается всегда: мир как бы замыкается в рамках картины.
Серов от всяких схем отказался, более того, он идет наперекор, создает нечто противоположное существовавшим композиционным схемам. Впоследствии Серов не раз будет пользоваться таким приемом, который даже получит специальное наименование «обратной композиции».
На картине естественна и поза девочки, и то, как показана обстановка, и незримая связь каждой вещи с человеком, находящимся среди этих вещей. Эта естественность, это отсутствие преднамеренности, которых добивался Серов, – и в направлении света (из-за спины), и в позе, в какой обычно не сажали художники позирующего человека, и в том, что обстановка выхвачена из большой комнаты, даже из двух, а не расставлена преднамеренно, и в случайности обреза, который отсекает в картине части предметов и создает такое впечатление жизненности и свежести. Этот кусок стула в углу картины, обрезанный рамой, дает почувствовать, что мир не замыкается картиной, не исчерпывается ею, что этот стул, часть которого попала на полотно, продолжается за пределами картины и составляет начало не попавшего на полотно большого мира, где есть и стулья, и столы, и другие персики, и другие девочки, а где-то рядом есть еще окно, куда светит то же мягкое солнце сквозь пожелтевшие листья осенних абрамцевских деревьев. Человек совершенно слился, органически слился со всем, что его окружает. Связью этой была явственно ощутимая воздушная среда и колорит картины, общие тона в живописи лица, и стены, и скатерти, и листьев за окном. Чтобы достичь такого эффекта, Серов пишет тени, не приглушая основной цвет предмета, а придавая тени совершенно новый, свой цвет; он считает, что при ином освещении предмет принимает иную окраску, подчиненную, однако, властвующему над всем, что находится в комнате, солнечному свету, проникающему сквозь пожелтевшие листья и отраженному от всех предметов, создающему сложное и единое взаимодействие цветов. Все предметы в комнате окрашены солнцем, его лучом, мягким и теплым.
Картина написана в необычных для русского искусства того времени светлых тонах. Колорит ее – розовое и золотое. Розовая блузка, розовые персики, золотые листья, золотая стена и объединяющие все это лицо и волосы, в которых сливаются оба тона и удивительно тонко переходят один в другой; не чувствуется никакой искусственности и напряженности. В этом было что-то новое и не совсем понятное…
Надо, однако, сказать, что все эти качества, присущие картине Серова, действительно новые и необычные для русского искусства, не были новостью вообще.
Они были присущи тому искусству, которое появилось в шестидесятые годы XIX века во Франции и известно под названием импрессионизма.
Именно в картинах импрессионистов появилась впервые эта непринужденность композиции, естественность, создающая впечатление случайно подмеченного, выхваченного из жизни эпизода, которая отличает и серовский портрет. Импрессионисты так же моделировали объем, не приглушая в тенях основной цвет предмета, а кладя иной цвет, который принимает этот предмет, будучи освещен не прямым светом, а отраженным от чего-либо, имеющего свою окраску.
Импрессионисты вышли из мастерских, они писали свои пейзажи на воздухе, и воздух является обязательной составной частью их картин, он окутывает все предметы, связывает их между собой, делает живыми, изменяя тона отраженных предметов совсем не так, как близлежащих.
Это как раз те приемы, которые использовал в своей картине Серов. Конечно, ими не исчерпывается огромный арсенал средств импрессионизма – метода, созданного целой плеядой блестящих живописцев самой передовой в то время страны. Но честь и слава Серову за то, что в возрасте двадцати двух лет, сейчас же после Академии, он совершенно самостоятельно совершил такие великие открытия.
Потому что Серов ведь ничего толком не знал об импрессионистах, не видел ни одной их картины, кроме «Деревенской любви» Бастьен-Лепажа, художника, которого принято считать не то эпигоном импрессионистов (Грабарь), не то представителем пленэрной школы (Рейнак), то есть школы художников, у которых общим с импрессионистами было лишь то, что они писали пейзажи на воздухе, а не в мастерской.
К Бастьен-Лепажу молодой Серов относился с восторгом. Но школы этого художника было явно недостаточно для того, чтобы постичь сложную и тонкую технику импрессионизма.
Единственное, что могло служить для Серова школой импрессионизма, были его собственные работы – венецианские этюды, написанные несколькими месяцами раньше: «Собор Святого Марка» и «Набережная Скьявони», особенно последний. В нем столько свежести, непосредственности в передаче впечатления, столько света и воздуха, такой изумительно красивый серебристый колорит, так замечательно передано движение толпы, что можно подумать – автор побывал перед этим в Париже и хорошо знаком с работами Моне и Ренуара.
А между тем этюд этот написан в Венеции, в городе Ренессанса, рядом с картинами Тициана и Тинторетто.
Но, видно, уж дух времени был таков…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































