Текст книги "Валентин Серов"
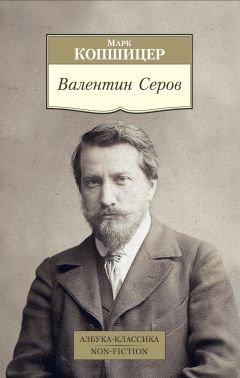
Автор книги: Марк Копшицер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Воспоминания близких людей сохраняют обычно последнюю фразу, сказанную великим человеком. За несколько мгновений до смерти Александр Николаевич беседовал со Славинским, тем самым Славинским, который познакомил его с Валентиной Семеновной. Беседа шла о вышедшей незадолго до того книге о Мендельсоне, и последними словами, которые произнес Александр Николаевич, были: «Вот, например, фраза мендельсоновская!» Вслед за этим раздался крик, и вбежавшая в комнату Валентина Семеновна увидела мужа мертвым.
Так по крупицам старался воссоздать Серов образ этого умершего дорогого ему человека. Духовный облик отца был ему бесконечно близок. Отец был настоящим артистом, таким же, как и он сам, до конца дней своих, каждым своим помыслом преданный искусству.
Увлеченный рассказами матери, Серов с новым рвением принимается за работу, и ему начинает казаться, что портрет идет неплохо, что он сумеет обойтись без натуры…
Между тем приближалось событие первостепенной важности – открытие Периодической выставки.
Свои интересы, говоря дипломатическим языком, Серов поручил защищать Остроухову. Это был удачный выбор. Остроухов был верным другом, и, кроме того, он был тесно связан со многими членами Московского общества любителей художеств и даже принимал непосредственное участие в организации выставки. Он приобретал большое влияние в московских художественных кругах.
В этот период между Серовым и Остроуховым идет оживленная переписка. Серов волнуется, расспрашивает обо всем, вникает в мелочи. Его чрезвычайно интересует, какие картины присланы на выставку, каковы его перспективы на конкурсе. И Остроухов по-дружески и совершенно секретно («так как сообщать сие, собственно, не следовало бы. Ну, куда ни шло») пишет ему о том, что имеется еще один портрет, который может конкурировать с его работами. Остроухов подозревает, что автор этого портрета – дочь покойного Крамского Софья Ивановна. «В портрете очень любовно искано и найдено интересное выражение, написан он и в особенности нарисован в высшей степени тщательно, хотя не свежо и не интересно, весь интерес сосредоточен на лице: фон Крамского, вообще вся манера и задача – его. Твой портрет интереснее и свежее, талантливее в сто раз, – одним словом, я после большого колебания отдал бы все же в конце концов преимущество тебе, но, сделавши это, непременно болел бы, что не поступил иначе, хотя, повторяю, силою свыше мой голос принадлежал бы тебе».
У «Пруда» был тоже конкурент, но это был по-настоящему серьезный конкурент – «Левитан, по секрету». И здесь уж Остроухов заявляет твердо: «Первая премия должна быть отдана Левитану, вторая – тебе».
В том же письме Остроухов сообщает, что сам руководил развешиванием картин и что вещи Серова «поставили, разумеется, самым любовным образом». Но главным сообщением, припасенным Остроуховым на конец письма, было следующее: «В воскресенье будет у меня Павел Михайлович, и я беру (по его просьбе) твой портрет твоей кузины, чтобы ему показать. Ты ведь дал мне carte blanche на это».
Павел Михайлович Третьяков, владелец богатейшей коллекции русской живописи, был очень своеобразным человеком. Худой и высокий, с окладистой бородой и тихим голосом, он больше походил на угодника, чем на замоскворецкого купца. Он и внутренне не походил на своих собратьев. Никаких попоек, ресторанов с цыганами, тройками и швырянием денег, ничего из того богатого набора хамских выходок, на которые были так щедры его современники, герои пьес Островского. Сделавшись обладателем очень большого состояния, Третьяков затеял грандиозное предприятие – создание галереи русской живописи. В 1856 году он приобрел первую картину, «Искушение» Шильдера, и, обладая отменным художественным вкусом, собрал необыкновенную для России тех времен коллекцию. Ко времени описываемых событий Третьяков был уже не просто человеком и не просто меценатом, он стал своеобразным явлением художественной жизни. У него были свои известные всем художникам привычки. Все, например, знали следующее: Третьяков любил покупать картины, как он выражался, «на корню». Слишком много развелось коллекционеров, да и царский двор стал покупать картины для организованного в Петербурге музея Александра III. Поэтому многие отличные вещи ускользнули из рук Павла Михайловича. И вот зимой, перед Периодической выставкой в Москве, перед передвижной и академической в Петербурге, Третьяков объезжал мастерские художников.
Художники старшего поколения, картины которых уже были у Третьякова, – Репин, Поленов, Виктор Васнецов, Владимир Маковский, Суриков – знали, что Третьяков будет их гостем и наверняка купит что-нибудь из приготовленного к выставке; молодые трепетали, ждали и гадали – приедет ли: ведь от этого приезда, от результатов его зависело будущее.
И вот он приезжал. У ворот останавливались крытые сани с толстым кучером на козлах, из саней тихо, неторопливо вылезал Павел Михайлович, осторожно стучал, заходил в широко распахнутые двери, тихо, с улыбкой отвечал на приветствия, дружеские, трепетные или подобострастные, троекратно, по-старинному, лобызался с хозяином из щеки в щеку, и тотчас же, приглашаемый им, следовал в мастерскую, просил показать, что приготовлено к выставке.
И вот художник, еще несколько минут назад бывший творцом, сейчас ходил на цыпочках вокруг этого купца, этого денежного мешка, этого благодетеля. Третьяков долго сидел перед картиной, разглядывал внимательно, вставал, подходил к картине, потом отходил от нее, опять садился, иногда высказывал свое мнение. Если картина ему нравилась, просил уступить ее. Хозяин, конечно, соглашался. Начинался тягостный разговор о цене.
А иногда, если картина не нравилась, Третьяков уезжал, так ничего не сказав.
Вот такой покупкой «на корню» было то, о чем сообщал Серову Остроухов. Третьяков и раньше видел некоторые работы Серова, и, отвечая на письмо Остроухову, Серов пишет об ожидании результатов конкурса и результатов посещения Третьякова: «У меня теперь явилось несколько забытое ощущение, сходное с предэкзаменационным волнением в Академии, когда ждешь медали (чувство довольно гнусное). Что это вздумалось Павлу Михайловичу смотреть мою кузину? – Что же, показывай, рад, что меня при этом не будет. Мне всегда как-то болезненно неловко показывать свои произведения Павлу Михайловичу».
Все, однако, окончилось как нельзя лучше. Третьяков оставил портрет Маши за собой, и он попал в Третьяковскую галерею под названием «Девушка, освещенная солнцем» или «Девушка под деревом». Рассказывали также, что, когда открылась выставка, Третьяков долго стоял перед портретом Веруши (который после выставки получил название «Девочка с персиками» или «Девочка в розовом») и потом сказал, как всегда тихо, спокойно и очень уверенно:
– Большая дорога перед этим художником!
Глаз у Третьякова был зоркий. И то, что он сразу же оценил Серова и купил его работу, говорило о многом.
Впрочем, великий меценат оказался скупенек. За портрет он заплатил всего триста рублей. Это после того, как Серов за плафон «Гелиос», работу неудачную и вымученную, получил тысячу, а триста рублей ему заплатили за малютинских рысаков. Но сейчас он был рад и этому. Нужны были деньги, чтобы продолжать спокойно работать над портретом отца, хотелось поехать с молодой женой в Париж, показать ей Лувр, побывать на Всемирной выставке.
Да Серов и сам не представлял себе в то время цену своей картины, не представлял, что он создал[9]9
Свидетельство этому – письмо Серова невесте: «Могу тебя еще порадовать в смысле своих удач. Представь, Третьяков покупает у меня Машу, что летом писал (300 руб., между прочим). Летние труды, значит, не пропали даром. Но я все-таки, признаться, не ожидал, чтоб Третьякову ее купить, главное, еще раньше выставки».
[Закрыть]. Лишь через много лет, известным художником, стоя перед ней, он скажет с искренним недоумением, с восхищением:
– Неужели это я написал?
И в эти зрелые годы, будучи большим, известным всему миру художником, он готов будет учиться у себя самого, двадцатитрехлетнего. Он создаст много картин более совершенных по психологическому проникновению в образ, более изысканных по стилю, но никогда не напишет таких обаятельных картин, как первые портреты. Они были плодом особого периода его жизни и его искусства, периода радостных ожиданий, молодости, свежести и беззаботности.
Конечно, он, когда написал эти шедевры, не думал о деньгах и не думал о том, что это шедевры. Но Третьяков не мог не знать этого. Он понимал это, быть может, лучше кого бы то ни было в России и все же не устоял перед тем, чтобы недоплатить молодому художнику. (Не этот ли случай вспомнился Серову, когда много лет спустя он спросил с горькой иронией у одного из своих друзей: «Скажите, сколько стоит шедевр?»)
О, конечно, Третьяков был другом искусства и художников, но ведь он все-таки был чуточку купцом: если можно купить вещь за триста рублей, зачем платить дороже?
Трудно обвинять и Третьякова: он знал, что картины, приобретаемые у молодых художников, стоят больше, но ведь не на «купецкие» забавы тратил он те деньги, которые экономил, не на тройки рысаков, не на кутежи, не на цыган. Как-то он признался молодому Нестерову, покупая у него после долгой торговли «Отрока Варфоломея», что он знает: цена была назначена Нестеровым небольшая, «но возможность того, что в Петербурге Репин или кто-нибудь из старых мастеров выставит такое, что необходимо будет иметь в галерее, несмотря ни на какую цену, заставляет его экономить на молодых».
Наконец выставка открылась.
Здесь Серова ждала еще одна радость, не меньшая, чем покупка портрета Третьяковым: за «Девочку с персиками» ему присудили премию Московского общества любителей художеств – двести рублей – ту самую единственную премию за портрет, о которой писал Остроухов.
Надо сказать, что Серова сообщение о том, что есть еще один серьезный претендент на премию, взволновало, и он написал об этом Остроухову в несколько шутливом тоне, сквозь который пробивается, однако, тревога: «Да, итак, ты пишешь, что у меня есть соперница, и нешуточная… что же… чтоб ей пусто было, одно могу сказать. Но меня удивляет, что по пейзажу один Левитан. Странно. Еще удивляет меня коровинский жанр. Неврев не выставил, значит? Вещица Коровина недурная, но жанром назвать немножко трудно. Впрочем, Верушку мою тоже портретом как-то не назовешь. Думаю, что ценители мои это и поставят в упрек в придачу ко всему остальному: недоведенности, претенциозности и т. д. Всего забавнее выйдет, если вдруг меня наградят за пейзаж».
По всему видно, что Серова очень беспокоят результаты конкурса. Ему сейчас далеко не безразлична судьба картин – ведь он ими дебютирует в искусстве…
Зато совсем другой тон следующего письма Остроухову. Оно словно вздох облегчения. «О благодарю, благодарю тебя, Илья Семенович, за телеграмму, за приятное известие, конечно, вдвое. Я доволен, то есть если бы было иначе, я был бы недоволен, и очень. Всякие разные мысли, вроде того, например, что я художник только для известного кружка московского и т. д., одним словом умерщвлены. Итак, мое вступление благополучно, и то хорошо. С другой стороны, 200 р. все-таки деньги – небольшие (мне на пеленки, как дразнил Савва Иванович), но и они мне нужны, как всегда. Да все это хорошо».
«Пруд» был приобретен коллекционером Якунчиковым, и Серов спрашивает Остроухова в другом письме: «Правда, что Якунчикову пришлось будто бы перебить мой „Пруд“ у других покупателей? Если так, то весьма приятно».
Теперь, когда судьба картин была решена, когда его признали, можно было даже с небрежностью говорить о том, что некоторые газеты все же поругивают. Хотя, впрочем, поругивание это было скорее лишней похвалой, так как ругало «Новое время», реакционнейшая из русских газет, издававшаяся монархистом и черносотенцем Сувориным. С ней Серову и его друзьям еще не раз придется скрещивать шпаги.
Зато передовая художественная молодежь приняла появление картин Серова восторженно, поняв, что «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем» проложили резкую черту между старым и новым искусством, искусством будущего.
«Для нас, тогдашних подростков, – вспоминает Грабарь, – дни открытия двух единственных московских выставок того времени, Периодической и Передвижной, были настоящим праздником, счастливейшими днями в году. Бывало, идешь на выставку, и от ожидающего тебя счастья дух захватывает. Одна мысль при этом доминировала над всеми: есть ли новый „Репин“? Как раз за три года перед тем на Передвижной появилась его картина „Не ждали“ – самое сильное впечатление моей юности. Репина на этот раз не было, но выставка оказалась чрезвычайно значительной. Теперь ясно, что ни раньше, ни позже такой не было и что ей суждено было сыграть огромную роль в истории нашей новейшей живописи: здесь впервые ясно определились Левитан, К. Коровин и Серов. В числе вещей Левитана был тот тоскливый „Вечер на Волге“, который висит в Третьяковской галерее и в котором художник нашел себя. Среди целого ряда отличных пейзажей Коровина была и его нашумевшая в свое время картина „За чайным столом“. В ней вылился уже весь будущий Коровин, Коровин „серебряных гамм“ и „белых дней“. Но самым значительным из всего были, вне всякого сомнения, два холста никому тогда не известного Серова, две такие жемчужины, что если бы нужно было назвать только пять наиболее совершенных картин во всей новейшей русской живописи, то обе пришлось бы включить в этот перечень.
Это были два портрета. Один изображал девочку в залитой светом комнате, в розовой блузе, за столом, накрытым белой скатертью. Она сидела спиной к окну, но весь силуэт ее светился, чудесно лучились глаза и бесподобно горели краски на смуглом лице. Спереди на скатерти было брошено несколько персиков, бархатный тон которых удивительно вязался с тонами лица. Все здесь было до такой степени настоящим, что решительно сбивало с толку. Мы никогда не видели в картинах ни такого воздуха, ни света, ни этой трепещущей теплоты, почти осязательности жизни. Самая живопись больше всего напоминала живопись „Не ждали“; в красках окна и стен было что-то очень близкое к краскам задней комнаты и балконной двери у Репина, а фигура взята была почти в тех же тонах, что и репинская девочка, нагнувшаяся над столом: тот же густой цвет лица, то же розовое платьице и та же белая скатерть. Но было совершенно ясно, что здесь, у Серова, сделан еще какой-то шаг вперед, что найдена некоторая ценность, Репину неизвестная, и что новая ценность не лежит в большей правдивости серовского портрета в сравнении с репинской картиной, а в какой-то другой области. Всем своим существом, помню, я почувствовал, что у Серова красивее, чем у Репина, и что дело в красоте, а не в одной правде.
Еще очевиднее это было на другом портрете, изображавшем девушку, сидящую под деревом и залитую солнечными рефлексами. Репинской „правды“ здесь было мало, но красота его была еще значительнее, чем в первом портрете. Возможно, что я пристрастен к этой вещи, которая мне кажется лучшей картиной Третьяковской галереи, если не считать несколько холстов наших старых мастеров, но для меня она стоит в одном ряду с шедеврами французских импрессионистов. Этой звучности цвета, благородства общей гаммы и такой радующей глаз, ласкающей, изящной живописи до Серова у нас не было».
Серов был признан всей передовой художественной общественностью России окончательно и бесповоротно. Передавали, что особенно восхищался Серовым Поленов, этот обаятельный художник и чудеснейший человек, совершенно не способный к зависти, всегда понимавший и принимавший все новое. Он особенно восхищался «Девушкой, освещенной солнцем» и упорно рекомендовал своим ученикам учиться у Серова.
Таковы были результаты выставки.
Между тем жизнь Серова в Петербурге шла по-прежнему. Он продолжал работать над портретом отца, вникая во все перипетии подготовки юбилея.
Дела шли, к сожалению, не блестяще. В музыкальных кругах Петербурга помнили насмешливый, неуживчивый характер Серова и интриговали теперь против него, мертвого. В результате «Юдифь» так и не была поставлена. Сначала юбилей все переносили и переносили – отмечали юбилей композитора Направника, декоратора Бочарова, ставили новую оперу Рубинштейна «Песнь о купце Калашникове», – а потом постановку «Юдифи» отменили совсем.
Таким образом, создание портрета в какой-то степени теряло смысл. «Все у нас с мамой, так сказать, компоновалось вокруг „Юдифи“. Мама писала записки и написала, я пишу портрет и настолько бы написал, чтоб его можно было выставить на спектакле, – все это рухнуло».
Не было также денег на издание критических статей, которые были частью – и притом весьма существенной – наследия Александра Николаевича Серова.
Валентин Александрович с удовольствием читает эти работы, собранные Валентиной Семеновной и подготовленные к печати, и находит их очень интересными. Тем более обидно, что так все не ладится. Слово «обидно» то и дело встречается в его письмах Остроухову, которые буквально переполнены жалобами на неудовлетворительный ход событий. «Про себя могу сказать, что мне не везет. Обидно за отца. Критик его не хотят, очевидно… придется поставить крест, если не навсегда, то на долгое время, пока из современников отца никого не останется. Многие и посейчас помнят злую сторону критик, но при этом выпускают то, что ценно как критика».
Серов перечитывал воспоминания Валентины Семеновны об отце, и обида его становилась еще острее.
Все это как-то ослабляло энтузиазм Серова, и портрет шел не очень хорошо.
«Ты мне советуешь сработать портрет отца на передвижную… – пишет он Остроухову, – ну, об этом надо еще подумать; хотя я решительно не знал и не знаю, куда его дену, когда напишу.
До сих пор я шел от той мысли – мне подоспеть с ним к юбилею и выставить в зале Мариинского театра во время самого спектакля. О дальнейшей его судьбе не размышлял, да и теперь говорить об этом немножко странно. Как еще кончу его?»
В начале января 1889 года в Петербург приехала Ольга Федоровна Трубникова, теперь уже официальная невеста Серова. Решено было все же поселиться в Петербурге, а не в Киеве. Серов был счастлив. Наконец начали сбываться его мечты о своем угле, «гнезде», о семейной жизни. Ему, проведшему детство в чужих семьях, добрых, хороших, искренне любивших его семьях, но все же чужих, хотелось наконец чего-то своего.
Правда, углом, который ему предстояло обрести, была просто квартира, которую он снял в чужом доме на Михайловской площади. Но это была его (а скоро будет их) квартира. Он мог теперь перестать скитаться.
Как он устал от этих скитаний!
В самом деле, где он только не жил последние годы, после того как оставил Абрамцево!
Осенью 1885 года жил в Одессе и в имении Кузнецова, где писал «Волов», на зиму вернулся опять в Одессу. Весной 1886 года уехал в Едимоново, а потом в только что купленное Дервизом Домотканово, где пробыл всю весну, лето и осень. Зимой 1886/87 года жил в Москве и Абрамцеве, писал пейзажи и плафон. Весной уехал в Венецию, а оттуда вернулся опять в Абрамцево, писал портрет Веруши Мамонтовой, осенью жил в Ярославле у Чоколовых, потом опять в Абрамцеве, летом 1888 года опять в Домотканове, потом Одесса, Киев и, наконец, Петербург…
Сколько чужих углов сменил он!
Там текла своя жизнь. Хозяевам было весело, а он был их гостем, вечным гостем в чужих домах. Он тоже веселился, смеялся, забывался, но какой-то червяк сосал все время. В одном из писем к Ольге Федоровне он признавался: «Я опять прочел твое письмо, ты говоришь о счастье: поди разбери, где счастье, где несчастье. Все мне говорят, что я счастливец, очень может быть, охотно верю, но сам себя счастливым не называю и никогда не назову, точно так же как и несчастным, хотя и об одном ухе и с вечной тяжестью на сердце. Не знаю, бываешь ли ты счастлива, то есть чувствуешь ли себя легкой в душе постоянно, – нет, наверно, хотя, собственно, это и есть счастье, как я его понимаю».
Свадьба состоялась в конце января и была, по словам Серова, «торжественна невероятно».
Одним из гостей был Репин, он же был одним из свидетелей при венчании.
Единственным, что испортило настроение Серову, был сам обряд венчания. «Имел я удовольствие познакомиться с российским священством, то есть попами, ох, натерпелся я от них, горемычный. Чуть ли не с десятью отцами перезнакомился в один прием. Они таки порядочные нахалы, немножко я от них этого и ждал, но не в такой степени. Слава Создателю, больше с ними дела иметь не предстоит.
Так сказать, образ жизни моей с женитьбой мало изменился. Пишу портрет. Когда-то его кончу».
Серов представил молодую жену Чистякову. Старик растрогался. Столько душевной теплоты, столько мягкого света лилось из этих милых серых глаз, что Павел Петрович всплеснул руками.
– С такого лица ангелов писать! – воскликнул он.
Но Серов не собирался писать с жены ангелов. Он одел ее в костюм отца, поставил около конторки и писал с нее фигуру, так как со своей фотографии писать не мог (он никогда в жизни не научится писать портреты с фотографий).
Но и эта новая попытка подогнать работу окончилась неудачей: невозможно с вдохновением писать портрет старика-отца, когда перед тобой стоит одетая в мужской костюм молодая жена. А главное – не было лица, основы портрета, того, что должно быть исходным, того, что должно определять все остальное, связывать околичности. На месте лица оставалось пустое место. Акварель, которую он написал с келлеровского портрета, тоже не помогла. Голова была написана, но выглядела безжизненно. Работа над портретом измучила его.
Но не работать Серов уже не мог.
В письме жене, уехавшей на лето в Домотканово, он жаловался: «Ох, Лелюшка, тяжело мне с моими работами, вот что я тебе доложу. Ей-богу, не могу сказать, что они у меня выходят или не выходят. А когда подумаешь, что всю зиму провозился, так и совсем скверно становится. Вообще должен заметить, что искусства вещи весьма трудные-с. Сколько себе крови поиспортишь. Да, а хорошо теперь в деревне. Хотя, если начнешь работать – опять каторга, и опять-таки – не работать еще хуже – вот тут и того…»
В конце концов Серов оставил недописанный портрет и уехал в Домотканово, чтобы оттуда вместе с женой, пусть несколько поздно, совершить свадебное путешествие.
Из Домотканова Серов приехал в Москву, чтобы занять денег на поездку в Париж. Поездка эта должна была состояться еще весной – Серов хотел попасть к открытию выставки, – но не состоялась из-за отсутствия денег. Те, что были получены от Третьякова и Якунчикова, премия, – все разошлось очень быстро.
Новые петербургские друзья помогли ему получить несколько заказов. Гравер Василий Васильевич Матэ, добрейшей души человек, на всю жизнь оставшийся одним из самых близких друзей Серова, устроил ему заказ на портрет проповедника методистской церкви пастора Дальтона. Другой приятель, заведующий конторой журнала «Нива» Юлий Осипович Грюнберг, заказал портрет своей жены.
Чтобы Серову было удобнее работать над этим портретом и одновременно над портретом отца, Грюнберги предложили ему переселиться к ним, и Серов принял предложение, тем более что жена была уже в то время в Домотканове, а с Петербургом как с постоянным местом жительства решено было покончить из-за здоровья Ольги Федоровны и потому, что в Москве жили все друзья; там было как-то не так одиноко.
В углу гостиной Грюнбергов Серов разместил все вещи, составляющие декорацию кабинета отца, а сам Юлий Осипович взял на себя роль натурщика. Он надевал тот самый костюм, в который недавно облачалась Ольга Федоровна, и часами стоял у конторки, заложив ногу за ногу.
Серов на всю жизнь сохранил теплое чувство признательности к Грюнбергам и всегда потом, приезжая в Петербург, с удовольствием бывал в этой семье.
Грюнберг заказал Серову рисунки для «Нивы», и Серов, воспользовавшись старыми эскизами, сделал композицию из жизни запорожцев, которая была помещена в журнале. Но все же денег едва хватало на жизнь. Отчаявшись скопить сколько-нибудь на поездку, Серов, приехав в Москву, занял необходимую сумму.
В этот приезд в имении Введенском близ Звенигорода он почти мимоходом написал отличный портрет Прасковьи Анатольевны Мамонтовой, девушки с удивительно глубоким взглядом. Глаза ее казались Серову русалочьими. Только в недавние годы этот портрет был оценен по достоинству и получил известность.
В Париж Серовы отправились в конце августа и пробыли там около месяца. Наиболее сильное впечатление на Всемирной выставке произвела на Серова картина Бастьен-Лепажа «Жанна д’Арк». Да он и стремился в Париж главным образом для того, чтобы поближе познакомиться с творчеством этого художника.
Он рад был показать жене Париж, хотя сам плохо помнил его. Он был там совсем еще ребенком и с удовольствием, фактически заново, смотрел Лувр, Люксембург, Клюни, собор Парижской Богоматери.
Из Парижа Серовы вернулись в Москву. Серов познакомил жену со своими старыми друзьями. Елизавета Григорьевна покорила молодую женщину искренностью и радушием, но надолго в Москве Серовы не задержались.
Серов отвез жену в Домотканово. Она ждала ребенка и нуждалась в помощи близких людей, более сведущих во всех этих делах, чем Серов и его мать. Впрочем, Валентина Семеновна тоже уехала в Домотканово, потому что еще одно ее предприятие – организация юбилея Александра Николаевича – окончилось неудачей.
А Серов отправился в Петербург. Он решил все же еще поработать над портретом отца. Ему не давала покоя мысль об этом портрете. Он вспоминал безжизненную, невыразительную голову и не мог примириться с тем, что в таком виде портрет попадет на выставку. Но дальнейшая работа ничего не приносила.
Лишь поздней осенью, через год после того, как работа эта была начата, Серов по совету Репина написал в его мастерской портрет актера Васильева. Васильев был очень похож на Александра Николаевича, которого Репин хорошо помнил и от яркой, романтичной внешности которого был в восторге. Этюд был написан в один сеанс, свежо и непосредственно. Это несколько оживило работу. Серов заново переписал голову и решил, что портрет окончен, большего он все равно не добьется. Было ясно: портрет, над которым он столько работал, не удался.
Человек, которого он знал только по рассказам, терялся за мелочами обстановки. Вещи, окружавшие при жизни композитора, были дороги ему, сыну. Они были любовно собраны им и его матерью; без них он не представлял себе отца: без этой конторки с наколотыми сбоку афишами, книжного шкафа, резной полки со статуэтками – они казались ему как бы представителями покойного на земле. Но для постороннего зрителя они были не дорогими сердцу реликвиями, а просто вещами, и мир вещей заслонял мир человека.
Впоследствии Серов научится писать так называемые «обстановочные» портреты, в которых каждая вещь будет иметь смысл и будет помогать раскрывать мир человека, его характер. Научится он также создавать портреты-памятники, портреты-монументы. И воскрешать образы давно умерших людей он тоже научится.
Но сейчас он не сумел справиться с задачей, которую поставил перед собой.
В портрете не было того, что отличало первые его работы, которыми он так успешно начал путь художника, не было свежести, радостной целеустремленности живописного образа, любви к натуре ради самой натуры, не было гармонии красок, не было непосредственности. Видна была мучительная долгая работа.
Серов оставил портрет Репину, а сам в декабре 1889 года уехал в Москву. Опять предстояло жить у Мамонтовых. Самостоятельную семейную жизнь пришлось на время прервать, для нее нужна была более надежная денежная основа, которой у молодого художника все еще не было. В Москве же, где его знали, где жили его друзья, больше было перспектив получить известность и твердо стать на ноги.
Из Москвы Серов написал письмо Репину с просьбой послать портрет на передвижную выставку, открывавшуюся в январе в Петербурге. Но случилось так, что Репин вышел из состава действительных членов Товарищества передвижных выставок и решил в будущем выставляться только как экспонент. Сейчас же он в сердцах заявил Серову, что сам на этой выставке участвовать не будет «ни в каком виде, разве зрителем». Портрет он обещал все же на выставку передать, но предсказал Серову неудачу[10]10
Репин пытался помочь Серову и при помощи своих связей «продвинуть» портрет. В октябре 1889 года он писал В. С. Кривенко, чиновнику министерства двора:
«Не можете ли Вы помочь Вашим содействием молодому художнику Серову? Очень Вас прошу замолвить словечко гр. Воронцову.
Серов написал очень интересный и художественный портрет своего отца композитора А. Н. Серова. Он желал бы его выставить в фойе Мариинского театра во время представления „Юдифи“. Молодой даровитый художник находится в очень стесненных обстоятельствах: хорошо, если бы у него приобрело Правоведение этот портрет. Надо его показать публике – портрет очень стоит того. Я помню, как Вы всегда благородно и симпатично относились к начинающим талантам.
Серова я бы Вам очень рекомендовал. Малый он хороший и художник с крупным будущим. Не ошибутся те, кто воспользуется им в настоящее время.
Пожалуйста, не заподозрите меня в пристрастии к Серову, как к моему бывшему ученику. Сами увидите, несмотря на некоторую грубоватость, там столько жизни и художественности».
Вряд ли Серов знал об этом письме – слишком унизительно звучит оно для него. Хлопоты Репина перед министерством двора результатов, как видно, не дали. Что же касается высокого мнения о портрете, высказанного им в октябре и отрицательного в декабре, то это закономерно для характера Репина, мнения которого менялись и не с такой быстротой. С этим его свойством придется сталкиваться Серову еще не раз.
Впрочем, может быть, здесь Репин просто покривил душой, расхваливая портрет с целью помочь Серову.
[Закрыть]. И действительно, выставленный на передвижной портрет успеха не имел.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































