Текст книги "Валентин Серов"
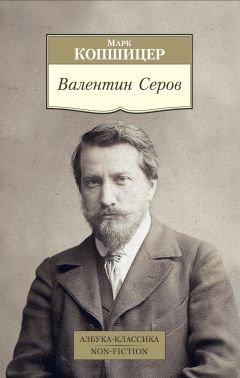
Автор книги: Марк Копшицер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Все русские художники, побывавшие в Крыму, видели то, что отличает Крым от России: безоблачное синее небо, живописные горы, блещущее на солнце море, кипарисы в лунном свете, и именно это писали. Даже Левитан не удержался от такого соблазна… Серов же увидел в Крыму то, что было дорого его сердцу в России: скромный дворик в татарском селении, простую каждодневную жизнь людей. И как замечательно вместе с тем передано своеобразие крымской природы: горячий неподвижный воздух полдня, раскаленные стены домов с их характерной архитектурой и этот понуро стоящий осел.
Серов в Крыму остался тем же Серовым, каким он был в Подмосковье.
Надо сказать, что он все же пытался преодолеть некоторую ограниченность своего художественного диапазона и, несмотря на неудачи с «Гелиосом», а потом с «Христом», опять взялся за романтическую тему: «Ифигения в Тавриде». Тем же летом, уехав в Ялту, он написал несколько этюдов женщины в хитоне, стоящей или сидящей на берегу моря, но все они неудачны. Серов не проникся духом древней легенды здесь, на побережье, превращенном в сплошной фешенебельный курорт. Простой татарский дворик в глубине Крыма куда больше говорил его сердцу.
В следующем, 1894 году другого рода романтика пытается овладеть им, романтика Севера.
Савва Иванович Мамонтов предпринял строительство железной дороги в Архангельск и Мурман и послал Серова и Коровина писать этюды северной природы и быта. Мамонтов мечтал украсить вокзалы железных дорог картинами лучших художников.
Почти все лето и начало осени провели Серов и Коровин на Севере, проехали от Архангельска до Мурмана и дальше в Норвегию, в порт Гаммерфест, расположенный на острове среди шхер, печальный и задумчивый, как все северные города.
В тот год рано похолодало, и они мерзли, не всегда даже удавалось найти провизию. Но зато как восхитительно красив был четкий рисунок гранитных скал с красноватыми яркими прожилками, точно проложенными суриком, и такой же четкий, взятый из природы рисунок на унтах и малицах местных жителей. Каким восторгом наполнял вид деревянных, потемневших от времени церквушек, разбросанных там и сям у тихих северных рек и озер с никогда не слыханными названиями. Как неожиданно прекрасны оказались иконы старинного письма в этих никому не ведомых сельских храмах.
В Москву вернулись в начале октября, усталые, изголодавшиеся, но довольные. Этюдов было привезено множество, но дальше этого дело не пошло, во всяком случае для Серова.
И тем не менее поездка на Север имела для него немалое значение. Работая рядом с Коровиным, Серов сумел глубже постичь приемы импрессионистской живописи.
Этому способствовала сама северная природа с ее серебристыми тонами, свойственными коровинской палитре. Вынужденный в силу обстоятельств сам пользоваться теми же красками, что и Коровин, Серов наблюдал творческий процесс Коровина в условиях, наиболее для него характерных.
Конечно, такая живопись не была для Серова откровением. Еще в 1887 году в его венецианских этюдах был импрессионизм и был как раз серебристый колорит. Но там это представляется случайным. Сейчас же Серов упрочил и, если можно так сказать, узаконил для себя свою старую находку.
Он говорил, что сделал это под обаянием работ Коровина, хотя, может быть, здесь правильнее было бы говорить об их единодушии.
Как всякий большой художник, Серов не сторонился чужого искусства и не боялся ничьих влияний. Они не были ему опасны, напротив, они обогащали его. Осваивая эти влияния, он брал то, что соответствовало его художественному вкусу, что, слившись со всем тем, что уже было у него, делало более совершенным его мастерство, более полным восприятие окружающего мира.
Постигнув определенный прием, определенный метод, открытый им самим или воспринятый у кого-то – все равно, – Серов всегда держал его в своем резерве и по мере надобности пользовался им.
И он не боялся говорить об этом влиянии с прямотой великого мастера, как не боялся Пушкин говорить о влиянии Шекспира на его «Бориса Годунова», как не боялся Роллан говорить о влиянии Толстого на его творчество.
Но Серов, наверно, все же преувеличивал влияние на него Коровина, и он ничего не сказал о влиянии своих работ на северные этюды Коровина. А между тем такое влияние было. И это, конечно, естественно: совместная работа способствовала взаимному проникновению методов и манер. Но есть все же существенное различие между северными работами Серова и Коровина. Коровинские пейзажи какие-то прозрачные, сверкающие, радующие глаз восторженной приподнятостью, счастливым любованием красками северного лета; недаром итогом поездки была у Коровина картина, изображающая полярное сияние – самое величественное, торжественное явление северной природы. Серов же и здесь остался Серовым. Больше того, именно здесь особенно явственно проявились черты, свойственные настоящему серовскому пейзажу: интимность, будничность и предельная, до строгости, простота.
И вместе с тем налет романтизма есть все же в этих нехитрых, освещенных бледным солнцем пейзажах, какая-то задумчивая настороженность в избах поморских селений, в темных рыбачьих баркасах и шхунах, что со спущенными парусами теснятся у холодной набережной, в переплетениях корабельных снастей, в низко склоненных под тяжестью огромных ветвистых рогов красивых головах оленей.
Очень жаль, что все эти этюды оказались разбросанными по различным музеям. Собранные воедино, они составили бы замечательно красивый цикл.
Именно в эти годы в искусстве Серова резко обозначилась та струя, из-за которой впоследствии его стали называть «злым Серовым». Дело в том, что в жизни и искусстве Серова совпали два момента: увлечение психологическим анализом моделей и начало моды на Серова-портретиста, начало его регулярной работы над заказными портретами, над портретами людей, которых он порой ненавидел.
Нельзя, конечно, утверждать, что перелом этот произошел резко и неожиданно. Серов всегда был склонен к психологическому анализу человека, портрет которого писал. Стоит вспомнить хотя бы тот случай, когда, будучи еще учеником Академии, он принялся рисовать карандашный портрет матери и довел ее до рыданий своим острым, испытующим взглядом. Страсть к познанию натуры до самых глубин была заложена в нем от рождения. Это было свойством его ума, его темперамента, это было его вторым я, а вернее – первым. Даже в то время, которое принято считать расцветом его живописных увлечений, летом 1888 года, он писал в Домотканове портрет Нади Дервиз, который был, пожалуй, первой его работой, где ясно обозначились поиски выражения в портрете характера человека. Почти все его портреты, написанные в последующие годы, продолжают и углубляют эти поиски.
Не вдруг пришла к Серову и «злость». Сильные мира сего в роли заказчиков успели стать ему ненавистными еще в ту пору, когда он был юношей.
В. С. Мамонтов вспоминает рассказ Серова о том, как ему пришлось писать портрет известного фабриканта Абрикосова. Сеансы начинались в десять часов утра, а в двенадцать приходили звать Абрикосова завтракать. Тот уходил, ни слова не сказав, и оставлял молодого художника ждать его. Через полчаса он возвращался и опять усаживался позировать; при этом он ковырял в зубах зубочисткой, а глаза его после обильной еды почти слипались. «Рассказывая это, – пишет Мамонтов, – Серов сам усаживался в кресло, принимал важную позу надутого Абрикосова и изображал, как тот, пресыщенный завтраком, сонными глазами глядел на художника. Затем он не выдерживал, вскакивал и, болезненно переживая старую обиду, жаловался на хамское отношение московского купца к художнику».
Почти все заказные работы Серова вплоть до описываемого времени не представляют интереса, если, конечно, это не были портреты людей духовно близких или хотя бы симпатичных. Что же касается заказчиков из числа людей просто настолько состоятельных, что они могли заказать художнику свой портрет, то Серов еще не созрел в то время достаточно для того, чтобы портреты таких людей превращать в произведения искусства. Это далось ему позже, во второй половине 1890-х годов.
Теперь он был знаменит. Никто не решился бы обращаться с ним, как некогда Абрикосов, – напротив, его ласкали, за ним ухаживали: потом, лет через десять, московские богачи будут даже называть себя его друзьями, гордиться тем, что он бывает в их доме, что он принимает приглашения приезжать запросто. Но обмануть Серова нельзя было. Он знал цену этим людям и никогда на их дружбу и ласку не отвечал лестью. Он писал так, как ему представлялось необходимым, чтобы на полотне был не только внешний облик, но и внутренний мир человека. Недовольство заказчика не имело значения.
Вступив в этот период своего творчества, он мог бы, пожалуй, сказать о себе, как сказал некогда Пушкин:
О, сколько лиц бесстыдно-бледных,
О, сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать!
Первым заказным портретом, в котором Серову наконец удалось передать свое неприязненное отношение к изображаемому лицу, был портрет старухи Морозовой, матери крупнейших в России богачей: заводчиков, купцов, фабрикантов. Серову не раз придется еще иметь дело с этой семьей, писать портреты «самих» Морозовых: Ивана Абрамовича и Михаила Абрамовича, их жен и детей. И было какое-то удачное совпадение в том, что первой предстала перед ним эта старуха, на которой лежала как бы печать истории всего рода[15]15
Морозова, о которой идет речь, не была матерью Михаила Абрамовича и Ивана Абрамовича Морозовых. Ее сын – знаменитый Савва Тимофеевич Морозов. Но это была одна «династия».
[Закрыть].
Много, много повидала на своем веку эта старуха. Сейчас она спокойно и умиротворенно сидит в кресле, позируя лучшему в России портретисту. Она хочет казаться спокойной. Но ведь его не проведешь – он видит все: один глаз старухи открыт широко, другой прищурен, посмотришь на левую половину – одно лицо, на правую – другое. А когда смотришь на портрет и видишь все – и лицо, и глаза, и руки, в которых она держит очки (что она читала сейчас: новый роман или хозяйственный счет?), – кажется, что Серову хочется сказать старухе словами чеховского героя:
– А вы хи-и-трая!..
Работая над этим портретом, Серов настолько увлекся передачей характера, что даже намеренно отказался от того, чего когда-то достиг с таким трудом и чем пользовался с таким блеском, – живописности. Правда, отказ от живописности во имя характерности образа не был новостью для Серова, но в портрете Морозовой это свойство достигло, пожалуй, вершины.
Есть несколько объяснений этому явлению. Главное состоит в том, что Серову было свойственно на время отказываться от прежних достижений во имя новых. Прежних он никогда не забывал, но постигал новые в чистом, так сказать, виде, а затем, постигнув окончательно, в нужных, естественно выливавшихся пропорциях применял в том или ином случае. И Морозова явилась наиболее подходящим объектом для такого эксперимента. Со временем, и притом довольно скоро, Серов сумеет слить воедино оба достижения: характерность и красочность, но пока он даже несколько стыдится красок как некоей душевной откровенности. Цвет – это что-то его, почти интимное, психология же – это, как говорил Флобер, «неличное», то, что можно выставить на суд общества. Художник присутствует в этом и в других таких же портретах только как свидетель, если угодно, как судья, но не как участник, каким был он в первых радостных своих творениях. Кстати сказать, в портретах близких ему людей он не бежит многоцветности, даже если портреты психологичны.
Конечно, умом он понимает, что цвет может служить разным целям и не обязательно должен быть интимным, и он борется с самим собой, создает живописные и психологические портреты, но уже не свободно и радостно, а в постоянной борьбе двух начал.
Первыми такими работами были: портрет великого князя Павла Александровича, написанный в том же 1897 году, когда и портрет Морозовой, и портрет С. М. Боткиной, написанный двумя годами позже. Эти портреты – настоящий праздник красок, но это совсем не те краски, что раньше, в них нет и следа теплоты былых его портретов, это, если угодно, тоже «злые» краски. Яркий блеск парадного мундира великого князя, сверкающее золото его каски с литым орлом на ней и тусклые водянистые глаза человека, холодная гладь его прилизанных волос. А рядом – теплые тона с любовью положенных красок – это конь князя: умное, красивое, поистине благородное животное. Какой необыкновенный контраст! И еще один персонаж портрета: солдат – денщик или конюх, – он держит коня и поэтому кажется более живым человеком, чем великий князь, которому нельзя самому заниматься конем: он позирует, и конь для него – это только фон, один из атрибутов его блеска, так же как эполеты, аксельбанты, сабля, усы… Вот мир этого человека, вот все его призрачное величие, потому что внутреннего, подлинного величия нет у него.
А вот другая представительница того же мира – Боткина. И опять краски помогают характеристике, так же как и обстановка, поза и положение на диване «дамы в желтом» (так называли иногда этот портрет подобно «Девочке в розовом»). Дивану ее не менее сотни лет: синяя обивка, золоченые завитушки дерева – излюбленное цветосочетание дворцовой обстановки екатерининского времени. Но почему сидит здесь эта барынька, наследница разбогатевших купцов? Ведь это крайне нелепо. Она, конечно, приобщилась к цивилизации, но все это приобщение только в том, что дом полон всякой старинной мебели, а у самой барыньки полон гардероб «роскошных» платьев, вроде этого, желтого. Она даже и сидеть-то как следует не умеет. Ей неудобно на этом диване, в этом платье, вся она как-то напряжена…
Серов нарочно усадил ее на диване не посередине, а сбоку. На вопрос Грабаря, для чего нужна была такая нарушающая равновесие композиция, он ответил:
– Так и хотел посадить, чтобы подчеркнуть одинокость этой модной картинки, ее расфуфыренность и нелепость мебели. Не мог же я писать этот портрет с любовью и нежностью.
И действительно, странное впечатление производит пустое место. Кого-то ждет она, эта женщина в желтом платье, кто-то должен сесть рядом с ней на свободную половину раззолоченного дивана. Но никто не приходит, никто не садится. И она остается одна. Только маленькая, равнодушная ко всему собачка с глянцевой шерсткой, которую она удерживает своей обнаженной рукой. Потому что никому эта рука не нужна. И ни для чего эта рука не нужна.
Как-то так получилось, что в эти годы Серов почти не писал портретов выдающихся людей, людей, близких ему духовно. Несколько лет тому назад ему позировали Коровин и Левитан, Таманьо и Мазини, Репин и Лесков. С 1894 года ему лишь раз пришлось заняться подобной работой: в 1898 году им был написан парадный портрет Римского-Корсакова. В это время Римский-Корсаков сблизился с Мамонтовским театром, где было поставлено несколько его опер, отвергнутых императорской сценой. Таким образом, Савва Иванович еще раз сослужил службу русскому искусству, на этот раз музыкальному, потому что после постановки в Частной опере Римский-Корсаков был признан всеми.
У Мамонтова познакомился с ним Серов и тогда же написал портрет композитора. Но портрет этот, к сожалению, не очень удачен. Кроме чисто технических недостатков, он неудачен и в смысле психологической характеристики. Ничто не говорит о том, что изображенный на нем человек причастен к искусству: ни его лицо (как в портрете Левитана), ни обстановка вокруг (как в портрете Коровина). Скорее, это ученый или адвокат, но не композитор. Трудно сказать, почему Серова не увлек образ Римского-Корсакова, но это так.
Было им написано в те годы еще много портретов: таких удачных, как портрет Мары Олив, и таких довольно удачных, как портрет Мусиной-Пушкиной, и совсем неудачных, как портрет Капнист; но, так или иначе, он шел все время вперед, и имя его становилось все более известным сначала в России, а потом и за границей.
На выставке Московского общества любителей художеств в 1890 году он выставил портрет Мазини и, так же как за два года до этого, получил первую премию.
В 1892 году на Передвижной выставке всех привлекает портрет Мориц. Да и портрет Римского-Корсакова, не очень удачный по сравнению с другими работами Серова, выставленными в 1899 году на Передвижной, оказался там лучшей вещью этого жанра.
Портреты Мары Олив, Морозовой и великого князя Павла Александровича появляются на выставках Мюнхенского Сецессиона и делают Серова (по свидетельству Грабаря) наиболее известным после Репина в Германии русским художником.
Наконец, в 1900 году на Всемирной выставке в Париже портрет Павла Александровича завоевывает Гранпри. Там же был выставлен пользовавшийся успехом портрет Боткиной.
Так проходила в эти годы видимая миру жизнь художника Валентина Серова. Но это была только часть его жизни. Другая линия жизни и работы была не менее интересной, и труд его шел не менее напряженно, иногда независимо, иногда параллельно «официальной», то есть портретной, линии, иногда соприкасаясь с ней.
В те годы, о которых шла речь в начале главы, Серов впервые пробует свои силы в иллюстрации.
В 1890 году издательство Кушнерева начало подготавливать издание сочинений Лермонтова с иллюстрациями лучших русских художников. Переговоры с художниками вел П. П. Кончаловский. Его стараниями иллюстрации к различным произведениям Лермонтова сделали Врубель, Поленов, Суриков, Репин, Шишкин, Серов, Коровин, Пастернак, Савицкий, Айвазовский, Дубовской, Трутовский.
Можно сказать, что Лермонтову повезло. Ни один русский писатель не удостоился быть иллюстрированным столькими первоклассными мастерами.
Серов сделал несколько иллюстраций к «Демону», «Бэле», «Княжне Мери», но остался ими недоволен и только после настойчивых уговоров согласился на их воспроизведение. Не то чтобы они были очень уж плохи, но они не удовлетворяли требованиям Серова. То, что иллюстрации Савицкого, Маковского, даже Поленова, не говоря уже о Трутовском и Дубовском, оказались менее удачны, было малым утешением. Перед Серовым стоял пример Врубеля, создавшего в то время сюиту изумительнейших иллюстраций к «Демону». Рядом с ними рисунки Серова меркли. Впрочем, рядом с ними меркли и все остальные работы.
Повествуя об этом случае в жизни Серова, Грабарь пишет, что Серов «убедился, что ему не хватает того специфического таланта, который необходим иллюстратору, но отсутствие которого нисколько не вредит портретисту. Сравнение отдельных рисунков ясно обнаруживает, что у Серова не было никакого определенного взгляда на иллюстрацию и он не знал, каких приемов и принципов держаться. Временами чувствуется явное влияние Врубеля, а иногда неожиданно воскресает старая московская „рваная“ манера, идущая от Репина».
Грабарь вообще не признавал за Серовым таланта иллюстратора и даже одну из глав монографии под названием «Серов-иллюстратор» начинает такими словами: «Название этой главы не совсем точно, и было бы правильно изменить его на следующее: „Серов – не иллюстратор“, или, еще точнее, на такое длинное и старомодное: „О том, как портретист Серов терпеть не мог иллюстрировать и что из этого вышло“».
В подтверждение своих слов он приводит сказанные ему самим Серовым слова: «Иллюстрация только путает, навязывает читателю образ, совершенно не отвечающий тому, который родился бы у него самого, если бы художник предупредительно не подсовывал ему своего». И далее Грабарь добавляет: «Когда-то он иллюстрировал Лермонтова и Пушкина, но позднее считал это грехами юности».
Трудно согласиться с Грабарем, потому что если иллюстрации к Лермонтову действительно неудачны, то пушкинская серия великолепна, да и создана она в 1899 году, за двенадцать лет до смерти, совершенно зрелым мастером и уж никак не может быть отнесена к «грехам юности». Слова же Серова, которыми пользуется Грабарь для доказательства своего мнения, были, конечно, плодом застенчивости художника, его огромной скромности в оценке своих работ и необычайно высокой требовательности. Серов иногда готов был хаять любую свою работу[16]16
Этим же, возможно, объясняется приведенное Грабарем невысокое мнение Серова о портрете Левитана. Имеются свидетельства и других высказываний Серова об этом портрете. Точно так же Грабарь пишет, что Серов был недоволен портретом Мазини. Однако в письме к жене мы находим совсем обратное.
[Закрыть]. Если бы Серов в самом деле считал себя бездарным иллюстратором, он вряд ли брался бы за подобные работы, а он занимался иллюстрациями всю жизнь, и занимался очень охотно, порой более охотно, чем портретами.
Неудачу же с иллюстрациями к Лермонтову объяснить очень просто. Во-первых, это была первая проба и Серов действительно (здесь Грабарь прав) не имел еще определенного взгляда на иллюстрацию. Во-вторых, те произведения Лермонтова, которые он иллюстрировал, не соответствовали его художественному пристрастию, как, пожалуй, и почти все написанное Лермонтовым. Возможно, Серов смог бы создать иллюстрации к «Родине» («Люблю отчизну я…»), но «Демон», «Бэла», «Княжна Мери» были явно не его темой. Да он и не знал Кавказа, не чувствовал его специфики, ему невозможно было создать ничего ценного, особенно если вспомнить, что Серов совершенно не мог писать, не имея перед глазами натуры.
Зато Врубель попал в свою стихию. Ему, всю жизнь бредившему Демоном, тысячу раз перечувствовавшему лермонтовскую поэму, работа была по душе. Всего за несколько месяцев до этого он окончил своего «Сидящего Демона» и теперь без особого труда создал серию замечательных иллюстраций.
Через несколько лет Серов опять пробует заняться иллюстрациями. В 1895 году Анатолий Иванович Мамонтов задумал издать книгу басен Крылова и обратился к Серову с просьбой сделать несколько иллюстраций. Задуманная книга так и не увидела света, но Серов, этот портретист, который «терпеть не мог иллюстрировать», так увлекся иллюстрациями, что не оставлял их в течение всей жизни. Они были как бы отдушиной, чем-то личным. Когда он работал над этими рисунками, он забывал о заказчиках, о том, что нужно писать для заработка.
Работать над баснями Серов начал летом 1895 года в Домотканове, куда приехал из Харькова, сейчас же после окончания группового портрета царской семьи. Работа эта, которой он занимался три года, надоела ему. Неприятна была и процедура открытия портрета с участием царя Александра III и всей августейшей семьи. Картина понравилась царю, и Серова поздравляли с успехом, жали ему руку, а он с нетерпением ждал, когда же можно будет оставить все и удрать из Харькова. «Пора бы уж мне приехать», – тоскливо пишет он жене в Домотканово.
Он провел в Домотканове всю вторую половину лета и осень.
Там его ждал сюрприз. Приехала из Парижа Маша, теперь уже мадам Львова. В Париже она вышла замуж за русского врача, эмигранта. Маша стала красивей прежнего и женственней, вместо небрежных прядей – красивая прическа. А характер все тот же, и Маша все та же – милая умница, дорогая сестра. И он опять писал ее портрет, как восемь лет назад, и так же удачно. К сожалению, портрет этот не остался в России. Маша увезла его в Париж. Через сорок с лишним лет она решила передать его в Третьяковскую галерею, но начавшаяся война помешала осуществить это намерение. В России портрет побывал только один раз, в 1914 году, на посмертной выставке Серова.
Когда Серов приезжал в Домотканово со всей семьей и на целое лето, он поселялся в пустой школе. Здесь было спокойно. Можно было, никого не стесняя, развешивать на просушку этюды, расставлять мольберты, раскладывать рисунки.
Этим летом у стены школы Серов написал портрет своей жены, хороший, теплый портрет. Это настоящий большой портрет-картина, о каком Серов мечтал много лет и который только теперь получил возможность осуществить. Портрет оставляет впечатление покоя, довольства, умиротворения.
Жаркий летний день. Солнце, пробиваясь сквозь поля шляпки, мягким светом ложится на лицо. От горячего воздуха и гудения шмелей немного хочется спать. Она довольна теперь жизнью… А как началась эта жизнь… Смерть родителей, жизнь, пусть в очень хорошем, но чужом семействе, постоянное смущение, неловкость из-за своего положения. Потом самостоятельность и неприятная работа где-то вдали от друзей, долгое ожидание жениха.
Но теперь все по-иному. Вот ее муж, любящий и горячо любимый, большой художник, пишет ее портрет. В густой траве играют ее дети. Можно сказать, что она счастлива теперь. Заботы, конечно, но от этого уж никуда не денешься.
А для Серова это был очень удачный и плодотворный год.
Осенью он написал первый по-настоящему серовский пейзаж «Октябрь». Все ранее написанные им пейзажи представляются в большей или меньшей степени поисками своего лица. У Серова-пейзажиста оно появилось гораздо позже, чем у Серова-портретиста. И лучший из написанных им ранее пейзажей – «Пруд» – был все же «Добиньи – Руссо», а не Серов. Однако от пейзажа к пейзажу Серов все больше и больше обретает самостоятельность. Все больше и больше простоты и строгости, все меньше и меньше цветистости. Еще в 1892 году он написал совсем самостоятельный пейзаж «Осень», где не видно уже влияния ни барбизонцев (как в «Пруде»), ни Левитана (как в «Елях»), но эта вещь производит впечатление пробы сил. Поисками кажутся и северные этюды. Гораздо более интересен пейзаж в другой картине, написанной в 1892 году, – «Линейка из Москвы в Кузьминки». Трудно даже сказать, что это: жанр, вписанный в пейзаж для его оживления, или попытка соединить пейзаж с жанром… По выжженной солнцем дороге, поднимая тонкую, долго не оседающую пыль, плетется тройка. Давно устали лошади, кучера разморило, да и седоки не лучше; крыша линейки не спасает их от солнца: склонилась голова в шляпке у дамы, тяжело оперся на палку ее попутчик, только гимназистик с любопытством разглядывает этот не очень еще знакомый ему мир. А вокруг однообразие: блеклая зелень степи, серо-голубое марево неба и палевая пыль бесконечно длинной дороги.
Вот этот однообразный, какой-то аскетический пейзаж и стал все больше привлекать Серова. Лето здесь какое-то не летнее, здесь нет тех радостных ярких красок, какие мы привыкли видеть в подобных случаях у других художников. В конце концов Серов совсем почти отказался от летних пейзажей. И в этом отношении «Октябрь» был чем-то очень важным на его пути, результатом установившейся гармонии вкуса, ума, темперамента и мастерства.
Все предельно просто на этой небольшой картинке. Тускнеющее жнивье близ деревенской околицы. Посередине сидит мальчишка-пастушонок в нахлобученном по самые уши тятькином картузе: он разулся и сосредоточенно чинит свой прохудившийся лапоть. А вокруг пасется стадо: лошади, лениво переступая, щиплют траву, поодаль маячат темные силуэты овец. В картине обаяние последних теплых дней, когда хочется без конца вдыхать с легким прохладным воздухом тонкие ароматы ранней осени, хочется подставить солнцу спину и почувствовать, как оно нагревает одежду, потому что скоро всего этого не будет: по небу пробегают легкие белые облачка, а над крышами последних изб взметнулась потревоженная стая птиц.
Еще большей строгости достигает Серов в другой картине – «Баба в телеге», написанной там же, в Домотканове, годом позже.
Когда смотришь на эту картину, то не сразу даже понимаешь, почему она так трогает, в чем ее обаяние, – ведь она почти примитивна, кажется, все так просто, что, даже не будучи художником, можно очень легко все это сделать: прямая линия леса и реки, прямые линии телеги, баба почти скрыта в ней, вместо лица – платок, закрывающий его. Только лошадь, предмет продолжающейся своей с детства слабости, художник не решился изобразить прямыми линиями. И, лишь долго вглядываясь в сочетание этих линий и красок, начинаешь понимать, что это не примитив, а та высшая простота, до которой надо дорасти упорной работой над собой – не столько даже над мастером, сколько над человеком, работать долго и упрямо, как в то время в литературе работали Чехов и Толстой. Это великая победа человека и художника, потому что только тот, кто искушен в искусстве, может понять, как это трудно, сколько раз надо победить самого себя, чтобы достичь этой простоты. Сколько надо воли, сколько надо душевной силы, чтобы перечеркнуть эффектную фразу и заменить ее простой и более точной, или художнику, чтобы счистить красивый мазок и положить на его место скромный и незаметный.
Пейзажи Серова не так лиричны, как пейзажи Левитана, они не так трогательны, как пейзажи Нестерова, но в них в совершенстве воплотилось то, к чему стремились все современники Серова. Он выбирал для своих пейзажей самые незатейливые мотивы и из них умел любовью своей к скромной, бедной Руси, любовью сдержанной, боящейся обнажиться перед посторонним равнодушным взором и спрятанной поэтому где-то далеко, в глубине души, творить шедевры, от которых щемит сердце.
Обыденность, даже какая-то нарочитая некрасивость, которую Серов искал в натуре и которая была главной задачей его искусства в тот период, воплощенная в образ, заставляет верить в действительность изображенного, в его реальность. Ибо красота, даже если и писана с натуры, вызывает сомнение или хотя бы тень сомнения в правдивости; некрасивое – достоверней.
Это задача, которую всю жизнь ставил перед собой Рембрандт и которую он так гениально решил.
Именно тогда понял Серов то, о чем он позже говорил, что писать «надо, чтобы мужик понимал, а не барин, а мы все для бар пишем и ужасно падки на всякую затейливость и пышность. Вот они – немцы, французы – пускай будут пышны, это им к лицу, а уж какая там пышность на Руси».
И он учится писать так, «чтобы мужик понимал», и, как всегда, добивается своего. Там же, в Домотканове, еще через два года (в 1898 году) он рисует пастелью «Бабу с лошадью», а крестьяне стоят позади и вздыхают:
– До чего же просто, господи, кажется, возьмешь сейчас эти цветные палочки и сам вот так же сделаешь.
И поражало еще крестьян, что на полотно перенесена правда их жизни, все то, что сами они видят сейчас: вот баба, их односельчанка, с раскрасневшимся от мороза лицом, в зипуне и платке, вывела из пропахшего навозом сарая сонную лошадь со спутанной гривой и стала, застенчиво улыбаясь…
Всю жизнь они видели таких вот молодых баб, и сонных лошадей, и деревенский снег на крыше сарая, но никогда не думали, что это так красиво.
Домоткановские крестьяне не раз наблюдали работу Серова, и он с удовольствием отмечал их чуткость, их тонкое понимание самого существа картины, более тонкое, чем у иных «образованных», которым не всегда можно показывать полдела.
А то крестьянские ребятишки, со свойственным всем детям на свете любопытством, шумно вздыхая, стоят поодаль, смотрят, как на их глазах появляется картина, издают возгласы удивления и восторга. Потом начинают спорить, перебраниваться. Чтобы не мешали, Серов отсылает их в барский дом за тряпками, и они бегут, перегоняют друг друга, врываются туда с криком.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































