Текст книги "Савва Мамонтов"
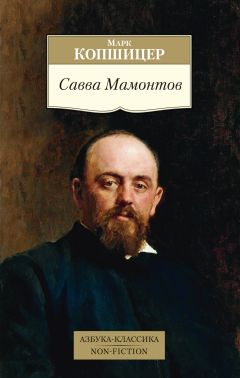
Автор книги: Марк Копшицер
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Назавтра Репин уехал и вернулся через неделю с портретом Ивана Аксакова. С полотна глядел умными глазами дородный краснолицый старик.
Репин рассказывал, что Аксаков вот ведь, кажется, просвещенный человек, и умом Господь не обидел, и правдолюбец, а что сказал: «Вы бы, говорит, Илья Ефимович, лица мне поубавили, рожи у меня много». И просил еще, чтобы побледней лицо ему сделать. Ах, горький хлеб у портретиста, все хотят быть красивее, чем в натуре. Нет, он, Репин, на такие вещи не идет. И рожи не убавляет, и вообще против натуры не шел и не пойдет.
И вдруг с налета предложил Мамонтову:
– Савва Иванович, а как же с вами? Давайте-ка я вас сегодня напишу. В пандан к зимнему портрету Елизаветы Григорьевны.
Тотчас же побежали в «Яшкин дом» за мольбертом, кистями и красками. Репин установил холст и так живо, бойко набросал углем рисунок, что все только диву дались, и тут же стал писать красками. Быстро, весело смешивал их на палитре, отходил, иногда даже отбегал на несколько шагов, глядел на Савву Ивановича и на портрет, радостно улыбался тому, что так хорошо идет, и в тот же день – 16 августа – окончил портрет. Отвалился на спинку стула со счастливым лицом и, удовлетворенный, вывел подпись. Ах, какое наслаждение дает творчество, когда чувствуешь, что дело идет так быстро и хорошо! Ни с чем не сравнимое наслаждение!
Через несколько дней Репины уехали в Москву. А Мамонтовы прожили в Абрамцеве еще полтора месяца. Лишь в конце сентября, когда пошли дожди и дорожки в парке превратились в сплошную грязь, когда мальчики стали тоскливо глядеть в окна и только Сережа, накинув плащ и шапочку, выбегал покормить любимых своих собак, когда даже у милой Верушки лицо поскучнело, а Шуренька, совсем было приободрившаяся, стала плакать и капризничать, – начали собираться в Москву и 10 октября покинули Абрамцево.
Между тем в Москву прибыла Валентина Семеновна Серова со своим Тошей, который опять, как и в Париже, стал учеником Репина, а весной следующего года и его пенсионером, потому что Валентина Семеновна уехала под Новгород, в деревню Сябринцы, где деятельно занялась пропагандированием музыки среди народа. Она закончила оперу «Уриэль Акоста» и уже начала новую – «Илья Муромец».
Зимой 1878/79 года, пока Серов жил с матерью, он бывал у Мамонтовых не очень часто, хотя и рвался к ним всей душой: там всегда было весело и как-то уютно, тепло – не то что дома…
Той же зимой в доме Мамонтовых появился еще один художник – Виктор Михайлович Васнецов, – и очень скоро стал одним из деятельнейших участников кружка. Васнецов поселился в Москве в марте 1878 года и не успел познакомиться с Мамонтовыми до их отъезда в Абрамцево. Он был хорошо знаком с Репиным и Поленовым, которые сняли ему квартиру на Остоженке.
Васнецов родом был вятич, детство провел в селе Рябово в семье сельского священника. В родных местах слышал Виктор Михайлович русские сказки, исторические рассказы о подвигах богатырей, принявшие за древностью времени и при передаче из уст в уста характер легенды или сказки. Вятский край славился резчиками по дереву, и резьба эта тоже хранила аромат стародавней Руси. Учение свое Васнецов начал в семинарии в Вятке, думая, видимо, продолжать поприще отца, но страсть к искусству превысила все – он ушел с предпоследнего курса и уехал в Петербург с родительским благословением, но совсем почти без денег.
Это был конец 60-х – начало 70-х годов, когда так успешно выступали со своими жанровыми полотнами Перов, В. Маковский, Корзухин, Прянишников… И Виктор Васнецов пошел по проторенному пути: в Академии художеств рисовал «Люция Вера» и натурщиков, исполнял программы на античные сюжеты, потом, сблизившись с Репиным и Антокольским, а позже с Поленовым, Савицким, Суриковым, Куинджи, он то рисовал «Бурлаков», подобно Репину, то «Купеческое семейство в театре», то делал многочисленные зарисовки «городских типов», явно предназначенные для будущих работ, которые и не замедлили появиться: «Нищие певцы», «Чаепитие в трактире» (чем-то напоминающее мясоедовское «Земство обедает»), «У ворот казармы» и, наконец, «С квартиры на квартиру». Эти картины оказались нисколько не ниже лучших произведений ранней передвижнической школы. Но подняться выше, пойти дальше своих предшественников Васнецов не сумел.
В 1876–1877 годах Васнецов, хотя и не был пенсионером Академии, подобно Репину и Поленову, проводит несколько месяцев в Париже, смотрит, учится, но, так же как и его друзья, мало что делает вдалеке от родины. Самой значительной его парижской работой была картина «Акробаты» («Балаганы в Париже»). Но душа его лежала к иному. Еще в Петербурге он пишет картину, где жанр сочетается с историей и даже в какой-то мере с мифологией, «Княжеская иконописная мастерская». В Париже он вдруг неожиданно для всех пишет эскиз «Богатыри» – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович охраняют мир и покой своих сограждан.
В апреле 1878 года Васнецов поселяется в Москве и в начале лета пишет несколько жанровых картин, связанных с балканскими событиями: «Военная телеграмма», «Карс взяли. (Победа)».
В это время Васнецов – признанный передвижник, от него ждут новых «Картинных лавочек». Экспонентом он стал еще в 1874 году, а с марта 1878 года он – действительный член Товарищества. Некоторое время он еще выставляет такие чисто жанровые вещи, как «Кабак», «Преферанс», «Вынос иконы».
Но уже зреет в нем иное. Детские впечатления, рассказы о старине, сказки и былины – выражение духа народа, того непреходящего, что побороло века, пережило многие живописные и литературные направления, – все это захватывает его властно и крепко.
Поэтому и звучит несколько противоречиво, но в то же время и закономерно, его признание Стасову, сделанное много лет спустя, в 1898 году, когда Васнецов был уже победителем на этой своей стезе, триумфатором: «…во времена самого ярого увлечения жанром в академические времена в Петербурге меня не покидали неясные исторические и сказочные грезы, противоположения жанра и истории в душе моей не было. Решительный и сознательный переход из жанра совершился в Москве златоглавой, конечно. Когда я приехал в Москву, то почувствовал, что приехал домой и больше ехать уже некуда. Кремль, Василий Блаженный заставляли меня чуть не плакать, до такой степени все это веяло на душу родным, незабвенным».
Итак, с октября 1878 года Васнецов работает в Москве. Здесь новые замыслы начинают брать верх над тем, что было данью общим настроениям, веяниям времени.
Он находит понимание и поддержку друзей-художников, которых Москва тоже захватила сохранившимся историзмом и особым колоритом московского быта. Репин пишет «Царевну Софью», Суриков – «Утро стрелецкой казни», Поленов еще летом 1877 года много работал в Кремле, писал солнечные этюды кремлевских зданий, кремлевские интерьеры (для задуманной им картины из русской истории: «Пострижение негодной царевны»).
Вспоминая впоследствии об этой поре начала московской жизни своего брата, Аполлинарий Михайлович Васнецов писал: «Трудно было в это время Виктору. Петербургские деловые связи были прерваны, а московские еще не наладились. Разные штуки мы придумывали, чтобы кормиться. Работал главным образом Виктор, а я у него был как бы заведующим хозяйством, поскольку на одного заказы еще удавалось получить, а я знавал свое ремесло тогда еще маловато».
Поистине счастьем и удачей было для Васнецова знакомство с семьей Мамонтовых.
Мамонтов сразу же оценил одну из ранних работ Васнецова – «С квартиры на квартиру». «Я не знаю в русской школе живописи произведения, подобного этой картине, – говорил Савва Иванович. – В ней с удивительной силой показаны не просто бедные люди, меняющие угол для жилья, а раскрыто безмерное людское одиночество, поджидающее необеспеченных людей в наших условиях существования… Страшное, угнетающее одиночество, которое неизбежно для бедных людей.
Это вовсе не картина жизни петербургской служилой бедноты, это поэма, трагедия одиночества, это приговор чиновной России, умеющей только управлять, видеть в людях только беспрекословных исполнителей ее воли, желаний и выбрасывающей из жизни всякого, кто не может уже писать входящих и исходящих бумаг…»
Может быть, Мамонтов излагал свои мысли не столь книжным языком, каким передал их со слов самого Васнецова, записанных много лет спустя, биограф художника, но суть сказанного – и это главное – выражена, надо думать, верно.
Таким образом, Васнецов был оценен Мамонтовым и ему было подставлено крепкое плечо. Зря тревожился Крамской, когда писал Репину: «Наше ясное солнышко – Виктор Михайлович Васнецов. За него я готов поручиться, если вообще позволительна порука. В нем бьется особая струнка, только что нежен характером, – ухода, поливки требует!»
«Ухода и поливки», на которые готов был Мамонтов, Крамской, конечно, предвидеть не мог, зато мог он опасаться осложнений иного рода, и опасения эти оправдались. Васнецову предстояли размолвки с передвижниками. Но об этом в свое время… Выставка 1879 года прошла для Васнецова гладко. Он окончил начатый еще в Петербурге «Преферанс» – это было последнее произведение, которое вызвало единодушное одобрение в Товариществе передвижных выставок.
Начало сближения Васнецова с семьей Мамонтовых совпало, как было уже сказано, с увлечением художников-москвичей русской стариной. И по силе этого увлечения с Васнецовым мог конкурировать разве только Суриков.
«Для меня, – передает слова Васнецова В. М. Лобанов, – не было лучшей прогулки, как бродить по набережной вдоль стен Кремля, заходить в темные, еле освещенные немногочисленными лампадами приделы Василия Блаженного». «В первые месяцы жизни в Москве в прогулках по улицам, Кремлю и вокруг Кремля я набирался московского духа, запоминал встречных людей, толкаясь среди народа на базарах и площадях. Я жадно впитывал в себя изумительнейшие архитектурные красоты московских построек, за каждой из которых чувствовал их создателя, видел предков сегодняшних жителей Москвы. Из сравнений, контрастов, противоположностей Петербурга и Москвы я постигал святая святых моего народа, прислушивался к биению его сердца, вникал в тайники его ума, наблюдал трепет его чувства…»
Первой картиной Васнецова, в которой воплотились эти новые и в то же время исконные его настроения, было огромное полотно на сюжет «Слова о полку Игореве». Картина называлась «После побоища Игоря Святославича с половцами».
«Слово о полку Игореве» многих в те годы увлекало и в столицах, и в провинции. Еще учась в вятской семинарии, Васнецов познакомился с сосланным туда за участие в польском восстании епископом Адамом Красинским, переводчиком «Слова» на польский язык. В Петербурге Васнецов был близок со студентом И. П. Савенковым, знатоком древнерусской литературы. Но наибольшее влияние оказал на него в этом смысле Мстислав Викторович Прахов, с которым в ноябре 1878 года Васнецов познакомился у Мамонтовых. Мстислав Викторович еще в студенческие годы увлекался «Словом» и писал о нем научную работу. Беседы с Праховым много дали Виктору Михайловичу…
К сожалению, беседы эти окончились очень скоро. В конце января 1879 года Мстислав Викторович – этот идеалист, человек не от мира сего – покончил самоубийством в одной из московских гостиниц.
Однако за то короткое время, что провели в беседах у Мамонтовых Мстислав Викторович и Васнецов, последний твердо решил написать картину «После побоища Игоря Святославича с половцами» и уже начал набрасывать эскиз и делать этюдные зарисовки.
Но беден был тогда Васнецов удручающе. Кроме младшего брата Аполлинария, который был у него «на руках» и который оставил известный уже нам рассказ о первых месяцах жизни Васнецова в Москве, «на руках» у него была еще и молодая жена, и потому бедность особенно тягостна была Васнецову. Передвижная выставка, открывшаяся в начале 1878 года, не принесла Виктору Михайловичу ни гроша.
«Выставка наша кончена 1 июня в Москве, – писал он Крамскому, – и картины мои в целости остались… никто не купил ни одной… Сижу без денег, и даже взаймы негде взять. Прибавьте к этому настоящее кризисное время. Если у Вас, Иван Николаевич, есть лишних 200 рублей – то не откажите ссудить меня ими… обращаюсь к Вам просто в состоянии метания из стороны в сторону».
Крамской ссудил просимые деньги в два срока, но отдавать их ему Васнецов начал лишь в начале 1879 года, когда получил деньги у Мамонтова. Савва Иванович заказал Васнецову и еще нескольким художникам рисунки для альбома, который он собирался издать17. Васнецов исполнил три рисунка: «Подружки», «Княжеская иконописная мастерская» и «Витязь на распутье». Деньгами, полученными за них, он расплатился с Крамским и получил возможность завершить работу над картиной «После побоища». Таким образом, с 1879 года он уже начал чувствовать дружескую поддержку Саввы Ивановича, но к отношениям подобного рода, когда художник и его заказчик – друзья, был он непривычен и, запуганный неудачным началом своей московской жизни, осторожно шел на сближение.
Еще до того, как Васнецов приехал в Москву, Репин и Поленов рассказывали о нем, и Елизавета Григорьевна участвовала в подыскании Васнецову квартиры, помогла выбрать из множества вариантов тот именно, который отвечал бы потребностям семьи художника. Виктор Михайлович и жена его всегда благоговели перед Елизаветой Григорьевной, перед душевной ее чистотой и самоотверженностью.
Что касается Саввы Ивановича, то впечатление, произведенное им на Васнецова, придется передать в несколько приглаженном виде, который придал словам художника его биограф В. М. Лобанов: «При первой встрече он поразил меня и привлек даже своей наружностью: большие, сильные, я бы даже сказал, волевые глаза, вся натура стройная, складная, энергичная, богатырская, хоть среднего роста, обращение прямое, откровенное – знакомишься с ним в первый раз, а кажется, что уже давно был с ним знаком».
Здесь нас интересует, конечно, не столько описание внешности Мамонтова, которое прекрасно передают даже фотографии, а еще лучше два портрета Репина и рисунки Серова, сколько впечатление, произведенное им на Васнецова, особенно последние слова, свидетельствующие о черте, редкой в людях, – с первого момента казаться старым знакомым.
И это свойство Саввы Ивановича и сердечность Елизаветы Григорьевны так благотворно подействовали на Васнецова, что уже к весне 1880 года он почувствовал себя совсем своим человеком у Мамонтовых и как-то вдруг налился силой, обрел уверенность в себе.
В воспоминаниях Васнецова, записанных Лобановым, есть отрывок, который позволяет ощутить то состояние мира и покоя, состояние устроенности, которое поселилось тогда в душе Васнецова: «Наступления вечера, когда можно было пойти к Мамонтовым, я да и многие другие художники ждали с особым трепетом. Поднимаясь по большой лестнице, ведущей в комнаты, я чувствовал какое-то особое, приподнятое настроение, а при первых словах и рукопожатиях с хозяевами дома мне становилось как-то уютно, по-семейному. Около кипящего самовара за чайным столом сидела Елизавета Григорьевна. По-орлиному глядевший на всех, стремительный и напряженный, как тугая пружина, Савва Иванович говорил всегда с огромной страстностью и увлечением.
О чем только не говорилось за мамонтовским столом! Какие только вопросы не обсуждались и не затрагивались! Текущие наши работы, намечавшиеся выставки, театральные постановки, игра артистов, новые книги, газетные статьи, приезды и отъезды художников или знаменитых певцов и музыкантов, беседы обо всем этом затягивались далеко за полночь…»
Летом 1879 года Васнецов поселился хотя и около Мамонтовых, но не в самом Абрамцеве, а в одной из соседних деревень – Ахтырке. Однако, по мере того как время шло, он все больше тянулся к Мамонтовым, все чаще приходил по вечерам в Абрамцево. А потом прогулки эти и вечерние беседы стали каждодневными. И Савва Иванович каждый вечер стал ходить встречать Васнецова.
«Ярко почему-то запечатлелся у меня в зрительной памяти, – пишет В. С. Мамонтов, – один вечер, когда отец с нами, мальчишками, пошел по дороге в Ахтырку встречать Васнецова. Ясно вижу… как мы, выйдя из усадьбы в чистое поле, заметили вдалеке отчетливо выделявшиеся на светлом горизонте две приближающиеся к нам длинноногие человеческие фигуры – это были Виктор Михайлович со своим младшим братом Аполлинарием».
В 1879 году Мамонтовы переехали в Абрамцево еще раньше, чем всегда, – 23 марта. «7 апреля, – пишет в „Летописи сельца Абрамцева“ Савва Иванович, – Воря была в необычайном разливе, так что я, приехав из Москвы, не мог перебраться из-за реки у усадьбы и должен был переходить через железнодорожный мост. Все лето прожили в „Яшкином доме“ Репины, а в Монрепо Праховы». Репин в апреле 1879 года, разозленный отрицательным отзывом Стасова о «Царевне Софье», уехал в Чугуев, а семья его приехала в Абрамцево без него в самом начале мая. Сам же Репин приехал в тот год в Абрамцево в середине мая, и тотчас же появился юный его ученик Антон Серов.
Серов ни на шаг не отходил от Репина и рисовал беспрестанно все то, что рисовал его учитель, и многое помимо него. Репин все лето ездил по окрестным деревням, делал эскизы к «Проводам новобранца».
Результаты работы Репина, как и Серова, не ограничивались этюдами к «Проводам новобранца». Репин пишет маслом жену свою Веру Алексеевну на одном из многочисленных абрамцевских мостиков, очень живописном. Рисует портрет двоюродной сестры Елизаветы Григорьевны – Маши Якунчиковой (впоследствии художницы, очень талантливой, рано умершей в Швейцарии от туберкулеза, – Марии Васильевны Якунчиковой-Вебер).
Но самый удачный из репинских портретов этого лета – портрет племянницы Саввы Ивановича, Сони, которая после смерти отца каждое лето проводила в Абрамцеве (портрет этот только недавно разыскан и приобретен Абрамцевским музеем, до того был он известен лишь по маловыразительной репродукции)18. Соня, в пестром украинском костюме, с монистами, сидит на веранде среди цветов, чуть скосив свои удивительно красивые глаза в сторону художника.
А слева от Репина рисует ее – карандашом – Антон. Конечно, на скорую руку сделанный рисунок Серова не идет в сравнение с репинским блестящим портретом Сони, но этюд Серова, несомненно, говорит о растущем мастерстве молодого художника.
В августе 1879 года (а не в 1880-м, как обозначено на портрете Репина) Репин пишет, а Серов опять рядом рисует портрет Саввы Ивановича в белой рубашке19. И вот здесь он уже едва ли не превосходит своего учителя, его рисунок – хотя это только рисунок – динамичнее, лаконичнее и по характеристике едва ли не острее.
Что еще писал Репин тем летом в Абрамцеве? Натюрморт «Яблоки и листья», рядом с ним те же «Яблоки и листья» пишет Серов (и на холсте квадратного, а не горизонтального, как у Репина, формата). Иных различий у этих картин нет. В искусстве натюрморта учитель и его четырнадцатилетний ученик равны.
Впрочем, Репин считает, что равны они не только в искусстве натюрморта. С каждым днем он становится все более высокого мнения о своем ученике, трудолюбие которого не знает предела.
Список рисунков, сделанных Серовым летом 1879 года в Абрамцеве, баснословно велик: десятки листов заполнены портретами его обитателей, пейзажами Абрамцева и зарисовками окрестных деревень. Первый жанровый рисунок Серова «Линейка» сделан Серовым в Абрамцеве тем же летом 1879 года, которое было чем-то очень важным, очень значительным в становлении искусства Серова. «Как портреты, так еще более пейзажи говорят о том, – пишет Грабарь, – что приехавший весной 1879 года в Абрамцево 14-летний Серов возвращался в Москву уже художником с собственным творческим лицом и самостоятельным, независимым от Репина, способом видеть, познавать и передавать природу».
В «Летописи сельца Абрамцева» Савва Иванович писал, что «все лето 1879 года было очень плохое, дождливое и холодное. 9 июня был мороз, который сильно повредил растительность. Зелень на берегах была убита»20. Несмотря на это, жизнь в Абрамцеве, как всегда, была весела, наполнена событиями, приездами гостей: приезжал из Парижа Боголюбов, из Петербурга – Крамской.
Мамонтовы, Репины, Васнецовы, Праховы, Поленов, многочисленные родственники хозяев устраивали то и дело пикники и кавалькады.
Шарж на одну из таких кавалькад нарисовали Репин и Серов, причем на рисунке Репина изображен Серов, а на рисунке Серова – Репин.
Первого сентября был день рождения Елизаветы Григорьевны, и памятью о том, как был отпразднован этот день в Абрамцеве, осталась картина Репина. Только это какое-то «нерепинское» полотно, – это похоже на сказку… Изображен вечер 1 сентября – детский праздник в лесу. Видна со спины фигура Елизаветы Григорьевны, исполненная какого-то вдохновенного изящества. В поднятой ее руке – горящий факел, свет которого вырывает из тьмы несколько стволов, нижние ветви деревьев, группку ребятишек, идущих следом за Елизаветой Григорьевной. Лишь один мальчик в матросском костюме (судя по возрасту – Сережа Мамонтов) забежал вперед, обернулся, и пламя освещает его лицо, глаза его блестят, он весь – воплощение чистой детской радости. Необычайная картина! Писана она, конечно, не с натуры, а по впечатлениям того вечера; на ней дата: «1 сентября 1879 года».
В этот день Репин преподнес Елизавете Григорьевне в подарок ее портрет, писанный полтора года назад, побывавший в 1878 году на Передвижной. Этим и объясняется ошибка в датировке портрета. Именно в этот день Репин, по-видимому, и поставил дату: 1879 год.
Репин теперь уже твердо стоит на ногах и знает, что ему нужно. Он часто встречается с Костомаровым, с ним намечает маршрут предстоящей поездки на юг, в места поселений запорожцев, чтобы там собрать материал, необходимый для картины, задуманной прошлым летом в Абрамцеве.
Весной 1880 года Репин, взяв с собой Серова, уехал в Запорожье и в Крым. В августе они приехали в Абрамцево, привезя из поездки гору рисунков и этюдов – все, что нужно ему было для предстоящей еще многолетней работы над «Запорожцами».
А зимой 1879/80 года он то и дело появляется у Мамонтовых со своим Антоном, рисует, пристроившись в уголке, членов семьи Мамонтовых и их гостей.
Серов в это время все больше сближается с семейством не только Саввы Ивановича, но и Анатолия Ивановича Мамонтова. Серов привык в родительском доме, как мало он в нем ни жил и как редко потом ни общался со своей матерью, к музыке. А музыкальная атмосфера в доме Анатолия Ивановича была насыщенной. Его жена Мария Александровна, хотя и оставила после замужества артистическую деятельность, дома продолжала заниматься музыкой и побуждала к тому своих детей.
Рассказывая об этом периоде жизни сына, Валентина Семеновна Серова пишет: «Тошины музыкальные запросы были вполне удовлетворены знакомством с семьей Анатолия Ивановича Мамонтова; в его доме культивировалась камерная музыка, до сей поры мало известная моему сыну. Кроме того, что она обогатила его музыкальные знания, она приковала его к „Анатольевичам“, тем более что один из сыновей, готовившийся в художники, близко сошелся с ним». Этот «один из сыновей» был Михаил Анатольевич Мамонтов, который впоследствии действительно стал художником, хотя и небольшим.
Еще более интересным было знакомство Серова с Ильей Остроуховым, служащим в магазине игрушек, который содержала Мария Александровна Мамонтова. Остроухов был длинен, неуклюж, застенчив, исписывал мельчайшим почерком десятки изящнейших записных книжек излияниями по поводу своего чувства, предметом коего была Таня Мамонтова. Но если бы интересы Остроухова ограничивались только работой в магазине и влюбленностью в дочь хозяйки этого магазина, он, конечно, не стоил бы внимания. Остроухов был образованнейший человек, обладавший и вкусом, и знаниями, и способностями. Он недурно играл на фортепиано, увлекался биологией, он едва ли не первый оценил пейзажи Поленова и тянулся к знакомству с ним. Знакомство с Серовым, который, несмотря на разницу возрастов, считался на короткой ноге с Поленовым, сулило Остроухову приятные перспективы. Репин этой зимой организовал у себя рисовальные вечера, в которых, кроме него самого и Серова, участвовали также Васнецов, Суриков и Поленов. Постепенно Остроухов стал тоже бывать – нет, не на рисовальных вечерах – для этого он еще не был достаточно подготовлен, – просто в доме Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны и особенно сблизился именно с Елизаветой Григорьевной. Тогда же началось его сближение с Поленовым.
Таким образом, положение всех – старших и младших – участников кружка, который теперь мы называем Мамонтовским, стало более или менее определенным.
Что же, однако, представлял он собой, Мамонтовский художественный кружок?
Это было объединение совершенно уникальное. В кружке не было определенного, какими-нибудь рамками ограниченного числа участников, не было четких границ, ибо никто не вступал в него и никто из него не выбывал. Он никого не сковывал никакими обязательствами. Каждый мог по желанию или по необходимости исчезнуть из поля зрения и по желанию же появиться. Участниками его считались в те годы и такие первостепенные таланты, как Серов, Коровин, Врубель, и такие, как Неврев, Николай Кузнецов.
У кружка этого не было никакого устава, он не провозглашал никакой программы, никакого направления, никакой доктрины. Это было совершенно свободное объединение художников, стихийно основавшееся на принципах доброй воли и самого широкого демократизма.
И благодаря этому участниками этого кружка были написаны картины, ставшие украшением русской художественной школы.
Разумеется, кружок мог существовать только при наличии объединяющего центра. Им стал Мамонтов. Кружок стали называть Мамонтовским стихийно. Собственно, официально такого названия не существовало, его нет ни в искусствоведческой, ни в мемуарной, ни в эпистолярной литературе того времени. Оно возникло ретроспективно, когда определилось значение кружка и стала понятна роль в нем Мамонтова.
Еще один аспект существования кружка – материальный.
Здесь можно сколько угодно говорить о социальном положении Мамонтова, но нельзя забывать: купцов, заводчиков, финансистов тысячи было в России, а Мамонтов был один.
И вот получилось так, что состояние дел Мамонтова имело в какой-то мере отношение к развитию русского искусства XIX века.
В те годы дела Мамонтова шли успешно. Донецкая дорога давала немалый капитал компании, которую он возглавил. Процветал и весь Донецкий каменноугольный бассейн, обрастал заводами. Россия становилась более мощной, догоняла Европу, и Мамонтов чувствовал себя участником этого процесса.
Он хотел сочетать практические дела и искусство – желание трудновыполнимое. Он вспоминал письмо Антокольского. «Я думаю, – писал Антокольский, – что не Вы с Вашей чистой душой призваны быть деятелем железной дороги, в этом деле необходимо иметь кровь холодную, как лед, камень на месте сердца и лопаты на месте рук. Ведь Вы сами все это лучше меня знаете, не мне Вам об этом говорить!»
Конечно же, слова Антокольского, как ни тревожили они покой Мамонтова, оставались лишь добрыми пожеланиями. И Мамонтов старался изо всех сил, чтобы те деньги, которые приносила ему его предпринимательская деятельность, расходовались не столько для личного обогащения, сколько для помощи художникам, которые стали теперь попросту близкими ему людьми, ибо сам он был человеком богатейших художественных возможностей, человеком, чей вкус и духовные потребности возрастали непрестанно. Потому так необычна была его помощь художникам. Но ведь в конце концов можно было помогать тем же художникам иным, менее хлопотливым способом. Можно было стать коллекционером, собирателем картин, и это было бы тоже помощью художникам. Хотя для собирателя главное – любовь к картине, к произведению искусства, и только.
Мамонтов, конечно, любил и картины – а как же иначе? – потому-то он и любил художников. Но при всей своей любви к произведениям искусства людей, создававших эти произведения, он любил больше. Он ощущал необходимость дышать с ними одним воздухом, жить одной жизнью, ибо в душе был куда больше художником, чем дельцом. О другом его свойстве, обусловившем характер его деятельности, писал в свое время И. Грабарь: «Мамонтов по своему духовному складу был меньше всего коллекционером, ибо ничто не было ему столь чуждо, как привычка оглядываться назад. Он смотрел только вперед, любил созидать, а не подводить итоги, любил грядущее, молодое, а не отживающее. Оттого он так страстно увлекался каждым новым явлением, оттого он всю жизнь казался рядом с уравновешенным, мудрым и холодным Третьяковым каким-то неистовым искателем новых дарований».
Вот теперь, в описываемое нами время, таким новым дарованием, оказавшимся в поле деятельности Мамонтова, был Васнецов. В тот год именно Васнецову нужна была поддержка больше, чем кому-либо иному. Как раз весной 1880 года у него произошел конфликт, и очень серьезный, с передвижниками.
Работая в Ахтырке над огромным своим полотном «После побоища Игоря Святославича с половцами», Васнецов воспрянул несколько, встречая сочувствие и понимание окружающих: картина нравилась Мамонтовым, Репину, Поленову. И Васнецов приободрился, мысли о ненужности своей оставили его. Осенью он перевез картину в Москву, закончил ее и как член Товарищества послал на очередную, VIII Передвижную выставку, которая должна была открыться в марте 1880 года. Но тут произошло то, чего никто не ожидал. Многие передвижники, особенно художники старшего поколения, отнеслись к картине отрицательно. Мясоедов резко протестовал против ее экспонирования. Один из инициаторов создания Общества передвижников, Мясоедов был человеком нетерпимым. Урезонить его было трудно, и Васнецов решил, что, если с передвижниками ему не по пути, он покинет Товарищество. К счастью, тогда жив еще был (доживал последние годы) Крамской, человек редкого ума, и, по-видимому, им была создана оппозиция диктаторским выходкам Мясоедова, в результате чего Васнецов взял обратно свое заявление о выходе из Товарищества, а картина его была экспонирована. «Трудно Васнецову пробить кору рутинных художественных вкусов, – писал тогда Крамской Репину. – Его картина не скоро будет понята. Она то нравится, то нет; а между тем вещь удивительная». Некоторые художники направили Васнецову письма, в которых осуждалась тяжелая атмосфера, образовавшаяся в Товариществе, и выражалась симпатия и поддержка ему лично, а также тому направлению в искусстве, которое Васнецов открыл. Это были Репин, Савицкий, Максимов. Особенно дружескую поддержку Васнецову высказал Поленов, который и сам встречал непонимание своим исканиям, а потому больше других сочувствовал Васнецову.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































