Читать книгу "Умереть молодым"
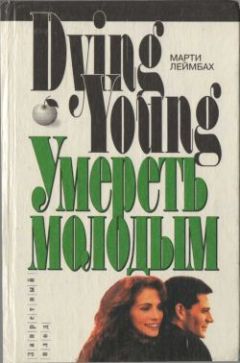
Автор книги: Марти Леймбах
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Нет, мне надо уйти. Просто необходимо. Я сойду с ума. И тебя сделаю сумасшедшим.
– Послушай, я не сумасшедший, – говорит он. – Просто дерьмо. Делаю черт-те что, такой уж у меня характер. Как, по-твоему, с чего бы я стал платить тому, кто согласится со мной жить? Я-то знал, что приглашаю человека не на увеселительную прогулку. Не хочешь, чтобы я убивал крыс? Не буду убивать крыс.
– Нет, зачем же отказываться? Перебей всех до единой, – предлагаю я. – Всех уничтожь!
Гордона нахожу в порту. Он на своей лодке. 32-футовый шлюп, который он подарил отцу после появления в прошлом году на свет «Чужой территории». Гордон склонился над насосом. Тош лежит на палубе, свернувшись клубком на желтом дождевике Гордона; выбирает зубами из хвоста застрявший там мусор. Гордон, опустившись на колено, работает насосом. Щеки раскраснелись от ветра; на ботинках от воды темные пятна. Тош первой замечает меня и, прервав свое занятие, приветственно виляет хвостом. Гордон поднимает глаза и, увидев меня, то ли хмурится, то ли улыбается, – не пойму. Выключив насос, откидывается назад.
– Как ты узнала, что я здесь? – спрашивает он.
– Догадалась.
– Как дела?
– А у тебя как дела? – спрашиваю его.
– Как Виктор?
Обвожу взглядом гавань, голубое небо с клочьями облаков, лодки, закрытые на зиму чехлами, растрескавшийся настил пирса.
– О, с ним все в порядке.
– Спит? – спрашивает Гордон.
– Крыс убивает, – отвечаю я. – У нас очередная баталия.
– Ничего не разбили?
– Разбили, – говорю, – окно.
За то время, что мы с Виктором живем вместе, у нас уже не раз происходили бурные объяснения, в результате чего домашнему имуществу был нанесен значительный ущерб. Так, в частности, был отбит угол камина, в дверце стенного шкафа появилась дыра, осветительная арматура свалилась со стены и был разорван шланг пылесоса. Я рассказала Гордону о всех этих событиях; он в ответ сказал, что все это не столько забавно, сколько грустно.
– А я сегодня все утро думаю о тебе. У меня было странное чувство: мне казалось, что ты где-то рядом. – В голосе Гордона удивление. Он обдумывает каждое слово, пытаясь объяснить мне как можно точнее свои ощущения. – Как будто знал, что вот-вот увижу тебя.
Интересно, забавляется он со мной, что ли. На языке у меня уже вертится язвительное замечание; нечего, дескать, дурака валять, он же прекрасно знает, чья машина стояла сегодня утром у его дома. Хочется предупредить его, чтобы не делал из этого факта далеко идущих выводов.
– Странное совпадение, правда? – удивляется Гордон. В его улыбке мальчишеская самоуверенность.
Гордон, конечно, не признается, что видел меня в машине. Поначалу станет ходить вокруг да около, посмотрит, как я реагирую на его намеки. Постарается, чтобы я сама раскололась. Мне уже хочется выцарапать ему за это глаза.
– Гордон, – начинаю я, – все это совсем не так, как тебе представляется.
– Знаю, знаю, – прерывает он меня, – сам не верю этой чепухе насчет передачи мыслей на расстояние. – Он гладит по голове собаку. – Кажется, мне так и не удалось объяснить тебе, что у меня было deja vu.[2]2
Здесь: предчувствие (франц.).
[Закрыть] Давай забудем все эти выверты, просто я хотел сказать, что все утро думал о тебе.
Какая же я дрянь! Всегда думаю о людях самое плохое. В этом отношении мы с Виктором – два сапога пара. Виктор тоже решил бы, что Гордон сразу догадался, чья это машина и кто в ней сидит; Виктор тоже добивался бы недвусмысленных доказательств того, что его водят за нос. Чувствую себя виноватой; конечно, не заслуживаю я хорошего отношения такого человека, как Гордон. Как он может быть со мной откровенным, видеть во мне только одни достоинства, если сама я готова вцепиться ему в глотку, уличив в каких-то грязных намерениях?
Мы сидим за столиком, отгороженным перегородкой от остального зала, в ресторане «У Кеппи». Это одно из самых старых зданий в Халле. В XIX веке здесь была почта, а еще раньше – постоялый двор. Звание «ресторана» присвоено ему совсем недавно, в результате немалых усилий его основателя – Кеппи; заведение это в разгар сезона всегда битком набито туристами. А сейчас я сижу за отдельным столиком с видом на порт, и жизнь представляется мне в розовом свете, как это часто бывает летом. Но на дворе ноябрь. Почти физически ощущаю, с какой силой ломится ветер в оконные рамы.
Кеппи и своими формами, и телосложением напоминает сваренное вкрутую яйцо. Голова лысая, единственная прядь сальных, седеющих волос спиралью уложена на макушке. В разгар туристского сезона Кеппи в ресторане почти не появляется. Все дела передает сыну, а сам сматывается на Мартас Файньярд.[3]3
Остров у побережья Новой Англии.
[Закрыть] Но зимой он неотлучно в своем ресторане, который по вечерам служит излюбленным местом встречи для всех жителей города. Кеппи ни минуты не сидит без дела: складывает штабелями упаковки пива, мелет кофе и беседует с рыбаками, которые в обеденное время всегда толпятся у стойки бара.
– Что ты там делаешь с родительским домом? – спрашивает Кеппи Гордона. Кеппи подвязал фартук своей экс-супруги, украшенный спереди надписью: «Мамочка с перцем»; в руке у него кофейник. – Налить еще кофе, милочка? – обращается он ко мне, доливая мою кружку.
– Да так, кое-что ремонтирую, – отвечает Гордон.
– Нашел время: посреди зимы.
– Весной приедут родители. Сейчас удобнее.
– А мне казалось, что у тебя постоянная работа, – говорит Кеппи. – Разве ты не мастеришь больше этих электронных болванов?
Гордон терпеливо объясняет:
– Я уже не занимаюсь сам их изготовлением.
– Тебе следует работать, а не пролеживать бока дома, – ворчит Кеппи, подмигивая мне. Закинув за спину безволосую пухлую руку, вытаскивает из-за соседнего столика стул. Все виллы и дачи в Халле для Кеппи «домашние очаги», хотя ему ли не знать, что многие обитатели Халла считают своим постоянным местом жительства городские квартиры в Бостоне.
– Да я только на пару недель сюда, – оправдывается Гордон, намазывая маслом один из тостов, лежащих перед ним на тарелке.
– Что ж, рад видеть тебя здесь, мой мальчик, – говорит Кеппи. Он тянется к кофейнику и доливает кофе в кружку Гордона, хотя та еще почти полная.
Впервые обращаю внимание на то, что от Кеппи исходит невероятное тепло, как будто в груди у него печка. Может, это оттого, что он слишком долго прожил в холодном климате. Может, такова стратегия выживания: в груди появляется обогреватель, который по мере надобности можно включать. Кеппи, конечно, чудовищно толстый. Ему постоянно приходится затрачивать немалые усилия, чтобы держаться прямо.
– Где Виктор? – ревниво спрашивает Кеппи. – Почему не пришел?
– Он не очень здоров, – объясняю я. Не помню, известно ли Кеппи, насколько серьезно болен Виктор. Я уже запуталась: кто в курсе дела, кто догадывается, а кто пребывает в неведении. Виктор переехал в Халл, чтобы не привлекать к себе внимания. И до недавних пор ему это удавалось. Но он не учел, что у постоянных жителей такого маленького городка, как Халл, свои невинные забавы. Человек вроде Виктора возбуждает огромный интерес, порождает множество сплетен. А когда Виктор в ударе, он каждому встречному-поперечному рассказывает о том, что живет в постоянном ожидании смерти, что сам стремится к ней всей душой. Не знаю только, говорил ли он об этом Кеппи. Ошибаться мне ни в коем случае нельзя. Возможно, Кеппи уже известно, насколько серьезно болен Виктор, – но, черт его знает, так ли это, а самой рассказывать ему об этом не хочется.
– Когда он был здесь в последний раз, то говорил, что не очень хорошо себя чувствует, – продолжал Кеппи. – Жаль. Мне его не хватает. Он великолепный рассказчик, прямо-таки гениальный.
Гордон кивает в знак согласия, запихивая в рот последний кусок тоста. Он внимательно прислушивается к словам Кеппи, а меня вдруг охватывает чувство гордости, как молодую мамашу, которой воспитательница детского сада рассказывает в присутствии ее мужа, какой замечательный у них ребенок.
– Так вот, в последний раз Виктор говорил нам об узниках немецких концлагерей: как там мучили людей, кто за это в ответе, как их травили в газовых камерах, а потом просто сваливали в ямы тела, – рассказывает нам Кеппи.
Я смотрю на Гордона: тот перестал жевать.
– У Виктора пунктик на этот счет: изучает разные виды казней, пыток, кто как умирает, – объясняю я. Но Кеппи гнет свою линию:
– Виктор говорил, что лагери эти напоминали свинарники, и евреям не давали ни воды, ни лекарств, ни пищи, избивали их до полусмерти.
– Все так и было, Кеппи, это общеизвестные факты, – прерывает его Гордон.
– Да, но Виктор-то знает об этом в тысячу раз больше. Называет все это по-немецки. Может объяснить, чем один лагерь отличался от другого: Треблинка от Аушвица.
– Вам надо бы записывать за ним, Кеп, – говорит Гордон.
Кеппи сидит выпрямившись. Засунув руку под фартук, достает из нагрудного кармана рубашки шариковую ручку.
– Я тут кой-чем подзанялся, пока Виктора не было. Хочу узнать, что он думает об этой вот книге, я ее прочитал, – про военных преступников. Как Виктор считает, что нам делать с этими военными преступниками? – спрашивает меня Кеппи.
– Понятия не имею, – отвечаю я.
– Он профессор, что ли? – продолжает допытываться Кеппи.
– Нет, – объясняю ему, – Виктор – не профессор. Он даже степени не получил. Ушел с пятого курса, занялся философией – когда решил бросить химиотерапию.
– А он вам рассказывал, как все евреи объединились?
– Нет, – говорю я.
На самом деле от Виктора я слышала прямо противоположное. Он рассказывал, что во многих лагерях смерти узники воровали у эсэсовских офицеров отдельные предметы их обмундирования и мастерили себе из них одежду. А потом начинали и вести себя как эсэсовцы: отдавали приказы, поносили иудаизм, даже избивали своих товарищей по несчастью. Так продолжалось до тех пор, пока настоящие эсэсовцы не поймали их с поличным, после чего последовала жестокая расправа за насмешки над немецкими офицерами. Виктор поведал мне эту историю в тот день, когда прекратил принимать лекарства; ему было ужасно плохо, целый день его тошнило. Его рвало в моей машине, в ванной, в кровати. Он рассказывал мне об этом, а я готовила себе на обед суп из консервов, и он говорил, что его тошнит от одного запаха этого супа.
– Так вот, послушайте, что случилось, – продолжает Кеппи. – Даже когда у евреев не было ни еды, ни питьевой воды, нечем было помыться, нечем перевязать раны, – даже посреди этого кромешного ада они делились друг с другом всем, чем могли. Отдавали, например, товарищу половину своей пайки или последнюю сигарету. Виктор рассказывал, что иногда более сильный работал за слабого, что матери, потерявшие детей, кормили грудью мужчину, который был так болен, что не мог есть грубую пищу.
– А вот этому не верю, – прерывает его Гордон, – готов держать пари, что у них и молока-то не было: уж слишком плохо они сами питались.
– Да что ты знаешь? Мастеришь там свои штуковины, – обиженно возражает Кеппи. – Замолчи и пей свой кофе. Виктор – гений. Передайте, милочка, ему мои слова, – обращается он ко мне.
Нам с Гордоном неловко.
– Не мастерю я ни «побрякушек», ни «штуковин». Мы производим игровые автоматы, – говорит Гордон.
Кеппи наклоняется к нам, его тень закрывает почти весь наш столик.
– Они делились между собой последним, все вместе страдали. А мы сейчас? Мы же пальцем не пошевелим ради ближнего, разве я не прав? Валяемся на пляже от восхода до заката, – вот и вся наша жизнь.
– Ты, видно, решил прочитать нам проповедь? – спрашивает Гордон. Но Кеппи не обращает на него внимания, он оседлал своего конька и не в силах остановиться.
– Всем нам будет хана, – говорит он. – Знаете, почему? Виктор объяснил нам кое-что, он рассказал, что никто, ни один человек из находившихся в лагере, не выжил в одиночку, без чьей-то помощи. Забота о своих товарищах была так же необходима людям, как еда, вода, лекарства или Бог. Виктор сказал: «Борьба за выживание – коллективный акт». – Для убедительности Кеппи стучит пальцем по столу. Будь он судьей, так замучил бы назидательскими указаниями и при каждом удобном случае пускал бы в ход судейский молоток.
– Виктор много читал об этом, – говорю я. При этом умалчиваю, что у Виктора есть майка с точно таким же лозунгом на груди. А на спине написано: «Сохраняй независимость, свобода предпринимательству». Перевожу глаза на Гордона, и у меня возникает желание защитить его. «Но почему, собственно, его надо защищать? – тут же думаю я. – На него никто не нападает». Кто на кого нападает? Сидим тихо-мирно, болтаем о том о сем с утра пораньше, – ничего особенного.
– Все это ерунда, – заявляет Кеппи, – повоевал бы, так на собственной шкуре убедился бы, что Виктор прав.
– Виктор не был на войне, – уточняю я.
– Верно, – соглашается Кеппи. – А он все равно знает. Вот так.
Ухожу от Кеппи в самом мрачном расположении духа, хорошего настроения как не бывало. Очень часто, когда еду в машине или заезжаю в булочную за французскими булочками, мне кажется, что Виктор стоит рядом, или сидит в машине за моей спиной, или заглядывает в окно. Ощущаю его присутствие каждую минуту, хотя в последнее время он не встает с постели. Как будто у меня перед глазами всегда его фотография. В самые неподходящие минуты передо мной возникает его лицо. И пока мы с Гордоном тащимся по причалу к его лодке, у меня перед глазами маячит лицо Виктора. Вижу, как он сидит на высоком табурете у стойки бара Кеппи, худые ноги скрещены, курит. Отчетливо вижу его кудрявые волосы, как они блестят в свете ламп. Вот он откидывается назад, набирает полные легкие воздуха и замирает, задерживая дыхание. Щурится, рассказывая о чем-то, речь льется свободно, слова точно подобраны, каждое бьет прямо в цель. Мне кажется, что он наблюдает, как мы с Гордоном устало бредем к лодке; лицо покраснело, уголки губ опущены, гнев клокочет в груди. Так я выношу себе приговор.
– У тебя сегодня много дел? – спрашивает Гордон.
Пожимаю плечами, огибая кучу песка.
– Хочешь от меня избавиться? – спрашиваю его.
– Нет, – отвечает Гордон. Останавливается на причале и поворачивается ко мне лицом. – Нет, не хочется с тобой расставаться. Но решил не говорить это прямо в лоб. А то знаешь, как бывает?
Про себя думаю: «Так хочется еще побыть с ней», а потом: «Может, у нее другие планы, и она ответит: «Не могу». Так лучше сначала спросить, свободна ли она». За тобой право выбора, можешь сказать что-то вежливо-неопределенное. – Гордон переводит дыхание. – Так как, Хилз, хочешь сказать мне что-то вежливо-неопределенное?
– Чувствую себя преступницей, – признаюсь я.
– Я же не уговариваю тебя сбежать со мной, просто хочу узнать, не занята ли ты. Нет ли у тебя, к примеру, желания немного развлечься?
– Мне так трудно принимать решения, – говорю я. Думаю о том, что Виктор постоянно упрекает меня за мою нерешительность; при этом он закатывает глаза, а я чувствую себя четырехлетней девочкой, которой выговаривают за испачканное платье. – А что значит «развлечься»?
Гордон в ответ смеется, и мне становится легче на душе. Я даже подхихикиваю ему. Пожимаю плечами.
– Я не шучу, – объясняю ему. – Я и вправду не знаю, что такое «развлечься». А ты знаешь? Серьезно, Гордон, а ты придумал «развлечение»? Придумал, чем нам заняться?
– Да, – говорит Гордон, – у меня есть неплохая идея.
Глава II
Паром, на котором я ни разу не ездила, отправляется из той части города, которая называется «Пембертон», и по расписанию через сорок минут должен прибыть в Бостон. Сколько раз утром слушала я гудки этого парома и изучала расписание по длинным полосам дыма, тянущимся из его трубы. Мы с Гордоном отправляемся с одиннадцатичасовым, сидим на верхней палубе в полном одиночестве, что не удивительно: ветер дует с такой силой, что ни один здравомыслящий пассажир не рискнул устроиться в цветных пластиковых креслах, ряды которых расставлены на деревянном настиле палубы. Гордон спрятал руки в рукава свитера, а я подняла капюшон своей куртки.
У нас на двоих один пакетик шоколада в разноцветных обертках, мы купили его в кафе, собираясь в путешествие, и я занимаюсь дележкой сладостей.
– У-у-у, мне в коричневой обертке, – просит Гордон, – а ты возьми в желтой.
Он смотрит вдаль, всей грудью вдыхая морской воздух. Гордон получает удовольствие от любой погоды. Сам рассказывал, что весной совершает дальние походы в горы. Занимается серфингом на острове Нантаскет. Накануне показывали по телевизору документальный фильм о любителях дельтоплавания, так я была уверена, что увижу среди них Гордона: вот он прыгает со склона горы и под гигантскими крыльями воздушного змея плавно парит в воздухе.
– Как прекрасна Новая Англия, когда сияет солнце, – говорит Гордон, глядя на небо.
– Когда солнышко сияет, конечно, только его что-то не видно, – замечаю я.
– Да ты только посмотри на небо: чайки, солнце. Великолепно. Небо затянуто белесой дымкой. – В тот момент, когда Гордон произносит «Великолепно», солнце окончательно скрывается за набежавшим облаком.
– Ты поспешил, Гордон, вот и спугнул его.
– А теперь посмотри, как красиво: эти стальные поручни на фоне бушующего моря, чайки парят в темном небе, маяк мерцает вдали, ветер. Как замечательно! – восклицает Гордон.
Смотрю в том направлении, где нос парома, и сама себе не верю: неужели я приближаюсь к Бостону. Сколько недель, можно сказать даже – месяцев, мечтала я снова очутиться в Бостоне. Так и стоят перед глазами кишащие людьми улицы, фонари вдоль набережной, Административный центр, Копли-сквер, ресторанчики, куда я заходила с друзьями перекусить после работы. Представляю себе, чем могла бы заниматься в эту самую минуту в городе: может, обрезала бы лишние ветви на живой изгороди у своего дома или сгребала бы в кучу опавшие листья. Интересно, какая иллюминация будет в этом году на Рождество на Коммон-плейс, замерз ли пруд, можно ли кататься на коньках? Обнаружили или нет обитатели моей старой квартиры, что на кухне не хватает кафеля? И что разрезана сетка на окне? И тот же ли запах в аптеках?
– Ты замерзла? – спрашивает Гордон.
Еще как. Нижняя губа потрескалась, а я не могу удержаться: все время ее покусываю. Гордон обнимает меня за плечи.
– Хочешь спуститься вниз? Там есть столики и теплее.
Я боюсь пошевелиться, чтобы не спугнуть Гордона, – как больная, которой в вену введена трубка. Я словно застыла под тяжестью руки Гордона и вполне могу сойти за труп.
– Возьми еще конфетку, – предлагаю ему.
– Только не давай красных, от них, говорят, может быть рак.
– А в красных обертках больше не выпускают. Между прочим, рак от всего бывает, – говорю я, облизывая нижнюю губу. Она так обветрилась, что болит. Повернувшись к Гордону, смотрю прямо ему в глаза. – Мы с Виктором перечитали кучу книг по медицине и о рациональном питании, да еще брали в библиотеке кой-какие статьи. Изучили все это, а потом выписали все канцерогены. Почти целую неделю только этим и занимались. Точнее, дня четыре, – кажется, так, а список наш все еще был очень неполным. Потом сделали аналогичный список всяких хозяйственных предметов: шампуней, освежителей воздуха. На это ушло два дня, – но к тому времени мы уже кое в чем разобрались. Ты знаешь, что я до сих пор боюсь пользоваться дезодорантом? Меня убедили, что от него бывает рак груди.
– Серьезно?
– Кто знает наверняка? – отвечаю я. – Вот на мне куртка, так весьма вероятно, что ткань, из которой она сшита, канцерогенна.
Гордон встряхивает конфетки, которые я высыпала ему на ладонь. Перетряхивает их, выбирая те, на которых буквы «М» белого цвета.
– Отвратительная тема для разговора, – заявляет Гордон.
– Меня она не пугает. Мы с Виктором постоянно обсуждаем все эти вопросы. Ты ведь не куришь, правда? А я по вечерам засиживаюсь допоздна и курю.
– А днем – нет? – спрашивает Гордон.
– Как правило, – нет.
– Ты – тайная курильщица, – поддразнивает меня Гордон. Слегка улыбаясь, выдвигает вперед нижнюю челюсть, а я любуюсь выражением его лица. У Гордона великолепная мимика; у него большой рот, и уголки губ, то поднимаясь вверх, то опускаясь, ежесекундно придают его лицу новое выражение. У него гладкая кожа и прекрасной формы нос.
– Виктор знает, что я курю.
– Не понимаю тебя: боишься, что от дезодоранта может возникнуть рак, и в то же время куришь, – совершенно справедливо отмечает Гордон мою непоследовательность.
– Я как-то раз попросила доктора объяснить мне, почему так вредно курить. Он ответил, что тридцать три процента раковых заболеваний возникают от курения. Понимаешь, что это означает? – спрашиваю Гордона; он отрицательно мотает головой. Даю ему еще одну шоколадку и объясняю: – Это означает, что шестьдесят семь процентов совершенно непредсказуемы. Между прочим, если говорить серьезно, дезодоранта я не боюсь. Просто так сболтнула.
– Расскажи мне, – робко просит Гордон, – как ты живешь? Знаешь, вчера вечером сидел дома, смотрел какой-то фильм по телевизору, потом передачу прервали для рекламы, – очередной клип о пользе кукурузных хлопьев. Там молодая мамаша, – может, лет на пять старше тебя, – сидит за обеденным столом в окружении детишек. Какой-то парень, очевидно, ее муж, завязывает галстук, а около нее все эти ребятишки и еще, кажется, собака. Представляешь эту сцену? Понимаю, что это только реклама, но все равно я подумал: «Бедняжка Хилари, у нее ничего этого нет. И столовой нет… и, знаешь… всяких там электроприборов для кухни.
– А почему ты решил, что они мне нужны? – спрашиваю я.
– Может, и нет, – соглашается Гордон и смеется смущенно. – И все равно не понимаю: как ты можешь так жить? Или точнее: зачем тебе все это? Просто хочу сказать: как ты все это переносишь?
– Что «это»? Да будет тебе известно, Гордон, на кухне в той квартире есть кой-какое оборудование.
Гордон застенчиво кивает.
– Хочешь, починю окно? – предлагает он.
– Нет, спасибо. В нем только дырка, Виктор ее залепит.
Гордон убирает руку с моего плеча. Потирает руки, чтобы согреться. Лицо сконфуженное и какое-то виноватое, как будто не уверен, что сумеет с честью выдержать важное испытание. Нервно потирает рукой подбородок, глубоко вздыхает. Он выглядит таким озабоченным, что меня это и умиляет, и озадачивает.
– Мне было бы легче понять тебя, если бы ты была знакома с ним до болезни, – Гордон говорит так убежденно, что можно не сомневаться: он долго и упорно размышлял над этим. – Тогда во всем, что ты делаешь, был бы смысл. Но ты познакомилась с ним, когда он уже был болен. Знала с самого начала, что он умрет.
Молча обдумываю его слова. Затем говорю:
– Видишь ли, мне до сих пор удавалось смотреть на все, что со мной происходит, как бы со стороны. Я не знаю, что Виктор умирает. Может, я дурачу себя. Дети это прекрасно понимают. Они верят, что телеспектакль или сказка, которую рассказывали им перед сном, продолжится в их сновидениях.
– Как тебе удается абстрагироваться, если ты знаешь наверняка, что он умрет? – допытывается Гордон; губы сжаты, глаза внимательно изучают мое лицо.
– Понимаешь, порой он совсем не кажется мне умирающим. Он так любит жизнь. Довольно часто я забываю об истинном положении вещей, представляю, что мы с ним вместе строим планы на будущее, – и, на свой лад, мы именно так и делаем, – объясняю я. – Иногда мне кажется, что у нас будет ребенок.
– Серьезно? – многозначительно спрашивает Гордон.
– Наверное, нет. – Я напряженно всматриваюсь вдаль. И тут до меня доходит, что неясные тени на горизонте – очертания домов, мы приближаемся к Бостону.
– Ты не уверена?
– Наверняка я не беременна, Гордон, успокойся.
– Хилари, вы с Виктором занимаетесь сексом? – Гордон так низко склоняется ко мне, что, кажется, вот-вот поцелует. Но выражение его лица серьезно и многозначительно. Представляю Гордона гинекологом, на нем халат, на шее болтается стетоскоп, над головой висит полка с пластиковыми моделями женских половых органов.
– Да, – отвечаю ему, – конечно.
– И ты не пользуешься никакими предохранительными средствами?
– Да нет, честно говоря, нет. Видишь ли, у меня свой взгляд на такие вещи, как рождение или смерть, наверное, несколько отличающийся от общепринятого. По-моему, такие вещи происходят независимо от нашей воли, – говорю я. Это, конечно, только часть правды; мне тошно думать о предохранительных средствах. Надо знать, каким бывает Виктор в те минуты, когда он занимается любовью. Это не Виктор. Это другой человек, которого я могла бы полюбить на всю жизнь. Виктор может заниматься любовью только тогда, когда его переполняет любовь, он не может переспать просто так или по какой-то там причине. Я встречалась с людьми, для которых переспать с кем попало – все равно, что слегка перекусить между обедом и ужином. У Виктора нет сил, чтобы заниматься сексом. Другие разжигают похоть, глядя в зеркало на свое обнаженное тело, совокупляющееся с другим, затевая любовные игры, добровольно или принудительно контролируя свое тело, – все эти уловки не пробуждают у Виктора желания любить. Виктор с удовольствием рассуждает о любовных играх, но его плоть подчиняется не тем законам, что голова. Плоть подчиняется власти чего-то другого, нежного и сокровенного, – души Виктора, и каждый раз, соприкасаясь с ней, я испытываю безграничную радость. Как же могу я при встрече с таким другом напоминать нам обоим, что у меня впереди еще целая жизнь, и принимать меры предосторожности, чтобы воспрепятствовать зарождению другой жизни, которую он может оставить взамен своей?
– Пойду на нос, – говорю я, – хочу посмотреть, как подплываем к Бостону.
Пробираясь между рядами кресел, представляю себе, как выглядит эта мокрая серая палуба летом, когда на ней толпятся ребята в шортах и просторных гавайских рубашках, девушки в топиках и дети в солнечных очках, сползающих на нос. Облокотившись на поручни, всматриваюсь вдаль. Океан мощными толчками вздымает к небу водяные горы и бросает их в бездонные провалы. Обертка от шоколадки скользит по гребню волны, и меня это почему-то радует. Сквозь завывания ветра и монотонный шум двигателей над палубой парома слышу шаги Гордона; приближение его столь же неотвратимо, как прибытие в Бостон нашего парома. Гордон останавливается рядом со мной и сосредоточенно рассматривает что-то, как будто мысленно измеряет расстояние между паромом и множеством маленьких островков, которые отмечают вход в гавань. Представляю себе, что еду на этом пароме мимо тех островков, наблюдая, как под тонким слоем пенящейся воды распускают свои щупальцы медузы. Сколько раз, грезя наяву, представляла я свое прибытие в Бостон, прислушивалась к глухому звуку своих шагов по пирсу, проходила по причалу мимо рекламы, приглашающей принять участие в морском путешествии. Когда у нас с Виктором выдавалась особенно плохая неделя, когда он был настолько болен, что не вставал с постели, или когда мы часто ссорились, или когда выходила из строя машина, и мне не оставалось ничего другого, кроме как любоваться мокрым снегом, падающим за окном да прислушиваться к порывам ледяного ветра, дующего с океана, – я часто мечтала, как чудесно было бы просто подняться на борт парома и уехать. Когда до меня доносились глухие гудки парома, возвещавшие о его отправлении, мне казалось, что они обращены и ко мне, что я тоже могла бы тайком удрать в Бостон, – так рыбка исчезает в зарослях кораллов, вильнув на прощание хвостиком. Взять да уехать. А сейчас стою на борту парома, наблюдаю, как вода стремительно проносится под его прочным корпусом, как чайки неподвижно парят в воздухе, звенящем от гула ветра, – и во мне угасает последняя нота звучавшей так долго симфонии.
– Я сказал что-то не так? – спрашивает Гордон.
– Нет, конечно, нет, – успокаиваю его. – Что ты мог сказать не так?
Конечно, сказал, а разве могло быть иначе? Ведь я нахожусь под гипнотическим влиянием слов Виктора, а не Гордона. Все мои мысли и чувства подчинены тем отношениям, которые существуют между Виктором и мной, Гордону там нет места. Хочу внимать только тому голосу, который еле слышно звучит по ночам в комнате на чердаке, голосу, оставшемуся там, позади. Я так остро ощущаю сейчас отсутствие человека, находящегося в эту минуту далеко от меня, в городке, который, как мне кажется, – а честно говоря, так оно и есть, – я ненавижу. Гордон – рядом, в молчаливом ожидании. Я настолько выбита из колеи, что воспринимаю Гордона как совершенно незнакомого и чужого мне человека. Я – как иностранец на железнодорожной станции, который чувствует себя потерянным и одиноким в толпе суетливо спешащих по своим делам людей. Да, сейчас я приближаюсь к Бостону, скоро увижу знакомые места, поброжу по улицам, которые имеют не только историческую ценность для всей нации, но с некоторыми у меня связаны свои, глубоко личные истории. Однако все совсем не так, как мне представлялось в мечтах. Знакомые мне улицы теперь принадлежат другим; Фридом Трейл – это ряды магазинов и государственных учреждений, но кто вспоминает об отце-основателе[4]4
Джордж Вашингтон (1732–1788) – первый президент США.
[Закрыть] нашей страны, когда утром едет по ней на работу? Моя поездка в этот город – всего лишь незначительный эпизод. Рука Гордона, сжимающая мою руку, – всего лишь пожатие. Гул моря и крики чаек – всего лишь назойливый шум. А я напряженно прислушиваюсь к дыханию того, кто тихо спит в постели, которая стала и моей.
В городе, который любишь, чувствуешь себя легко, даже если рядом почти незнакомый тебе человек. Делаю вид, что неповторимое очарование Бостона: булыжная мостовая Бикон Хилл, Норд Энд с его неиссякаемыми запасами свежих каниолей[5]5
Пирожное с начинкой из взбитого творога.
[Закрыть] и яркими витринами с подвенечными платьями, здание ратуши, концертный зал, – все, чем знаменит Бостон, – каким-то образом сближает нас с Гордоном, создает предысторию наших отношений, которой на самом деле у нас нет. Проходим мимо лоточников, дружно удивляясь тому, кто станет покупать у них куколок, сделанных из раковин, заколки для волос, по форме напоминающие клешни, дешевые аэрозоли или пепельницы в виде крабов с выпученными вращающимися глазами. Бросаем доллар слепому, который, аккомпанируя себе на аккордеоне, поет: «Все мечты мои о Джорджии». Покупаем воздушный шарик. Глупого щенка.
В Бостоне легко представить, что мы с Гордоном знакомы с пеленок. Вспоминаем одних и тех же уличных музыкантов, одинаково хорошо знаем все забегаловки, где за долларов можно получить густую похлебку из моллюсков. Нетрудно вообразить, что мы с Гордоном не раз проходили вместе мимо этих лоточников. В каком-то смысле так оно и есть. Гордон вырос в Бруклине, неподалеку от улиц с такими благозвучными названиями как Чилтон Уэй или Линден Секл. Я считалась одной из лучших учениц в третьеразрядной средней школе, но умудрилась поступить в Бостонский университет, где штудировала науки, хотя теперь мне хочется, чтобы я занималась философией, как Виктор, который посещал гораздо более престижный университет. Но мне нечего было и мечтать о философском факультете. Я понимала, что сначала мне надо привыкнуть к новой лексике, научиться правильно произносить звук «р», наконец, доказать самой себе, сколь ценно изучение этого предмета; таким, как Виктор, это ясно с пеленок, доказательств не требуется.









































