Текст книги "Болото"
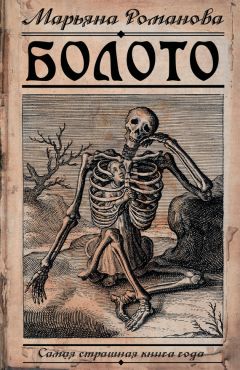
Автор книги: Марьяна Романова
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Аксинья смотрела на нее снизу вверх, в упор, ничего не выражающими желтыми глазами. Рот ее скривился, верхняя губа поднялась, обнажив почерневшие от вечного недоедания зубы. В следующую секунду она одним ловким прыжком преодолела расстояние, их разделявшее – на четвереньках, распрямляясь, как животное.
Марфа зажмурилась и перекрестилась – кажется, впервые в жизни. Машинальный жест – так делала ее мать, когда нервничала; сама же Марфа материалистом, вроде бы, не была, но рожденная уже после революции, относилась ко всему церковному с равнодушным любопытством путешественника, который видит из окна поезда незнакомый пейзаж и скользит по нему взглядом. Все эти бормочущие бабки, кресты на могилах, гулкие колокола, телесно-животные нотки в густом запахе ладана – все это было, вроде бы, и рядом, но не про нее.
У Марфы с детства было живое, легко воспаляющееся воображение – она уже, кажется, чувствовала зубы, рвущие ее горло, но вдруг Аксинья рассмеялась, и это был привычный, знакомый, без нотки безумия смех.
– Вот ты трусишка. Никогда бы не подумала.
Марфа осторожно открыла глаза. Подруга стояла рядом и насмешливо ее рассматривала, в ее желтоватых глазах больше не было этой страшной пустоты.
– Что же ты? – пролепетала Марфа. Колени ее стали слабыми, и она осторожно опустилась на поваленный ствол березы. Аксинья присела рядом.
– Я была волком, – серьезно сказала она. – И тебе придется научиться тоже. Если ты с нами, если ты от нас.
Марфа вздохнула – из ее рта вырвалась струйка беловатого пара. Дыхание сентября – еще зелено, но по ночам ледяная сырость так и норовит сквозь кожу в самую душу пробраться. Хотелось плакать.
– Аксинья… Передохнуть бы тебе. Скажи отцу своему. Пусть врача позовут, работой тебя не грузят.
– Вот дура! Думаешь, что я сошла с ума. А ведь это первое дело в ремесле нашем – в волка уметь обратиться.
– Аксинья, ты – не волк. Ты – девушка, которая стоит на карачках и страшно рычит.
– Попробуй. Давай вместе, – угрюмо твердила Аксинья, и Марфа как наяву видела свою тетку, шипящую в лицо о том, как водить дружбу с мертвецами.
– Один раз. Только один. Сделай это, и если не почувствуешь, в чем Сила, я больше никогда не трону тебя… Мы знакомы почти восемнадцать лет, с рождения самого. Я только пять минут у тебя прошу.
– Ну ладно…
Марфу с детства мягкой считали. Она знала, что это не совсем так. Скорее, она была как река – ей было проще ускользнуть, утечь от ответа, чем спорить и ссориться. Аксинья – та даже в драку в детстве лезла с удовольствием. Все мальчишки деревенские ее боялись – отчаянная была. Силенок мало, но характер! Она билась так, словно от этого жизнь ее зависела, даже если ссора пустяковая была. Могла и камнем в лицо кинуть, и за волосы взять да головой в реку окунуть. «Бешеная, – говорили о ней, – Какому же дураку несчастному такая в жены достанется».
– Вставай со мною рядом, – уже вовсю командовала подруга. – Да не бойся ты платье испачкать! Тут такое творится, а она юбки подбирает, стыдоба.
– Аксинья… А если увидит нас кто? Вот позор…
– Не увидит. Сама знаешь, что к этому лесу никто из наших не суется. Давай, ты делай, что я говорю.
Со вздохом Марфа опустилась на землю. Взрослые девушки, которые зачем-то затеяли странную мрачную игру. Аксинья встала рядом.
– Теперь почувствуй свое тело… Оно само подскажет, как быть… Ты ведь волка сто раз видела. Вот и веди себя как волк. Пусть холка твоя станет твердой, пусть запахи лесные в нос твой ворвутся. Смотри внимательно – вокруг тебя много опасностей. А вдруг охотник с ружьем? А вдруг капкан? Но и еды вокруг тебя много… Все, что движется – все это твоя еда, все твое по праву. Ты чувствуешь чужую кровь…
– Ужасы ты какие говоришь, Аксинья, – прошептала Марфа. Не по себе ей было, мурашки колючие по спине волной прошли.
Но Аксинья ее не слушала. Ее бормотанье было похоже на заклинание колдовское. Как будто бы она заговорить подругу пыталась.
– Сердце чужое бьется, кровь чужую толкает, кровь чужая по венам гуляет, и тебя к себе зовет… Небо темнеет, скоро твоя пора. Ночь тебе принадлежит, и весь лес этот – он тоже твой. Ты здесь родилась, здесь и умрешь однажды. Но это еще нескоро. Ты ведь волк, а волки не умеют о смерти думать заранее. Волки думают только о голоде.
Марфа напрягла плечи, опустила голову. Слова подруги действовали на нее завораживающе. Как будто бы она сказку страшную слушала, цепенея от близости чего-то такого, чего люди обычно сторонятся. И тело ее странно отзывалось на звуки этого глухого голоса. Тело как будто бы перестало Марфе подчиняться.
Она напружинила руки – это было приятно, как будто бы разминка после долгой неподвижности. Вдруг захотелось побежать вперед, по холодной мокрой траве, долго бежать, и чтобы Аксинья бежала рядом. Ловить взглядом серые тени, мелькающие между деревьев – а что если заяц? а что если олень? – нестись на дурманящий зов чужой крови. А потом – прыжок, всей мускулистой мощью молодого тела, передними лапами придавить жертву к земле, зубами сразу вырвать из ее горла кусок плоти, уткнуться мордой в пульсирующее и горячее, рвать плоть, постепенно насыщаясь, а потом снова бежать между деревьями, под луной.
И так свободно стало Марфе, так легко, что она вдруг подняла к небу вспотевшее лицо и завыла – сначала тоненько, будто бы пробуя собственный голос, как пробуют незнакомую еду, а потом все громче и громче. Это была песня, которую она дарила лесу, бледной еще ранней луне, подруге, которая стояла рядом, тоже обратив воющее лицо вверх.
Сколько времени она вот так провела – Марфа не знала. В те минуты человеческое время ничего для нее не значило. А когда пришла в себя, Аксинья над ней стояла и усмехалась, довольная.
– Говорила я тебе, Марфа, а ты слушать не хотела меня. И кто оказался прав?
– Что это было? – Марфа потерла лоб и поднялась с земли.
Чувствовала себя так, словно наливки крепкой выпила. Голова кружилась, а по телу слабость разлилась. Все платье – в грязи и травяном соке перепачкано, в деревню возвращаться стыдно.
– Это была она, – серьезно ответила Аксинья.
– Кто «она»?
– Сила.
Глава 4
Обжились, устроились. Лето выдалось жаркое. Яна целыми днями в гамаке валялась, что-то в дневник свой записывала. Мать ее только головой качала, на это глядючи. Она надеялась, что оставшись без Интернета, дочь начнет больше читать. Но нет – Яна вся была, как обычно, в своих странных мыслях.
Не понимала она собственную дочь, никогда не понимала. У Яны была своя жизнь.
Яна понимала, что мать расстраивается, видела – при всей внешней чёрствости, человеком она была чутким и чувствительным. Но разве такое матери расскажешь…
Жили-были Гензель и Грета, и Гензель был таким страшным, что Грета так и не смогла привыкнуть к этому. С детства она была мучима бессонницей. Иногда ей даже начинало казаться, что она – не девочка, а дельфин, и когда одно полушарие ее мозга спит, второе – находится на страже. Не следует уплывать к Морфею, если за стеной, в соседней комнате, такой страшный Гензель живет. Тому, кто на границе сна и бодрости живет, часто уготована иная, тонкая реальность. Человек такой может увидеть незримое.
Яне было одиннадцать лет, когда он появился впервые. Она его сразу Нечеловеком звать стала, а настоящего имени он за годы так и не открыл. И голоса его Яна никогда не слышала. Почему-то его появление не напугало даже в самый первый раз. Была зима, школьные каникулы, перламутровые ледяные разводы на окне, послевкусие праздника. Яна подолгу не ложилась – ей нравилось сидеть на подоконнике и смотреть на танцующие разноцветные огоньки – город еще был весь украшен новогодней иллюминацией.
Вдруг она спиной почувствовала – в комнате кто-то есть. Обернулась – на краешке ее кровати сидел незнакомый мужчина. Лет сорока пяти, старше ее родителей. Брюнет, холеные волосы с легкой проседью собраны в хвост, смуглое спокойное лицо. Яна не испугалась, хотя почему-то сразу, еще до того, как увидела его глаза, подумала – а ведь он какой-то неживой как будто. Но угрозы от него не чувствовалось. Яне была известна та особенная электрическая атмосфера, которая предвосхищает беду – когда беда, еще не случившаяся, уже в воздухе разлита, все пропитано ею. Но в тот момент в комнате был только покой.
– Привет, – на всякий случай сказала Яна.
Нечеловек не ответил ничего, зато поднял на нее глаза, беловато-серые, в зрачков-то у него и не было. Пустые белесые глазницы, но было ясно, что Нечеловек ее видит.
– Кто вы?
И снова молчание. Яна рассмотрела его внимательнее. Одет он был старомодно – темный бархатный камзол, темные брюки, кожаные ботфорты, наполовину расстегнутая рубаха с пышным жабо; на одном из длинных смуглых пальцев – массивный перстень с крупным темным камнем.
– Зачем вы тут?
Он просто смотрел. Яна спрыгнула с подоконника, подошла к кровати и, всего секунду помешкав, юркнула под одеяло. Страха не было – только безалаберный детский кураж. В конце концов, она в своей комнате, а его вообще, скорее всего, не существует.
Вблизи стало еще более очевидно, что мужчина, сидевший на краешке ее постели, обычным человеком не был. Его гладкая кожа источала беловатое свечение, а пахло от него одурманивающе сладко – медом и соком трав. Как будто бы неведомое разнотравье переварили в котле. Нечеловек повернул к ней лицо – его белые глаза тоже были с отсветом, как у кошки.
– Спокойной ночи, – сказала Яна и невозмутимо отвернулась к стене.
Конечно, уснуть она не смогла – ждала, что будет дальше. Но минуты тянулись, а ничего так и не произошло. Когда ей наскучило, зажмурившись, лежать, и она обернулась, Нечеловека в комнате уже не было.
В следующий раз он появился спустя почти два года. Яна уже считала себя молодой девушкой, а не ребенком, и свирепствовала, если друзья родителей дарили ей на праздник кукол. О Нечеловеке к тому времени она перестала вспоминать вовсе.
У нее – и первая любовь, и первый побег из дома, и гормональные штормы, взбаламутившие и без того непростой характер, и натянутые отношения с родителями, кое-как державшиеся на хилом клею дипломатических навыков ее измотанной матери. Первые туфли на каблуках. Они же последние, потому что спустя еще год Яна объявит себя феминисткой и наотрез откажется носить эти «протезы», пока они являются атрибутом лишь женской моды.
И вот очередная ночь, а ночь – это пыточная камера для ранимых подростков, вроде нее. Когда все твои внутренние мелкие бесы, освобожденные от пут будничных дел, за которыми ты их не замечала, набрасываются на тебя и начинают на кусочки рвать. И так больно это. И противно тоже – за слабость свою.
И вот она лежала, думала обо всем этом и вдруг почувствовала шевеление воздуха за своей спиною. Обернулась – скорее с удивлением, а не страхом – и сразу увидела его, Нечеловека.
Чем старше Яна становилась, тем чаще посещал ее Нечеловек, и тем ближе он подбирался к ней. Сначала просто сидел на краешке ее кровати, смотрел ей в лицо, как будто бы приучал к своему присутствию. Потом, было ей тогда уже четырнадцать, протянул руку и провел ладонью по ее щеке, и это было такое странное ощущение – ладонь ледяная, но от прикосновения по всему телу лавой разливается растопленное солнце.
Иногда он всем телом на нее наваливался – лежит и смотрит ей в глаза, и Яна пошевелиться не может – от тяжести этой, и от этой небесной сладости.
Ей было шестнадцать, когда она поняла, кем был ночной гость. Это же инкуб, демон, который приходит по ночам. Наткнулась где-то на обрывок статьи, начала копать информацию, и пазл сошелся. Родители ее понять ничего не могли, отец даже начал волноваться, что ее затянули в секту. Дочь-бунтарка, дочь, у которой ветер в голове, сидит и нахмуренно читает Книгу Еноха.
«И случилось – после того, как сыны человеческие умножились… у них родились красивые и прелестные дочери. И ангелы, сыны неба, увидели их, и возжелали их, и сказали друг другу: “Давайте выберем себе жен среди сынов человеческих и родим себе детей!..” И они взяли себе жен, и каждый выбрал для себя одну; и они начали входить к ним и смешиваться с ними, и научили их волшебству и заклятьям… Они зачали и родили великих исполинов, рост которых был в три тысячи локтей. Они поели все приобретение людей, так что люди уже не могли прокармливать их. И тогда они стали согрешать по отношению к птицам и зверям, и стали пожирать друг с другом их мясо и пить из него кровь. Тогда сетовала земля на нечестивых».
И Блаженного Августина читала Яна:
«Существует весьма распространенная молва, и многие утверждают, что испытали сами и слышали от тех, кто в действительности испытал и в правдивости которых нельзя сомневаться, что сильваны и фавны, в просторечии инкубы, часто являются сладострастникам и стремятся вступать и вступают с ними в связь. Также уверяют, будто некие демоны, которых галлы называют дузиями, весьма склонны к этой нечистоте и постоянно ей предаются».
И, разумеется, «Молот ведьм»:
«Эта скверна совершается, главным образом, демонами низшего порядка, которые пали до самого крайнего предела, и те, которые могут считаться последними среди них, посылают несколько выше стоящих на эту скверну, которой они, как известно, занимаются с величайшим увлечением… Инкуб может принимать и мужское, и женское обличье, иногда он появляется как мужчина в самом расцвете сил, иногда как сатир; перед женщиной, которая известна как ведьма, он обычно принимает облик похотливого козла».
Яна-Грета росла, Нечеловек посещал ее все чаще и чаще.
К брату Гензелю она немного привыкла, но спать так и не научилась. Сперва долго маялась, потом вскакивала на рассвете с сердцебиением, а после весь день ходила, медлительная и вареная.
Еще в детстве она поняла, что бессонным открыт не только тонкий незримый мир, но и человеческие секреты, которые от прочих прячет ночь. Она чувствовала себя абсолютно взрослой лет уже с десяти – сколько разговоров ею было подслушано, сколько странных ночных прохожих увидено.
Вот и ту женщину Яна приметила первой.
Была уже глубокая ночь, семья давно отошла ко сну, даже Гензель-Сашенька притих в своей комнате. И только Яна пила зеленый чай на подоконнике, в ее плеере грустно подвывали Portishead, а на коленях лежал старый глянцевый журнал, который она машинально листала, иногда с усмешкой задерживая взгляд на заголовках вроде: «Стоит ли заниматься сексом на первом свидании?». Яну всегда от этого гаденького сорта мещанской целомудренности воротило. Неужели все они не понимают, что секс в их системе координат оказывается чем-то вроде разменной монеты. Это та же самая продажа плотской любви – только не за деньги, а за сомнительный статус или, как они сами выражаются, «серьезное отношение».
Это была одна из похожих друг на друга скучных и бесконечно тянущихся ночей, но вдруг Яна посмотрела в окно и увидела ее.
Незнакомая женщина бежала по деревенской улице, и у нее было такое выражение лица, словно волки за ней гнались. За недели, проведенные в деревне, лица местных Яне успели примелькаться, и она точно могла сказать, что эту женщину никогда не видела. Но странным было не только само появление чужой в этой глуши в такой темный час, но и то, как она выглядела.
На ней был простой сарафан из грубого льна с вышивкой по груди, густые волосы раскиданы по плечам, а ноги – босые и облепленные грязью, как у человека, который проделал долгий путь. Сначала Яне показалось, что на запястьях женщины – уродливые самодельные браслеты, но когда та подбежала ближе, выяснилось, что это веревки. Обрывки грубой бельевой веревки. Стало быть, где-то эту женщину на привязи держали, но ей удалось сбежать, в никуда, в ночь.
Как большинство страдающих бессонницей, Яна не могла похвастаться быстротой реакции, поэтому за незнакомкой она наблюдала пусть с интересом, но не вмешиваясь. Однако когда та внезапно остановилась, повертела головой, решая, что делать дальше, куда направить путь, и метнулась прямо к их дому, Яна спрыгнула с подоконника и стукнула в стену, за которой спали родители и маленький Мишенька.
– Что там у тебя еще? – сонно отозвалась мать.
– Мам, пап, вставайте! – тихо позвала Яна. – Гости у нас незваные.
Но голос она понижала зря, потому что в этот самый момент в дверь забарабанили так, что все стены старого дома отозвались на такое грубое вмешательство. Зазвенели в сенях кастрюли и пустые банки, и даже старенькая пластмассовая люстра, похожая на висельника, закачалась на замызганном шнуре, как при землетрясении. Заплакал маленький Мишенька, и разбуженный Саша тоже отозвался из своей комнаты глухим мычанием.
– Что за черт? – разозлился отец. – Кто там хулиганит?
– Впустите! Впустите меня скорее! – орал с улицы женский голос. – За мной гонятся. Пожалуйста!
Родители велели Яне на всякий случай скрыться в комнате, но та, разумеется, не послушалась, потащилась за ними, когда, испуганные и всклокоченные со сна, те направились к входной двери.
Стоило приоткрыть щелочку, как незнакомка рухнула им под ноги. И бесполезно было спрашивать ее – мол, кто вы, что случилось, потому что девушка повторяла только одно: «Пожалуйста… Мне нужно войти… Пожалуйста…»
Ростом она была невелика, и сложения миниатюрного, поэтому ее, конечно, впустили – не ждать же от такого заморыша беды. Только когда девушку втащили в кухню, Яна смогла разглядеть ее. Была она совсем молодой, лет, может быть, двадцати. Простое круглое лицо, на щеках – серые дорожки, протоптанные слезами. Худенькая – но это была не анемичная балетная хрупкость, модная в больших городах, скорее изобилие физического труда при нехватке калорий. Запястья ее и правда были прихвачены веревками, и видимо, на привязи она была не первый день, потому что под замызганной бичевой виднелись проявившиеся черные синяки.
– Кто вы такая? – резко спросила Рада.
– Простите меня… – пробормотала девушка. – Можно мне воды?
Ее привели в кухню, усадили, Рада поставила чайник. Яна принесла ночной гостье мокрое полотенце и та отерла опухшее от рыданий лицо. Руки у нее были грязные, ногти изгрызены до мяса.
– Меня Ларисой звать, – наконец сказала она. – Простите, можно мне переночевать тут? Я так боюсь, что они найдут меня…
– Кто это – они? – нахмурился Максим. – Я сейчас в полицию позвоню.
– Смысла нет, – девушка шумно высморкалась в подол собственного платья. – Не приедет полиция сюда. У них все схвачено. Я из лесной деревни сбежала…
– Максим, можно тебя на минуточку, – позвала Рада из кухни, таким голосом, что сразу становилась понятно – это тихая истерика.
Девушка с обрывками веревок на запястьях смотрела в одну точку, раскачивалась, а потом обняла собственные плечи, как будто бы искала поддержки и в то же время понимала, что она сама – единственный возможный источник тепла.
Максим нехотя последовал за женой. У Рады глаза были огромные, потемнели, выражение лица страшное.
– Максим, мне это не нравится. Давай вызовем полицию. Ты слишком многое на себя берешь. У нас дети.
– Какая полиция? – поморщился муж. – Ты не слышала, что девушка сказала? Давай сначала разберемся.
– Все равно, – упрямо повторила Рада, – сходи к соседке. К Марфе. Она здесь сто лет живет, все знать должна… Почему она не предупредила об этих людях, если они так опасны и совсем близко?
– Рада, давай просто подождем утра.
– И я должна спать в одном доме с этой ненормальной? – взвилась жена. – И дети? Ты соображаешь, что говоришь вообще?! Ты не знаешь, кто эта девица и что она сделала.
Максим взял жену за плечи и встряхнул, пытаясь в чувство привести.
– Я видел, что она в синяках вся! И следы от веревки видел – синие же! Ее явно несколько дней держали на привязи. Если ты так боишься, давай в сенях ее спать оставим, а сами в доме запремся. Она и не заметит даже – человека шатает, а ты его на улицу гнать собралась!
Рада помолчала. Мир, который она построила, вдруг явил свою истинную природу – это был карточный домик, притворяющийся надежной твердыней. Муж, который шипит ей в лицо. Готовый защищать незнакомку и обвинить в черствости родную жену, которая, на минуточку, предложила всего лишь вызвать полицию, а не выгонять в ночь человека, попавшего в беду.
– Ладно, – наконец сказала она, – пусть переночует. Про сени – это хорошая идея. Но обещай мне, что утром ты с ней разберешься. Сходишь к Марфе, вызовешь полицию, что угодно. Но она здесь не останется. Ты не втянешь меня и детей в историю. Пообещай.
– Конечно, – на ходу бросил муж.
Он спешил обратно в комнату. Он был рыцарем-спасителем, которого ждала принцесса. Раде в этой формуле, видимо, досталась роль дракона.
Девушка сидела на стуле, как птица на насесте, прижав колени к груди и втянув голову в плечи. У нее было выражение лица человека, прошедшего все стадии смирения со смертью, больше ничего не отрицающего и миру этому не принадлежащего. Когда супруги вошли, она подняла голову и впервые за вечер посмотрела на них осмысленно и спокойно.
– Мне надо уйти, да?
«Овца!» – подумала Рада. Она никогда не любила таких вот, ангелоликих, которые пользовались игрой в смирение как оружием. В мире, где агрессия с детства прививается как добродетель, беззащитность становится козырным тузом.
– Можешь остаться до утра, – сказала Рада. – Я постелю тебе в сенях. Но учти, что утром ты либо уйдешь, либо я лично вызову полицию. И еще ты нам все расскажешь. Сейчас я тебя мучить не буду, но утром ты расскажешь все подробности.
– Хорошо, хорошо, конечно, – пролепетала она. – Спасибо вам большое.
– Может быть, вы голодны? – спросил Максим. – Давайте чаю, а?
Девушка слабо улыбнулась и неуверенно кивнула, бросив затравленный взгляд на хмурую Раду. Та пожала плечами и отвернулась к окну – муж и эта девица словно объединились против нее. Принцесса, спаситель и дракон.
– У нас ничего особо нет, – выдавила она. – Вчерашняя гречка с грибами есть, будешь?
– Да мне хоть просто хлеба, – еле слышно сказала девушка. – Меня, кстати, Лариса зовут.
«Овца, овца!»
* * *
Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Раз, два, три, четыре, пять…
Максиму было пять лет, когда его отец повесился. Он во дворе играл с ребятами: вышибалы, войнушка, из самодельной рогатки по воробьям. Пить захотел – помчался вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньку. Май, солнце, небо высокое, жуки звенят, первые одуванчики, кровь бьет в виски. Потом это будет вспоминаться как счастье, а тогда было просто обычным будничным днем.
Толкнул дверь, с порога крикнул: «Мааам?.. Пааап?» – никто не ответил ему. Скинул сандалии, босиком прошлепал в кухню, напился воды прямо из чайника, припав губами к жестяному носику, а потом и в комнату решил заглянуть. Может быть, и не заглядывал бы – во дворе мальчишки ждали – только вот Максима удивило, что дверь плотно закрыта. Комната у них была одна, и она никогда не закрывалась. А потом он и записку приметил, прямоугольный белый листок, приклеенный кусочком пластилина прямо на дверь. И буквы крупные, печатные, старательно выведенные – специально, чтобы Максим сумел прочесть. Он и прочитал, водя по строчкам указательным пальцем.
«Мак-сим… не… вхо-ди… Зо-ви… ма-му… Не… вхо-ди…»
Удивился, перечитал еще раз, потом тихонько в дверь поскребся: «Пап? Ты там?»
Раз, два, три, четыре, пять. Я иду тебя искать. Кто не спрятался, я не виноват.
Брошенное мальчишке «нельзя» – это почти что индульгенция. Осторожно повернул ручку, толкнул дверь, почему-то на цыпочках вдвинулся в комнату, не сразу увидел отца, а когда увидел все-таки, не сразу понял, что случилось. Ноги отца висели над полом, как будто бы он научился летать. Годом или двумя раньше Максим однажды спросил отца: «Почему люди не умеют летать?», а тот сначала принялся объяснять что-то скучное, а потом махнул рукой и сказал: «Да глупости, конечно. Еще как умеют. Но не все. Только те, которые хорошо фантазируют. А еще дети – во сне». Ноги отца – босые, серые какие-то.
Максим медленно поднял взгляд вверх. Вместо люстры – голый крюк из потолка торчит, а к нему веревка привязана, а к веревке – папа. Как елочная игрушка. Шея длинная и странно изогнута, голова упала на одно плечо, лицо – белое-белое, а рот открыт и между сухих губ язык высунулся.
Максим подбежал к отцу, потрепал за колено: «Пап? Ну, ты что?»
Потом суета была, мать вернулась, с пакетом, из которого торчал батон. Увидела и на пол упала, все продукты рассыпались. Потом схватила в охапку Максима, как маленького, и на руках в подъезд вынесла, впихнула в квартиру к соседке. Весь остаток дня он там и сидел, припав ухом к входной двери. Вой слышал – вроде бы, мать выла, а вроде, и не она, голос басовитый, как колокол. Люди какие-то по лестнице бегали. Соседка его пыталась от двери оттащить, конфеты даже предлагала, дефицитные, но он возвращался.
А к ночи мама за ним пришла – и она стала как будто не собою, старой какой-то. Увела домой, уложила в постель и сухо объяснила, что папы нет больше, придется к этому привыкнуть, но через два дня можно будет с ним попрощаться, посмотреть на него в последний раз. Максим не плакал – ему не верилось, ну как же это так, не бывает такого – утром был папа, а вечером – нет.
Следующим днем он с некоторым вызовом сказал мальчишкам во дворе: «А у меня больше папы нет!», втайне надеясь, что они рассмеются, скажут, что он дурачок или что-то в этом роде, и объяснят наконец, что случилось. О том, что такое смерть, Максим в свои пять лет, конечно, знал – но это было для него что-то абстрактное. Но мальчишки прятали глаза, а один, Колька, самый старший, как-то по-мужски потрепал его по плечу, и в тот момент Максим впервые за эти дни заплакал.
Потом похороны были. Отец такой нарядный в гробу лежал, в черном костюме, гладко выбритый, как на свадебных фотографиях. Бабушка приезжала, плакала, водку пила, черемшой закусывала, все Максима обнимать пыталась, но тот сторонился. Это была чужая бабушка, он ее до того всего два раза в жизни видел. У нее зубы были металлические, все до единого – это пугало и завораживало. Бабушка у них ночевать осталась, ей постелили на полу. И Максим всю ночь вертелся, нервничал, что она к его кровати придет, полязгивая металлическими зубами.
На поминках был куриный суп, и Максим смотрел, как бабушкины желтые сухие пальцы выловили из тарелки жилистое крылышко и поднесли его к обрамленному жесткими, как у жука, усиками рту. Металлические зубы принялись ловко пережевывать и жиденькое мясо, и хрящики, и даже мелкие косточки. Такая бабушка может съесть и целого мальчика, подумал Максим.
– Твой папа теперь ангелом стал, – глядя в окно, сказала бабушка.
Максим вспомнил серые папины ступни, болтающиеся над полом.
– Бедный малыш… Безотцовщина теперь… Да ты поплачь, поплачь, папка с неба все слышит, – бабушкины пальцы, пахнущие лекарствами и черемшой, заворошились у него в волосах. – Папка ангелом стал… Будет прилетать к тебе иногда. Мертвые к своим, бывает, приходят. Сядет на краешек кровати, а ты ему все и расскажешь – как учеба, что во дворе, еще что-нибудь… Ты жди. Бедный ты, бедный.
А ночью Максим проснулся от стука в стекло. Удивленно поднял голову – жили они в многоквартирном доме, на двенадцатом этаже, ну кто может постучать. Вгляделся – а в пыльное стекло ангел бьется. Лицо у него мучнистое, раздутое, шея голову не держит, и та безвольно свисает на плечо, и на ней – обрывок грубой веревки. Черный рот приоткрыт, да на бок скошен. А глаза и не видят словно – пленкой белесой подернуты. И крылья за спиной – два огромных серых голубиных крыла с проплешинами, половины перьев нет, просвечивает розовая птичья кожа с пупырышками.
Движения у ангела ломаные, неловкие, бьется в стекло, хотя форточка приоткрыта – мог бы руку просунуть да отпереть щеколду. Максим сидел на кровати, прижав колени к груди, и тихонько просил: «Пап… Не надо, пап. Не иди сюда. Давай я лучше тебе издалека все расскажу!.. Пожалуйста…» Но ангел не слушал. Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать, кто не спрятался – я не виноват.
Мать услышала всхлипы, подошла, лоб его потрогала и ахнула – температура под сорок. И началась беготня, «неотложку» вызвали, укол ему сделали, раздели, водкой спину натерли. А утром он маме про ангела рассказал, но та не поверила, сказала – у тебя просто жар был. Не прилетают они никогда, не возвращаются. И тихонько добавила: «К сожалению».
* * *
Наконец все разошлись по комнатам. Уже светало. Девушка Лариса была накормлена, и, несмотря на овечий кроткий взгляд, аппетит у нее оказался волчьим. Каша, которую ей с горкой положили, исчезла в считаные мгновенья, и была с гедонистическим прихлебыванием запита горячим сладким чаем. Лариса разрумянилась, и взгляд ее стал мутным. Рада не собиралась особо заботиться об ее уюте – бросила на пол старый матрас, нашла какое-то одеяло, вместо подушки вчетверо свернула плед. Ларисе, казалось, было все равно – свернувшись на скромной лежанке, она провалилась в сон еще до того, как Рада покинула сени.
Дверь Рада заперла на два замка, и это была не поза, не ревность дракона к принцессе – она бы и сама не смогла объяснить, почему, но от девушки чувствовалась угроза, опасность. Как будто бы она вела за собою беду.
Рада знала, что муж, спокойно лежавший рядом, не спит. Она слишком хорошо знала его, чтобы чувствовать тонкие состояния. Максим отвернулся к стене, почти с головой накрывшись одеялом, дыхание его было ровным, но Рада чувствовала и напряжение, и злость, и некоторую даже беспомощную растерянность. Его тоже можно понять, наверное. Всех на свете можно понять. Чем старше становишься, тем отчетливее понимаешь, что люди неправые – это миф, придуманный примитивным сознанием. Пока человек живет в системе координат, где он – центр вселенной, других людей он оценивает только с собою сравнивая. Мол, любишь меня – значит, хороший человек. Не любишь – ну козел, одним словом. И кажется – отличная система ведь, живи и радуйся.
Но как только внутренний Джордано Бруно восклицает, что не солнце вертится вокруг земли, а наоборот, что ты тут – не главный, не по тебе идет мера правды, красоты, до тебя вдруг доходит, что по-настоящему упрощает жизнь, не грубая схема, а понимание взаимосвязей. Умение сделать шаг назад и взглянуть из иной перспективы. Сначала сложно смириться с этим открытием – даже, бывает, зовешь на помощь внутренних инквизиторов, которые с годами наработанным профессионализмом утаскивают внутреннего бунтаря на костер. И ты какое-то время живешь в сладком неведении дикаря. Но ты уже отравлен пониманием, оно уже дало ростки.
– Спишь? – не выдержав, шепотом спросила она. Шепотом – чтобы не разбудить сопевшего в своей колыбельке Мишеньку.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































