Текст книги "Мастер серийного самосочинения Андрей Белый"
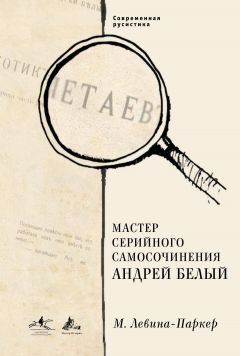
Автор книги: Маша Левина-Паркер
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Белый – не единственный писатель, использующий обратное повторение. Но другие авторы – Набоков, Пруст, Кьеркегор – применяют этот прием иначе.
Кьеркегор считал, что «повторение и вспоминание – одно и то же движение, только в противоположных направлениях: вспоминание обращает человека вспять, вынуждает его повторять, то, что было <…> – подлинное же повторение заставляет человека, вспоминая, предвосхищать то, что будет»200200
Кьеркегор С. Повторение. С. 7–8.
[Закрыть]. Думается, что, говоря о подлинном повторении – воспоминании того, что будет – Кьеркегор формулирует суть того движения, которое обозначается нами здесь как «репетиция» и рассматривается как литературный прием. Кьеркегор представляет в «Повторении» и образец такого движения – в поведении меланхолического юноши. Юноша влюблен и пользуется взаимностью любимой девушки, но уже в своем безмятежном настоящем пускается в «воспоминания о будущем» и совершает в своем воображении скачок к развязке:
Ясно было, что мой юный друг влюбился искренно и глубоко, и все-таки он готов был сразу начать переживать свою любовь в воспоминании. В сущности, значит, он уже совсем покончил с реальными отношениями к молодой девушке. Он в самом же начале делает такой огромный скачок, что обгоняет жизнь. Умри девушка завтра, это уже не внесет в его жизнь никакой существенной перемены – он снова бросится в кресло, глаза его наполнятся слезами, и он вновь будет повторять слова поэта. Какая странная диалектика! Он тоскует по возлюбленной, он должен силой заставить себя оторваться от нее, чтобы не торчать подле целый день, и все же он с первой же минуты превратился по отношению к молодой девушке в старика, живущего воспоминанием201201
Там же. С. 14.
[Закрыть].
Ниже рассказчик высказывает свое суждение: «Его заблуждение было роковым, и заключалось оно в том, что он очутился у конца, когда ему следовало бы находиться еще у начала <…>»202202
Там же. С. 15.
[Закрыть].
Подобно тому, как сам юноша является ходячей схемой, философской конструкцией повествователя, его состояние представляет собой сжатую модель репетиции. Сознание юноши гипотетически пробегает все стадии будущих отношений с возлюбленной и, не задерживаясь на них, переносится сразу в конец. Мысленно проследив этапы разворачивания знаков с накапливаемым в них значением и таким образом наскоро «просмотрев» репетиции постижения сущности, молодой человек непосредственно переходит к тому, что ему представляется итоговой сущностью.
О юноше говорится, что «весь его роман прошел под знаком идеализации <…> у него не было фактов. Разве что факты сознания»203203
Там же. С. 120.
[Закрыть]. Благодаря чему же в таком случае его «воспоминание о будущем» оказывается возможным? Благодаря «фактам сознания» – существующим архетипам и доступным образованному человеку их литературным воплощениям.
Своеобразная «поэма конца», нарисованная воображением юноши для своего будущего, создается под аккомпанемент декламируемого им стихотворения:
Архетипическая природа человеческого постижения сущностей подчеркивается литературным происхождением той развязки, которую молодой человек представляет себе в своих воспоминаниях того, что будет. То, что юный персонаж Кьеркегора, «вспоминая будущее», по складу своей меланхолической натуры выбирает печальное окончание для своей любви («<…>он мог придать своей любви какое угодно выражение, – но оно всегда диктовалось настроением»205205
Кьеркегор С. Повторение. С. 120.
[Закрыть]), для схематической модели репетиции, которую находим у Кьеркегора, несущественно. Существенно то, что выбирает он свое будущее из конечного числа литературных развязок.
Кьеркегор показывает суть обратного повторения с максимальной прямотой и наглядностью (хотя, разумеется, не называет его по имени).
Сравнение с репетицией у Пруста особенно наглядно подчеркивает специфику беловской модели. Пруст был современником Белого, более того, первый том его основного произведения впервые увидел свет в том же 1913 году, в котором впервые было издано и основное произведение Белого – это исключает возможность заимствования приемов одного автора другим. Поэтому сравнение беловской и прустовской моделей обратного повторения может быть только типологическим. Поразителен, кстати, сам по себе факт появления в одно время двух независимых друг от друга воплощений принципиально той же повествовательной модели. Пруст тоже был модернистом, тоже был незаурядным новатором и тоже пользовался репетиционным вариантом повторения. Только в его модели отдается несколько большая дань премодернистским литературным традициям, в частности, финальное представление, которое репетируется по ходу развития сюжета, у Пруста выглядит прямой противоположностью квазиразвязки у Белого и таким образом контрастно оттеняет самобытность беловской модели.
«В поисках утраченного времени» Пруста – гигантская модель и идеальное по своей законченности воплощение принципа репетиции, разрешающейся представлением. Память и повествование в романе Пруста – предмет исследования Делеза в его книге «Марсель Пруст и знаки». По поводу памяти, процессы которой, как может казаться, определяют законы повествования у Пруста, Делез говорит: «Произведение Пруста обращено не в прошлое, к открытиям памяти, но – в будущее, к достижениям обучения»206206
Делез Ж. Марсель Пруст и знаки / Пер. с фр. Е. Г. Соколова. СПб., 1999. С. 51.
[Закрыть].
«Обучение» в терминологии Делеза – постижение метафизических «сущностей» («истин» или «идей») по мере последовательного прохождения и повторения в книге Пруста различных знаков (предметов, местностей, мыслей, людей, ситуаций). Процитировав размышления Марселя («Прежде всего мне было необходимо найти смысл мельчайших знаков, что меня окружали – Германты, Альбертина, Жильберта, Сен-Лу, Бальбек и пр.»), Делез пишет: «Искать истину – значит расшифровывать, истолковывать, объяснять. Но подобное “объяснение” совпадает с разворачиванием знака в нем самом»207207
Там же. С. 42.
[Закрыть]. Такое «разворачивание знака в нем самом», поэтапно восходящее к выражению сущности, и есть репетиция. Витки этого разворачивания, спиральное развитие мотива – не воспроизведение начального «оригинала», а именно репетиция, подготовка предстоящего.
Делез анализирует повторения Пруста как способ постижения идеальных сущностей. Он пишет: «Знаменательно, что герой, не зная некоторых вещей в начале, постепенно им учится, и в конце концов получает высшее откровение»208208
Там же. С. 51.
[Закрыть]. Если у Кьеркегора мы находим полную, но сжатую модель обучения, как бы аббревиатуру репетиций представления сущности, то у Пруста репетиции искомых ответов, развертывающиеся как мотивные цепочки, составляют основное содержание романа. Интересно, что и Кьеркегор, и Делез, анализируя природу повторения, обращаются к любви как наглядному пособию. Любовные увлечения героев Пруста, по мнению Делеза, представляют собой одну из основных серий повторения: по мере развертывания этой серии в развитии увлечений и в их смене происходит постепенное воплощение сущностей. Делез следующим образом интерпретирует любовные интриги в книге Пруста: «<…> Любовь длится только как подготовка своего исчезновения, как подражание разрыву». И продолжает:
Справедливо утверждение, что мы повторяем наши прошедшие увлеченья, но также справедливо и то, что переживаемая сегодня любовь во всей пылкости «повторяет» и моменты разрыва или предвосхищает свой собственный конец. В этом смысл того, что принято называть сценой ревности. Поворачивая вспять будущее, она, по сути – репетиция исхода. Это можно отыскать в любви Свана к Одетте, в любви к Жильберте, к Альбертине209209
Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. С. 44.
[Закрыть].
О романе Пруста можно сказать, что орнамент одной любви накладывается на орнамент предыдущей любви, но накладывается не в точности, а с некоторыми изменениями: каждая последующая любовь приближает осознание героем сущности любви, как каждая последующая репетиция приближается к идеальной сущности представления. Юному персонажу Кьеркегора не понадобилось пережить последовательность репетиций, ему было достаточно метафизического прыжка, чтобы оказаться с сущностью tête-à-tête. Герою Пруста понадобилась целая жизнь для постижения сущности: как будто схема, кратко представленная Кьеркегором, подробно развернута Прустом в его главном произведении.
Повторения-репетиции сближают модель Пруста с моделью Белого. Однако спектакли у них репетируются разные. У Пруста серии любовных увлечений готовят постижение героем сущности любви, и серии увлечений произведениями искусства готовят постижение сущности искусства. У Белого – серии страданий и «маленьких смертей» героя, репетирующих его распятие. Несмотря на эти содержательные различия, в обеих системах одинаково происхождение мотивных цепочек – от оригинала, помещенного в конце текстуальной системы, и одинаков механизм продвижения мотивов-репетиций – не от истока в начале, а к пункту назначения, к представлению, в конце. Перед нами два серийных самосочинения и два случая параллельного использования одной повествовательной стратегии – обратного повторения. И в случае Пруста, и в случае Белого инверсивное движение мотивов через текст и, в конечном счете, через серию текстов представляет собой вариативное повторение смысловых матриц, приближающее этими небольшими смысловыми сдвигами реализацию конечного смысла.
Рассуждения Делеза по поводу любовной серии у Пруста могут быть отнесены не только к другим прустовским сериям повторений, но до какой-то степени и к мотивной серии вообще – в том случае, когда таковая развивается по принципу репетиции. В наиболее общей форме идея Делеза выражается так:
<…> любовное повторение неотделимо от закона поступательного движения, благодаря которому мы приближаемся к осознанию идеи <…> Мы начинаем догадываться, что, по-видимому, наши страдания не зависят от предмета любви. Они <…> – ловушки или кокетство Идеи, веселье Сущности <…> Из частных огорчений мы извлекаем общую Идею, именно она – первична: она уже была, и как закон серии проявлялась также и в ее первых элементах <…> Таким образом, конец уже присутствует в начале <…>.
И далее:
Только разум способен раскрыть общность и отыскать в ней радость. Он открывает в конце то, что неизменно присутствовало с самого начала. Пусть любимые существа не являются самостоятельными причинами. Они, в любом случае, – составные, сменяющие друг друга, элементы единой серии, живые картины некоего внутреннего спектакля, в них отражается сущность210210
Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. С. 101–102.
[Закрыть].
Впрочем, еще в процессе обучения, на пути к истине утраченного времени, осмысливая свой опыт и опыт Свана, герой Пруста в какие-то моменты озарений приближается к осознанию сущности. Такие моменты, назовем их, по аналогии с беловскими генеральными репетициями распятия, генеральными репетициями откровения, обычно связаны у Пруста с тем или иным произведением искусства. Как музыкальная фраза Вентейля всякий раз позволяет Свану ощутить присутствие невидимых реальностей, так жесты актрисы Берма́ позволяют Марселю осознать существование умопостигаемых сущностей.
Почему именно бессознательному в искусстве уделяется столько места и почему оно нагружено таким значением? Пользуясь категориями Пруста и Делеза, приложимыми и к поэтике Белого, можно было бы сказать: потому что умопостигаемые сущности в наибольшей мере доступны нам на уровне бессознательного. Или, в неметафизических терминах, потому что наиболее древние и универсальные формы сознания лучше передаются через образное посредство архетипов: архетипическое в искусстве обращается к архетипическому в человеке, а значит, находит кратчайший путь к его сознанию.
Речь идет о механизме мотивного повторения внутри текста и от текста к тексту как непрямом способе передачи информации. Большее или меньшее разнообразие интерпретаций и, соответственно, большая или меньшая свобода читателя, зависят от способа кодирования автором текста и от дешифровальных навыков читателя. Делез формулирует вопрос: «Как именно сущность воплощается в произведении искусства?» И отвечает:
Истинная тема произведения – не используемый сюжет, сюжет осознаваемый и преднамеренный, который смешивается с тем, что описывают слова, но темы неосознанные, непроизвольные – архетипы, где слово, так же как цвет и звук, вбирает смысл и жизнь. Искусство есть настоящая трансмутация материи. Вещество здесь одушевлено, а физическая среда дематериализована для того, чтобы преломить сущность, то есть свойство первичного мира. Такое обращение материи происходит лишь посредством «стиля»211211
Там же. С. 73–74. Речь идет о «стиле» как способе сцепления материала – наилучшим образом передающем сигналы от источника к адресату. Производство значения посредством знаков на протяжении повествования – основной предмет исследования Делеза.
[Закрыть].
Герой Пруста как к последней истине стремится к истине любви и истине искусства. Переходя от одной любви к другой, от одного наблюдения к другому, от одного произведения к другому, Марсель репетирует свои финальные озарения. Конец серии совпадает с осознанием им Истины и сведéнием всех цепочек репетиций в единую точку финала. «В поисках утраченного времени» – пример идеально завершенной репетиционной мотивной системы, приходящей в конце к подготавливаемой на протяжении всей серии развязке-представлению.
Обещанное – исполнено.
Иначе в каждом из текстов серии и в целостности серии обходятся с воплощением трансцендентной идеи и с приуготовляемой цепочками репетиций развязкой Белый и Набоков, в этом отношении похожие друг на друга. У обоих серия репетиций развивает логику повторения как трансцендентной идеи, стремящейся к воплощению, но каждый раз назначенный спектакль срывается или переносится. В этом отношении квазиразвязки у Белого и Набокова близки модели Кьеркегора. У последнего воспроизводятся сценарии совершенного совпадения последующего с предшествующим, но кончается книга дискредитацией этой последовательности повторений и самой идеи повторения: Константин Констанций, персонаж Кьеркегора, осознает, что подлинно повторяется в этом мире только одно – невозможность абсолютного повторения. Налицо квазиразвязка.
У Набокова возвращение, заявленное как конечный референт и источник обратного лейтмотивного развития, в «Других берегах» саботируется неверием повествователя в «музыкальное разрешение жизни» и концовкой, удаляющей его от родины, а в «Подвиге» – уходом Мартына в неизвестность, внезапным выведением финального события из кругозора доселе всеведущего повествователя и, следовательно, невозможностью сравнить представление с его репетициями.
В других случаях такое сравнение возможно, но обещанное не выполняется. «Король, дама, валет» рассыпается в развязку, резко расходящуюся с читательскими ожиданиями, подготовленными всем ходом событий. Набоков терпеливо вычерчивает довольно традиционный и чуть ли не банальный (в пересказе) треугольник: состоятельный муж зрелого возраста – неверная молодая жена – совсем молодой любовник. От мужа надо избавиться, денежки прибрать к рукам. Складывается план, тщательно готовится несчастный случай, все уже в лодке, а лодка уже далеко от берега и от глаз ненужных свидетелей – решающее движение остановлено случайным упоминанием подготовленной выгодной сделки (т. е. приращения денег, которые унаследует будущая вдова). Несчастный случай ненадолго откладывается, а когда муж, совершив сделку, возвращается к озеру, чтобы, следует предположить, наконец уже поплыть по нему в последний раз, выясняется, что жена успела заболеть и умереть – представление сорвано. Точнее, вместо обещанного дают другое.
У Белого накопление смысла в серии повторений постепенно усиливает ожидание финала, а в итоге приводит лишь к неполноценной развязке, которая читательские ожидания обманывает. В «Котике Летаеве» и «Крещеном китайце» мотивная цепочка, лишь споткнувшись на ложной концовке распятия героя, по-прежнему продолжает развертываться и семиотически указывать на свой отдаленный финальный референт, репетировать бессрочно отложенный конец.
В «Петербурге» конец иной, но в рамках той же модели. Линию Николая Аполлоновича эпилог оставляет открытой в бесконечность. Такая открытость, учитывая новые – православные – интересы героя, не исключает вероятности его нового восхождения – теперь уже не к языческому растерзанию, но к истинному распятию. В то время как сюжетная линия сына остается, после обманной концовки, незавершенной и потенциально продуктивной – линия отца приближается к традиционной конечной романной структуре: она получает уже не мнимое, а подлинное завершение. Последняя фраза «Петербурга»: «Родители его умерли». Разумеется, это не отменяет того факта, что представление было сорвано.
В Московской трилогии заключительное воплощение распятия тоже не лишено своеобразия. После казни протагониста во второй книге жизнь его продолжается в «Масках». Цепочка мотивных репетиций восходит от распятия – к новому распятию: «Между миром и ним все – вторично обрушено <…>»212212
Белый А. Москва. С. 753.
[Закрыть]. Здесь образ усложняется, это уже двойное распятие – героя и автора. Сразу за сценой второго распятия Коробкина следует фраза, из которой неожиданно становится ясно, что автор говорит и о себе: «Так все, что любило, страдало и мыслило, что восемь месяцев автор словесным сплетеньем являл, вместе с автором, – взорвано: дым в небесах!»213213
Там же. С. 754.
[Закрыть]. Герой и автор сближены «словесным сплетеньем» тщательно подготовленного христоподобного конца обоих.
Впрочем, и здесь подлинное распятие вновь переносится:
Обратное повторение в серии – прямое повторение жизни
Применение модели репетиции является одной из основных повествовательных стратегий Белого. Повторяющееся применение той же модели Белым является важнейшим аспектом его серийного самосочинения. Репетиции распятия, повторяемость мотива отцеубийства, воспроизведение модели ложной развязки, в нескольких текстах и в рамках одного, выводят скрывающиеся в подсознании причины навязчивых идей и помогают созданию образа такого себя, который живет не столько в физическом мире, сколько в мире «мозговой игры».
Сам Белый в «Мастерстве Гоголя» (главка «Фигура повтора») пишет: «<…> повтор повтору рознь: повтор слова, группы слов <…> – в пределах предложения, в ряде их; повтор-рефрен (в пределах повести), повтор-стереотип (в пределах всего творчества Гоголя) <…>». О стереотипах, общих для всех произведений, он также говорит, что «на них печать миросозерцания»215215
Белый А. Мастерство Гоголя. С. 235–236, 243.
[Закрыть]. Модель обратного мотивного повторения как раз является такой константой («стереотипом») у самого Белого. Он неизменно применяет ее для создания серийного автотворчества, и она носит следы его миросозерцания и характера, такие как символизм, двойственность, изменчивость и неприязнь к завершенности.
Концепция инверсивного повторения указывает на способ построения произведения. И поскольку этот способ используется во всех автофикциональных романах Белого, его можно назвать нарративным инвариантом серии. Он отличается от жизненного, связанного с фактами биографии Белого инварианта. Впечатления его жизни многократно воспроизводятся в его произведениях в виде повторяющихся мотивов. Каково происхождение самих мотивов? Очевидно, что по большей части они задаются прошлым автора, реальным опытом переживаний, предопределивших формирование его Я. Если в романах Белого прием повторения – это репетиции будущих кульминационных моментов жизни героев, то в смысле самосочинения его собственной жизни, те же повторения – это вариации прошлого самого Бориса Бугаева. Все основные мотивы серии восходят или к детству, или к молодости автора. Белый вновь и вновь возвращается в свое прошлое, вновь и вновь переживает старые травмы, вновь и вновь перебирает варианты развития событий и их осмысления. Это не обратное, а прямое повторение его жизни.
Единственное, кажется, исключение – мотив распятия. Это не воспоминание и не повторение того, что было в жизни Белого – это его самоощущение, ощущение своей жизни как она есть и предвосхищение предначертанного. Это, вероятно, единственный пример того, как модель репетиции приложима не только к героям Белого, но и к нему самому.
Космологическое повторение
Космос детского сознания: «безвременное временеет»«Котик Летаев» представляет собой уникальный образец разрушения традиционной фабулы почти до самого основания. Хотя можно было бы сказать, что своеобразная фабула романа – становление детского сознания и приключения этого сознания216216
Репутация «Котика Летаева» как произведения бесфабульного вполне понятна, но нуждается, по моему мнению, в уточнении: фабулы там нет традиционной – а нетрадиционная фабула есть. Подробнее см. в гл. 2.
[Закрыть]. Бахтин изображение жизни мальчика считал бесфабульным и вневременным. Кроме того, он писал: «Сам Белый говорил, что в “Котике Летаеве” события развиваются спирально: происходит постепенное углубление одного символа, который в конце разрешается. Но логически расчленить это трудно»217217
Запись лекций М. М. Бахтина об Андрее Белом и Ф. Сологубе / Публ. С. Бочарова; комм. Л. Силард // Studia Slavica Hungarica. 1983. Vol. XXIX. C. 225.
[Закрыть].
Если несколько переосмыслить сказанное Бахтиным и все же постараться расчленить развитие текста логически, то можно, мне кажется, сказать, что в «Котике Летаеве» действительно происходит спиральное восхождение мотивов, но оно – вопреки утверждению Бахтина – в конце не во всем разрешается. Точнее, Бахтин как бы затрудняется ответить на вопрос: разрешается углубление символа или нет? Представляется, что на этот вопрос нет однозначного ответа, но в некотором смысле ответ есть: и да, и нет. Чтобы объяснить, почему так, мне понадобится, как выражался Белый, «много слов».
К развитию мотивной структуры имеет непосредственное отношение время, как оно представлено в романе. Одна из примет наличия шкалы времени в том, что сознание Котика показано в развитии, в движении, что само по себе предполагает течение времени. Развитие детского сознания подчиняется здесь специфической временно́й логике, совпадающей с логикой структурного развития текста. Развитие и первого, и второго организовано у Белого, как мне представляется, по особой модели – по модели, воспроизводящей в тексте так называемое космологическое время. Для выделения этой повествовательной стратегии я предлагаю понятие космологического повторения.
Текст создает ощущение причастности сознания Котика к космосу – а доисторическая причастность сознания человека к космосу есть центральная идея космологий. Повествователь говорит: «Если б я мог связать воедино в то время мои представленья о мире, то получилась бы космогония»218218
Белый А. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 84.
[Закрыть]. Можно предполагать, что Белый руководствовался основными космологическими понятиями и, в частности, широко пользовался приемом повторения космологического мотива сотворения.
Для анализа текста воспользуюсь мифопоэтической космологической моделью, которую создал В. Н. Топоров для характеристики доисторических описаний. Топоров полагает, что «огромный период, предшествующий началу истории, удобнее всего назвать космологическим», и характеризует мировоззрение этого периода следующим образом:
Мифопоэтическое мировоззрение космологического периода исходит из тождества (или, по крайней мере, связанности) макрокосма и микрокосма, природы и человека <…>. Разумеется, есть жизнь, исполненная «низких» забот, злоба дня, но она не входит в систему высших ценностей, она нерелевантна. Существенно, реально лишь то, что сакрализовано, а сакрализовано лишь то, что составляет часть космоса, выводимо из него, причастно к нему219219
Топоров В. Н. О космологических источниках раннеисторических описаний // Из работ московского семиотического круга. М., 1997. С. 135–136.
[Закрыть].
Подобная же иерархия существует в мире Котика. Детское сознание выстроено по принципу мифологического: оно воспринимает окружающее в непосредственной связи с космосом, как проявления бурной космической активности. Схожие наблюдения были и у Бахтина: «Андрей Белый прямо каждый момент жизни приводит к космическим нормам, каждый космический момент отражается в жизни Котика Летаева <…>. Это такие образы, такие символы, с помощью которых Белый пытается возвести все жизненные явления в жизнь космическую»220220
Запись лекций М. М. Бахтина об Андрее Белом и Ф. Сологубе. С. 226.
[Закрыть].
Злоба дня мира взрослых окружает Котика со всех сторон, но, входя в его «поле», события и явления «будней» оказываются частными воплощениями космических процессов, сакрализуются. Эта черта Котика есть неотъемлемое свойство детского сознания, контрастирующее с мировосприятием взрослых:
<…> мои сказочки <…> суть научные упражнения в описании и наблюдении впечатлений, которые отмирают у взрослых <…> живут за порогом обычного кругозора сознания; сознавание взрослого занято кругом иных впечатлений: в них втянуто; потрясение иногда, отрывая сознание от обычных предметов, погружает его в круг предметов былых впечатлений; и – возвращается детство.
Только этот возврат – по-иному221221
Белый А. Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чудака. С. 112.
[Закрыть].
Взрослый рассказчик заставляет свою память вернуться не столько к событиям детства, сколько к детскому мировосприятию и мифопоэтическому мышлению. В мире Котика космические образы полноправно уживаются с самыми банальными вещами, они взаимопревращаемы, одно без труда переходит в другое: космическое овеществляется стенами, людьми, ситуациями («<…> бывало, войду – погляжу: безвременное временеет вещами. Столовая – мерзленеет: стенным отложением <…>»222222
Там же. С. 127.
[Закрыть]), а вещественное, наоборот, развоплощается космическим вихрем, «лучиками» и «звездочками» («Вот попадаем мы незащищенно носиться <…>. И сорвется все: потолки, полы, стены; папа, мама – провалятся <…>»223223
Там же. С. 114.
[Закрыть]). Такие взаимопревращения иногда сводятся вместе, в одном миге и в одной точке:
Детство возвращается к повествователю, детство повторяется, но – «по-иному». В мире и слове повествователя, вплетающихся в мир и слово Котика, сакральное и профанное осознаны и строго разграничены. Это проявляется во взрослых пояснениях к «бредам» Котика, в следующем отрывке пояснение выделено скобками:
Взрослому сознанию, чтобы упорядочить свои прошлые архаические состояния, надо развести явь и полусон, реальность и сказку. Состояние мира, при котором «все во всем»: потустороннее сквозит в повседневном, и повседневное означает космическое – органично для мифологического и детского сознания:
Воспоминание детских лет – мои танцы: под лампою; все во всем: насыпают в чайницу чай <…> в кабинете стен нет: вместо стен – корешки, за которые папа ухватится: вытащить переплетенный и странно пахнущий томик: вместо томика в стене – щель; и уже оттуда нам есть: —
– проход в иной мир: в страну жизни ритмов, где я был до рождения, и оттуда теперь вынимаю я пальчиком…
Большое и малое в мифологическом и детском сознании уравновешены:
Метонимия здесь реализуется: чай с чайницей тождественны Китаю и представляют его собой, они, собственно, и есть Китай, потому что чай с чайницей и Китай – не часть и целое, а – равноправные видимые воплощения «чего бы ни было» иного мира. Будучи синекдохами запредельного, по отношению друг к другу они равны. Видимый мир вокруг Котика состоит из временных воплощений вечного, сообщающихся с космосом, то появляющихся, то исчезающих.
До определенного момента в тексте, до вмешательства в мифопоэтическое мышление христианских символов и понятий, «все» пребывает «во всем», и все, что показано через сознание Котика, сакрализовано. Профанное входит в текст через сознание повествователя. Освещаясь попеременно то сознанием Котика, то сознанием взрослого повествователя, вещи и люди в романе предстают в виде профанной реальности лишь при условии, что маркированы как таковые дискурсом повествователя, в те моменты, когда происходящее подается как воспоминание.









































