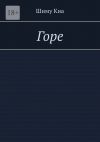Читать книгу "Поговорим об утрате. Тебе больно, и это нормально"

Автор книги: Меган Девайн
Жанр: Социальная психология, Книги по психологии
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Меня часто спрашивают, что делать, когда друг или член семьи «застрял» в своем горе. На это я всегда отвечаю: «Что, по-вашему, означало бы „не застрять“? Каковы ваши ожидания?» По мнению большинства людей, «не застрять» означает, что человек возвращается к работе, восстанавливает чувство юмора, посещает мероприятия, не плачет каждый день и способен говорить на другие темы – помимо своей утраты и горя. Он снова кажется счастливым.
Мы думаем, что «счастливый» равно «здоровый». Как будто счастье – та исходная позиция, та норма, к которой люди возвращаются из любых состояний и при которой мы живем так, как и должны жить.
Одним словом, «вернуться в норму» – это противоположность «застреванию в горе», и обретение нормального (счастливого) состояния должно произойти как можно быстрее.
Слишком долго – это сколько?Помню, я рассказывала кому-то, что у меня был трудный день, – примерно через пять недель после того, как мой партнер утонул. «А почему, что случилось?» – спросил мой собеседник. «Ну, Мэтт умер», – ответила я. «Ах, да! Это тебя всё еще беспокоит?»
Всё еще беспокоит. Да. Через пять дней, пять недель, пять лет. После смерти Мэтта мне сказали очень точную вещь: в отношении трагедии такого масштаба фраза «произошла только что» может значить и восемь дней, и восемь лет спустя. Когда я беседую с человеком, пережившим утрату в последние два года, то всегда говорю: «Это случилось только что. Буквально минуту назад. Конечно, вам еще больно». Я физически чувствую, как собеседнику становится легче.
Мы привыкли к мысли, что любое тяжелое состояние должно длиться максимум два месяца. Превышение этого срока расценивается как симуляция. Словно утрата любимого человека – лишь временное неудобство, мелкая неприятность, из-за нее не стоит долго расстраиваться.
В нашей медицинской модели мира горе, которое длится больше шести месяцев, считается «расстройством». В число симптомов так называемого «осложненного» горя – требующего психологического вмешательства – входят тоска по умершему, чувство несправедливости и стойкое ощущение необратимости жизни (и другие формы так называемого «ощущения безнадежности»). В реальной жизни считается, что подобные симптомы должны исчезнуть намного раньше, нежели через шесть месяцев. Многие психологи, священнослужители и психотерапевты уверены, что сильная реакция на утрату, длящаяся дольше двух недель, уже является неправильной. И эти верования врачей передаются населению, укрепляя представление о том, что вы должны вернуться в нормальное состояние как можно скорее.
Медикализация – и патологизация – здоровой, нормальной, естественной реакции на утрату смехотворна и вредна.
Стадии горя и провал терапииКак психотерапевту мне часто приходится извиняться за свою профессию. С пугающей частотой я слышу страшные истории от переживающих трагедию людей, которые пошли к психотерапевту за поддержкой, а ушли потрясенные и разгневанные. Горе регулярно подвергается обесцениванию, осуждению, медикаментозной терапии и преуменьшению со стороны представителей «помогающих» профессий.
Наименее осведомленными людьми, независимо от методов терапии и от намерения помочь, часто оказываются психологи. В итоге многие переживающие потерю близких вынуждены сами излагать своим психотерапевтам, каково это в действительности.
Как я упоминала выше, в рамках стандартной образовательной программы наших врачей обучают модели пяти стадий переживания горя, предложенной доктором Элизабет Кюблер-Росс в книге «О смерти и умирании», опубликованной в 1969 году[3]3
Элизабет Кюблер-Росс. О смерти и умирании. – М.; Киев: София, 2001.
[Закрыть]. Психотерапевты и врачи, рассуждая о «здоровом» переживании горя, исходят именно из этой схемы, даже если не перечисляют стадии. Неудивительно, что столько страдающих от утраты людей отказывается от профессиональной помощи: ведь эта модель им совершенно чужда.
Кюблер-Росс выделила пресловутые пять стадий на основании своих наблюдений и разговоров с неизлечимо больными людьми. Ее работа начиналась как попытка понять чувства умирающих, но стала восприниматься как стратегия переживания горя. Считается, что столкнувшийся с трагической ситуацией человек должен пройти ряд четко разграниченных состояний – отрицание, гнев, торг и депрессию – и постепенно перейти в стадию «принятия», в каковой момент его «работа над горем» должна завершиться.
Эта распространенная интерпретация модели доктора Кюблер-Росс предполагает, что есть правильный и неправильный способы горевать, что есть упорядоченная и предсказуемая схема, которой следует каждый. Вы должны полностью пройти через все пять стадий – или никогда не исцелитесь.
Целью тут является избавление от отрицательных эмоций. Вы обязаны выполнить эту работу быстро и надлежащим образом. Если вы не проходите все нужные этапы, ваше горе не может считаться правильным.
В поздние годы жизни доктор Кюблер-Росс писала, что сожалеет о том, как сформулировала свою концепцию стадий, потому что большинство людей восприняли ее как линейную и общую для всех. Выделенные ею стадии не должны были объяснять людям, что им надлежит чувствовать и в какой момент. Они не должны были указывать, «правильно» вы горюете или нет. Ее схема, применительно к умирающему или к тем, кого он покидает, имела целью нормализовать и признать ощущения, переживаемые некоторыми людьми в том водовороте безумия, что вызывают утрата, смерть и горе. Она была призвана поддержать людей, а не поместить их в клетку.
Смерть и ее последствия – невероятно болезненные, дезориентирующие события. Я понимаю, почему люди – и сам испытывающий горе человек, и его окружение, личное и профессиональное, – хотят иметь что-то вроде дорожной карты, ясно расчерченной серии шагов или стадий, чтобы они гарантировали успешное прекращение боли, которую приносит утрата.
Но боль нельзя упорядочить. Горе нельзя сделать аккуратным и предсказуемым. Оно так же индивидуально, как и любовь: всякая жизнь, всякий путь уникальны. Нет никакой модели, никакого поступательного движения. Невзирая на убеждения многих «экспертов», нет никаких стадий переживания горя. Несмотря на убеждения широкой публики, никаких стадий переживания горя нет.
Правильность такого переживания измеряется исключительно личными ощущениями. Это означает, что надо прислушиваться к своей реальности. Признавать страдание, любовь и утрату. Позволить существовать истине этих фактов, не сковывая их никакими искусственными ограничениями, стадиями или требованиями.
Может быть, вы испытываете те чувства, о которых слышите от других переживающих горе людей, и это вам помогает. Но как можно сравнивать разные способы обходиться с утратой, словно пытаясь понять, который из них сработает? Это не принесет ни малейшей пользы.
До тех пор пока наших медицинских работников не начнут учить относиться к горю с теми уважением и заботой, которых оно заслуживает, людям будет сложно найти психотерапевтов, способных принять их страдание, не патологизируя его.
Так что я еще раз от лица всех представителей моей профессии хочу извиниться за то, что у нас здесь всё так непросто. На самом деле существует много прекрасно обученных психотерапевтов и врачей. Я встретила немало таких специалистов, пока работала над своим горем начиная с самых ранних его стадий. Если вы обращались за профессиональной поддержкой и разочаровались, то, пожалуйста, продолжайте ее искать. Хорошие люди есть, и они вас ждут. (И посмотрите раздел «Интернет-ресурсы» в конце книги: возможно, он поможет вам начать поиск.)
Бабочки, радуга и культура преображения«Согласно некоторым клиническим диагностическим критериям, я страдаю от депрессии умеренного или тяжелого уровня, у меня повышенная тревожность. Мой психотерапевт предлагает попробовать антидепрессанты и когнитивно-поведенческую терапию онлайн. Я выхожу от него в еще худшем состоянии, чем пришла. Оказывается, я теперь не просто горюю – я еще и душевнобольная. В Национальной службе здравоохранения используется онлайн-тест, который это подтверждает. Очевидно, это правда: я неправильно горюю. Я пытаюсь не допускать такой мысли, но вновь возвращаюсь к ней: наверное, пора мне уже перестать тосковать. Я уже исчерпала положенный шестимесячный срок».
Беверли Уорд, участница курса «Писать свое горе», о смерти своего партнера
Невежество нашей культуры в отношении горя подпитывается из многих источников. Столь многое стоит за этими упрощающими, на первый взгляд безобидными банальностями! Мы уже говорили о восприятии горевания как проблемы, которую надо решать: именно на этой идее основано большинство высказываний окружающих о вашем состоянии. Но корни нашей незнакомой с горем культуры лежат глубже. Широкое распространение неверно понятой медицинской модели – это лишь начало.
Быстрый поиск в интернете по словам «горе» или «страдание» выдает сотни тысяч мемов с радугами, позитивными посланиями, фразами в духе «и это пройдет». Мы признаём, что случаются тяжелые события, но уверены, что при должном усердии и правильном отношении всё снова станет замечательно. В конце концов, наши книги и фильмы о последствиях трагедии обычно живописуют вдовца или скорбящую мать, которые к концу истории чувствуют себя даже лучше, чем раньше. Если иногда всё кажется немного грустным или горьким – это нормально, ведь главный герой теперь узнал, что по-настоящему важно в жизни. Безутешный родитель проделывает огромную работу над собой после смерти ребенка, и только подумайте – иначе бы этого не произошло. Жуткая, смертельно опасная катастрофа чуть не погубила всю семью, но зато сплотила ее. Всё всегда складывается к лучшему.
Часть странного отношения нашей культуры к горю исходит, казалось бы, из невинного источника – развлечений.
Все наши культурные истории – истории преображения. Истории искупления. Книги, художественные и документальные фильмы, детские сказки, даже те сказки, что мы рассказываем сами себе, – все они заканчиваются на позитивной ноте. Мы требуем счастливого финала. Если его не случилось – это вина главного героя. Никто не хочет читать книгу, где главный герой в конце продолжает страдать.
Мы верим в волшебные сказки и в истории про золушек, где благодаря упорству и усилиям всё в результате складывается хорошо. Мы встречаем невзгоды с гордо поднятой головой. Мы не позволяем бедам ослабить нас, по крайней мере надолго.
Наши герои, реальные и вымышленные, – это образцы мужества перед лицом боли. Наоборот, злодеи, неприятные персонажи обычно отказываются побороть свою боль.
Наша культура – культура преодоления. Случаются плохие события, но мы выходим из кризисной ситуации лучшими, чем были раньше. Именно такие истории мы рассказываем друг другу, и не только на экранах.
Исследователь в области социальных наук Брене Браун утверждает, что мы живем в «позолоченный век неудачи», когда истории выздоровления становятся фетишем благодаря их искупительному финалу, заслоняющему весь мрак и борьбу, которые ему предшествуют[4]4
Brené Brown, «Rising Strong: The Reckoning. The Rumble. The Revolution» (New York: Spiegel and Grau, 2015).
[Закрыть].
Наш культурный нарратив гласит, что несчастья помогают нам вырасти над собой и что какой ужасной ни казалась бы ситуация, конечный результат всегда стоит борьбы. Вы достигнете финала, надо лишь верить. Хэппи-энд будет блистательным.
Люди, испытывающие горе, сталкиваются с нетерпением окружающих именно потому, что не выполняют программу по преодолению невзгод, которую диктует наша культура. Если вы не «преображаетесь», если не находите красоты в своем страдании, вы неудачник. А если вы не успеете выполнить этот нарративный переход от трагедии к преображению, пока мы не отвлеклись на что-то новое, – значит, вы живете неправильно.
В реальной жизни и рассказываемых нами историях действует подписка о неразглашении правды. В нашей культуре люди не хотят слышать о чем-либо, что не может быть исправлено. В нашей культуре царит нежелание знать о той боли, что не будет вознаграждена. Но есть вещи, с которыми надо научиться жить, – и это вовсе не счастливый финал. Сколько бы радуг и бабочек вы ни воткнули в сюжет, немало историй ничем хорошим не заканчиваются.
Устойчивость нарративаМногие люди не воспринимают историй преображения, сами не зная почему. По крайней мере, мы хотя бы начинаем протестовать против них. Эти радостные, искусственно присоединенные к грустным историям финалы начинают (очень медленно) выходить из моды.
Честно говоря, я думаю, что именно в этом заключается причина успеха книг о Гарри Поттере: они мрачные. Дж. К. Роулинг погружалась в самую глубину, не пытаясь сделать ее приторной, милой или сладкой. В конце книги счастливого разрешения всех проблем не произошло, хотя финал и не лишен красоты. Утрата, боль и горе существуют в нашем мире, и они никуда не исчезли. Герои несли их в себе.
Мир Роулинг близок всем нам потому, что мы нуждаемся в историях, похожих на нашу.
Истории могущественны. На протяжении всего существования человечества мифология, космогония и сказки давали нам образы, на которые мы ориентируемся и которым подражаем. Они помогали нам найти место для наших переживаний в огромной картине мира. И до сих пор помогают. Нам всё еще нужны истории.
И нам необходим новый культурный нарратив – тот, что действительно совпадал бы с нашим опытом, с содержанием нашей души больше, чем с дешевым телефильмом. Если мы намерены изменить мир, если мы хотим создать новые, настоящие, реалистичные и полезные истории для жизни, мы должны отказаться от счастливого финала. Или, возможно, переформулировать само представление о нем.
Счастливый финал в трагическом событии, подобном тому, что вы переживаете, не может выглядеть как «в конце концов всё стало хорошо». Это попросту невозможно.
Новый героический эпосКогда умер Мэтт, я искала истории людей, которые пережили подобную утрату. Тех, чья боль затмевала всё остальное. Такие рассказы мне были необходимы как пример для подражания. Но я находила лишь описания того, как преодолеть страдание, как «починить» свою жизнь, как преобразить горе как можно скорее. Вновь и вновь я читала о том, что если я так сильно расстроена, то со мной что-то неладно.
И я встречала это не только в книгах. Окружающие – друзья, знакомые, психотерапевты – все хотели, чтобы я была в порядке. Им было необходимо, чтобы я была в порядке, ибо такое страдание, как мое, как ваше, невероятно тяжело наблюдать. Наши истории очень тяжело слушать.
Здесь не было их вины. Почти не было. Они просто не умели слушать. Но это неудивительно – ведь мы рассказываем массу историй о том, как пережить боль, и ни одной о том, как жить с такой болью. Ни одной о том, как быть свидетелем чужой боли. Мы не хотим говорить о печали, которую нельзя утолить. Это запрещено.
На самом деле нам нужны не новые инструменты избавления от горя, а умение жить с болью – со своей болью и болью ближнего.
Все мы несем в себе огромный груз горя; рассказы о нем никто не слушал, потому что нет такой истории, которая помогала бы нам выслушивать чужое горе. Нам нужны новые истории, выражающие правду о боли, о любви, о жизни. О мужестве перед лицом непоправимого. Мы должны помочь друг другу в этом, потому что боль есть. Беды случаются.
Если мы действительно хотим помочь страдающему человеку, то должны быть готовы отвергнуть общепринятую теорию о боли как об аномальном состоянии, требующем преображения или исчезновения. Мы должны перестать мыслить стадиями горя, они не должны быть всеобщим мерилом.
Рассказывая другие истории, мы создаем культуру, в которой люди научатся быть свидетелями чужой боли, просто лицезреть непоправимое. Рассказывая другие истории, мы научимся быть лучшими спутниками самим себе и друг другу.
Боль не всегда исчезает – даже в конце истории. Быть мужественным – быть героем – не означает преодолевать боль или превращать ее в дар. Быть мужественным – значит уметь просыпаться каждый день, когда хотелось бы больше не просыпаться. Быть мужественным – значит не изменять своему сердцу, когда оно разорвано на миллион кусков и никогда не станет вновь целым. Быть мужественным – значит стоять на краю бездны, которая открылась в жизни ближнего, и не отворачиваться от нее, не прикрываться для удобства нравоучениями в духе позитивного мышления. Быть мужественным – значит дать боли распуститься и занять то пространство, что ей требуется. Быть мужественным – значит рассказывать эту историю.
Это жутко. И это прекрасно.
Именно такие истории нам нужны.
На этом история не заканчивается…В данной главе мы охватили большую культурную территорию. Такой широкий взгляд на вещи поможет вам чувствовать себя менее безумным и более нормальным в своих переживаниях. С его помощью вам также удастся заручиться профессиональной и личной поддержкой в трудные для вас моменты: я рекомендую для начала найти людей, которые не придерживаются теории стадий или культурного нарратива о преобразовании.
Если вы хотите больше узнать о нашем коллективном стремлении закрывать глаза на боль и о глубоких и удивительных корнях культурной традиции осуждения горя, читайте главу 4. Если сейчас это слишком тяжело для вас (в раннем периоде горя очень сложно воспринимать информацию), переходите сразу к главе 5. Там мы поговорим о новом подходе к поддержке людей, переживающих трагедию, и о способах правильно переносить боль утраты.
Глава 4
Эмоциональная неграмотность и культура обвинения
В нашей культуре вокруг смерти и горя существует устойчивый ореол болезненности. Мы осуждаем, обвиняем, критикуем и преуменьшаем. Ищем ошибки в действиях людей, которые довели себя до горького финала. Она недостаточно занималась спортом, не пила витамины или пила их слишком много. Ему надо было идти по другой стороне дороги. Не стоило им ехать в эту страну в сезон дождей. Не надо было ей идти в тот клуб – будто она не знала, как это опасно в наше время. Если ему так плохо, он наверняка был не в себе перед тем, как это произошло. Я уверен, что у них были неразрешенные детские травмы – и вот результат!
У меня есть теория (пока что не доказанная научно): чем неожиданней и внезапней утрата, тем больше осуждающих и критических комментариев получает тот, кто скорбит. Видимо, мы просто не способны осознать, что кто-то может быть живым и здоровым за завтраком, а к обеду умереть. Мы не понимаем, как человек, который правильно питался, занимался спортом и вообще был достойным членом общества, может заболеть раком и угаснуть в тридцать четыре года. Мы не понимаем, как абсолютно здоровый ребенок может закашляться до смерти. Как человек, ездящий на работу на велосипеде по специально выделенной велодорожке, в светоотражающей одежде, с работающими фарами спереди и сзади, может быть сбит грузовиком и мгновенно погибнуть.
Значит, где-то все эти люди допустили большую ошибку. Ведь должна же быть причина.
Нам жутко думать о том, что кто-то всё делал правильно и всё равно умер. Жутко смотреть на человека, раздираемого горем, и знать, что однажды мы можем оказаться на его месте.
Подобные утраты напоминают нам о хрупкости жизни – как легко и быстро она способна измениться.
После смерти Мэтта в единственной новостной статье о том происшествии говорилось, что он сам виноват в своей смерти, поскольку не надел спасательный жилет. Чтобы просто искупаться. Немногие вежливые комментарии под статьей представляли Мэтта в виде ангела, который смотрит на всех нас с небес (даже на незнакомых); его миссия на Земле окончена. Гораздо больше комментаторов винили меня в том, что я «заставила» его плавать, или бичевали нас обоих за неосмотрительность и глупость.
В первые дни после смерти Мэтта я не раз слышала, как люди осуждают мою реакцию на его смерть. При том, что я не кричала на людях, никого не била, не устраивала «сцен». Я просто была очень и очень грустна – и не скрывала этого.
Осуждение жертвы и культура обвиненияМой опыт обвинения и осуждения – обвинения меня в моем горе и осуждения Мэтта за его смерть – не уникален. Большинство людей, переживающих гибель близких, сталкивались и с тем и с другим.
В тех случаях, когда утрата неожиданна, слишком трагична или случайна, обвинения становятся лишь интенсивнее: мы немедленно пытаемся указать другому на его ошибку. Другой поступил невероятно глупо; мы никогда бы так не сделали. Это успокаивает наш разум, и мы продолжаем верить, что благодаря собственному здравому смыслу мы и наши близкие находимся в безопасности. А если бы и произошло что-то плохое (без всякой нашей вины), у нас бы хватило сил, чтобы это выдержать. Горе не поглотило бы нас полностью, мы бы справились с ним гораздо лучше, чем другой. Всё было бы в порядке.
Исследование Брене Браун показывает, что обвинение – это способ заглушить чувство боли и беспокойства. Чужая трагедия напоминает, насколько хрупка наша жизнь. Кошмар, который переживает другой человек, говорит нам, что следующая очередь – наша. И это поистине неприятный довод. Нам приходится исполнять сложные мыслительные операции, чтобы отогнать тревожные мысли и почувствовать себя по-прежнему в безопасности.
Когда люди говорят вам: «Не могу даже представить себе такое», – на самом деле они могут это сделать. Их разум автоматически начинает представлять. С нейробиологической точки зрения мы – как млекопитающие – связаны друг с другом. Эмпатия – это реакция лимбической системы мозга на мучения или радость другого. Рядом со страдающим человеком мы и сами начинаем чувствовать боль. Наш мозг знает, что мы связаны.
Зрелище чужих страданий запускает в нас реакцию, которая нам очень неприятна. Перед лицом животного ощущения, что мы сами можем оказаться в такой же ситуации, мы отключаем свои центры эмпатии. Отрицаем нашу связь. Переключаемся на осуждение и обвинение.
Это инстинкт эмоциональной защиты.
Мы поступаем так и по отдельности, и сообща. Это отчетливо проявляется в нашей культурной эпидемии насилия в отношении женщин и меньшинств: жертва наверняка чем-то заслужила свою участь. Еще одним примером является наша реакция на масштабные природные и антропогенные катастрофы: после цунами в Японии в 2011 году кто-то назвал это событие «кармической расплатой» за японские атаки на Перл-Харбор[5]5
Больше информации об истоках обвинения жертвы см.: Adrienne LaFrance, «Pompeii and the Ancient Origins of Blaming the Victim», The Atlantic, October 2, 2015; theatlantic.com/technology/archive/2015/10/did-the-people-at-pompeii-get-what-they-deserved/408586/.
[Закрыть].
Наш ответ на страдание другого – бросаться в него обвинениями, разными по форме, но одинаковыми по сути: если с тобой произошло что-то ужасное, ты сам в этом виноват.
Винить человека в его страдании – горюет ли он или испытал на себе жестокое обращение – наш самый ходовой механизм. Мы демонизируем, а не сочувствуем. Мы бросаемся спорить, вместо того чтобы прочувствовать истинную боль ситуации.
В корне наших страхов, связанных с переживанием душевной боли, и наших способов обращаться с горем и утратой – страх общности с другим. Страх признать и почувствовать, что мы связаны друг с другом. Что случилось с одним человеком, может случиться и с любым другим. В страдающем человеке мы видим себя, и этот образ нас пугает.
Катастрофы и смерти вызывают такой уровень эмоциональной эмпатии, который требует признать, что с вами может произойти то же самое, независимо от уровня безопасности вашей жизни. Нам очень не нравится видеть, насколько малую часть своей жизни мы на самом деле контролируем. Мы готовы на всё, чтобы не впустить в себя это знание. Связь на уровне лимбической системы превращается в инстинкт выживания на уровне ствола мозга, в ответ типа «я или он», который помещает «его» на неправильную сторону, а «меня» – всегда на правильную. Мы дистанцируемся от страдания, чтобы не быть им уничтоженными.
Культура обвинения позволяет нам находиться в безопасности. Или, по крайней мере, поддерживает нашу убежденность в этом.