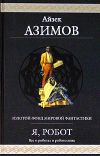Текст книги "Сто лет Ленни и Марго"

Автор книги: Мэриэнн Кронин
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Отец Артур и сэндвич
Отец Артур сидел за столом и в полной тишине ел сэндвич с яйцом и кресс-салатом. – Сначала корку едите? – спросила я.
– Господи!
Отец Артур дернулся от неожиданности вместе со стулом, и кусочек корки, съеденной вне очереди, застрял у него в горле.
– Ленни! – прохрипел он, багровея.
Закашлялся, согнулся, свесив голову между коленей.
– Побегу за сестрой! – крикнула я.
И уже была в дверях кабинета, когда отец Артур выдавил:
– Не надо, все хорошо.
По-прежнему тяжело дыша, он открутил крышку красного термоса и налил себе чаю.
– Простите меня.
Отец Артур махнул рукой – заходи, мол, обратно, – будто ничего и не случилось.
Он понемножку пил чай, вытирая выступившие на глазах слезы, а я тем временем осматривала кабинет. Два книжных шкафа из темного дерева с Библиями, сборниками псалмов, папками. Картина с измученным Иисусом на кресте в рамке за стеклом со следами клейкого ценника на уголке. Фото чернобелого пса и фото самого Артура в очень уж ярком джемпере и с другими людьми.
Окно в кабинете отца Артура было крошечное, на планках прикрытых жалюзи лежал слой пыли. Оттянув одну, я увидела парковку. Что-то тут не так. Не может же парковку быть видно и из кабинета в часовне, и из Розовой комнаты, и из палаты Марго. Когда я впервые здесь оказалась, парковка располагалась с одной стороны здания.
– Прочитал на днях, – сказал отец Артур, заметив, куда я смотрю, – что автомобилей в мире больше, чем людей.
– Вам бы надо жалюзи протереть.
Я вывела в пыли букву Л.
Отец Артур нерешительно надкусил сэндвич, и мне захотелось напугать его во второй раз, но я сдержалась.
Рядом с Л я вывела Е.
– Будь у Иисуса автомобиль, как думаете, он бы на нем разъезжал?
Отец Артур нахмурился и улыбнулся одновременно.
– Я к тому, что так ему проще было бы везде появляться.
– Я не…
– Странно, что Иисус не рассказал жителям Иерусалима об автомобилях – не предупредил их, что будет дальше. Мог бы дать им подсказку, которая привела бы к изобретению автомобиля. Ускорить это дело.
– А откуда ты знаешь, что не рассказал?
Я улыбнулась отцу Артуру, дав понять, что это хороший ответ.
Подождала, пока он снова заговорит, но теперь, когда его не собирались перебивать, отец Артур молчал. Я написала две Н на пыльном жалюзи.
– По правде говоря, Ленни, не могу представить Иисуса за рулем. Очень уж фантастично.
– Но когда он вернется, если вернется, разве не захочет ездить повсюду?
– Я…
– Хотя его ведь подвезут, если попросит. Иисусу никто не откажет.
Я вывела на жалюзи И и повернулась.
– А с другой стороны, вдруг люди не поймут, что это Иисус, потому что он переоденется в нищую старуху, и никто не поможет ему, ведь никто больше не подбирает автостопщиков, и он проторчит на Mi не один час? Весь замусолится и с этой своей бородой и всем остальным станет похожим на бродягу. Пойдет пешком, тут-то его и заберут в полицию – подумают, что наркоман. Захотят поместить в реабилитационный центр, а он им скажет: я, мол, Сын Божий. Но никто ему не поверит – с чего бы? И отправят его в какое-нибудь исправительное учреждение, а там куча народу, и каждый заявляет, что он Иисус, а где настоящий – никто не знает.
Отец Артур стер приставшую к уголку рта крошку.
– А зачем Иисус переоденется в нищую старуху?
– Чтобы посмотреть, на самом деле люди добры или так хорошо к нему относятся только потому, что он Иисус.
– И чтобы выяснить это, ему надо переодеться старухой?
– Да, и если они будут хорошими, он подарит им розу.
– Это не из “Красавицы и Чудовища” случайно?
– Вы же священник, вот вы и скажите.
Первая зима
Черч-стрит, Глазго, декабрь 1952 года
Марго Докерти 21 год
1 сентября 1951 года, в 12.30, мы с Джонатаном Эдвардом Докерти шли к алтарю на трясущихся ногах и с чужим обручальным кольцом. Мама моя плакала, но совсем не поэтому. А потом мы переехали в съемную квартирку рядом с Черч-стрит.
Я работала в универмаге, а Джонни, выучившись, устроился в стекольную мастерскую Даттона, где изготавливали оконные стекла и зеркала, и это было совершенно логично, ведь для меня Джонни стал и окном, и зеркалом. Порой казалось, что вижу его насквозь, а иной раз я смотрела на Джонни или высматривала Джонни, но видела лишь свое отражение.
Он оставался высоким и стройным, вдумчивым, но теперь я смотрела на него иначе, потому что знала, как у него отвисает челюсть во сне. Знала ту единственную песню, которую он без конца насвистывал. Джонни уже не казался таким интересным теперь, когда я понимала, что, сидя рядом со мной, он может молчать часами. Уже не казался таким очаровательным, ведь я слышала, как он сквернословит в гостиной, пытаясь вкрутить непослушную лампочку в патрон. Уже не казался таким умным, ведь я видела, как по воскресеньям в церкви он, в несуразном костюме, причесанный на косой пробор, пинает брата Томаса по ноге за то, что тот стащил его псалмы.
По настоянию матери Джонни мы каждое воскресенье ходили в церковь всей семьей: она, тетка Джонни, Томас, Джонни и я. Всегда садились на одну и ту же скамью – справа, рядом со статуей Девы Марии с младенцем Иисусом на руках. Чтобы занять ее, мы должны были прийти в 8.20, хотя служба начиналась в девять.
К первой годовщине свадьбы Джонни подкопил денег, мы сели в поезд и поехали с ночевкой на север, в высокогорья. Взяли с собой еду для пикника на берегу озера, и, хоть отправлялись в путешествие вдвоем, домой нас вернулось трое. Все шло, как и должно было. Я вышла замуж и теперь ждала ребенка.
Я не говорила Джонни до декабря. Точнее, вообще не говорила. Решила, пусть платьице скажет. Белое, с вышитыми на подоле парусниками. Шелковое, нежное, приятное на ощупь. Хоть для мальчика, хоть для девочки. Под Рождество я завернула его в бумагу, аккуратно уложила сверток в коробку, и тут же мне стало грустно, ведь тайна нашего с малышом сосуществования теперь откроется. Я одна в целом мире знала, что мой ребенок существует. А для него я была целым миром. Я делила с ним каждый звук, каждое ощущение.
Утром 25 декабря Джонни, развернув бумагу, долго смотрел в коробку. Я думала, он улыбнется, разволнуется, но это было бы лишь отражением моих собственных чувств.
Мы ждали его реакции – малыш и я. В конце концов Джонни отложил белое платьице, подошел, сгреб меня в охапку. Чудесная новость, сказал он и настоял, чтобы мы оделись и пошли сообщить обо всем его матери.
Ленни переезжает в Глазго
Эребру – Глазго, февраль 2004 года
Ленни Петтерсон семь лет
Это тоже записано на видео.
Я стою рядом с мамой в пальто, надетом поверх пижамы с динозаврами. В одной руке держу набитого шариками поросенка Бенни, в другой – свой заграничный паспорт, который мне доверили на время путешествия, я ведь уже взрослая девочка.
– Помаши дому на прощание, Ленни! – говорит папа из-за камеры.
Я нехотя машу.
– Скажи: “До свидания, дом!” – велит папа.
Я поворачиваюсь и гляжу в камеру.
К нам присоединяется мама – садится на корточки, обнимает меня, и рука ее утопает в моем пальто.
– Hej då huset![2]2
Пока, дом! (шв.).
[Закрыть]
Мы машем запертой входной двери.
Потом все вместе влезаем на заднее сиденье такси, и камера следует за нами. Водитель, кажется, измучился ждать. Папа передает камеру маме, а сам сражается с моим ремнем безопасности.
Затем – темнота.
Камера внезапно оживает в аэропорту, в зале ожидания. Отец, как заправский кинооператор, перемещает ее вдоль закрытых рольставнями магазинов – парфюмерии, одежды для серфинга, дорогих закусок и сладостей. Они не работают, потому что четыре утра, а кому в такой час нужны духи и плавки по заоблачной цене? Мама дремлет в кресле, она почти прозрачная. Я сижу рядом в слезах.
– Не плачь, моя хорошая! – говорит отец, и я, подняв голову, смотрю в камеру.
Затем – темнота.
В иллюминатор видно, что самолет взлетает, но камеру так трясет, к тому же снаружи мрак, и различить можно только пляшущие красно-белые пятна, а потом и они уходят вниз и исчезают из кадра.
– Вот мы и полетели, – тихо говорит папа в камеру, будто сообщая ей большой секрет.
А потом наводит камеру на меня. Я сижу, вцепившись в Бенни. Прижимаюсь носом к его рыльцу.
– Все будет хорошо, шалунья, – ласково говорит папа.
Папа снимает входную дверь и панораму гостиной, где коробок и чемоданов полно, а мебели явно маловато, и комментирует:
– Вот мы и на месте!
А потом продолжает экскурсию по дому – снимает кухню, где только одна лампочка горит, ванную, где прежние хозяева оставили персиковую туалетную бумагу и радио для душа в виде морского конька, спальню с двуспальной кроватью, где мама разбирает одежду. Затем идет в мою спальню, где я наконец-то сплю, сжимая Бенни в руках.
Камера включается вновь примерно через неделю, когда я вбегаю в дом в новенькой школьной форме. В школе Эребру я форму не носила и теперь почему-то очень горжусь своим голубым джемпером и тоскливого цвета юбкой в складку.
– Ленни улыбается! – комментирует папа в камеру. – Как прошел первый день?
Я показываю зрителям конфету – жевательную, желто-розовую – и улыбаюсь так, будто этот миг никогда и ни с чем не сравнится.
– Подружилась с кем-нибудь? – спрашивает папа.
Я хочу ответить, открываю рот, а затем – темнота.
Майские цветы
Элси с Уолтером рисовали деревянных манекенов, которых Пиппа поставила нам на стол. Рядом с Элси лежала белая роза на длинном стебле, одна-единственная, перевязанная черной лентой. Пушистая. Как накрученная на палочку сахарная вата. Элси с Уолтером стеснялись и смотреть друг на друга, и я не сомневалась, что за ее изысканным макияжем скрывается стыдливый румянец.
Увидев розу, Пиппа улыбнулась, но промолчала. Поставила передо мной манекена и объяснила, что художники используют таких для правильной передачи пропорций человеческого тела. Пиппа разрешила мне нарисовать ему лицо, и я, взяв в руки фломастер, наделила манекена распахнутыми глазами и широкой улыбкой. Я высоко подняла ему руки – пусть машет собратьям на соседнем столе. Нарисовала ему ботинки с завязанными бантиком шнурками. Добавила модную рубашку и галстук. И представила, что среди манекенов на соседнем столе есть та, за которой он ухаживает.
Марго рисовала молча. Заполняла полотно желтыми цветами. Их названия не знаю, ни по-английски, ни по-шведски, но очень красивые. Марго словно изображала свое, личное поле желтых цветов – только она имела к нему доступ, только она могла его увидеть. Цветы так тесно жались друг к другу, что белого пространства на листе почти не оставалось. Они как будто сами излучали свет – такие были яркие.
Больница Святого Джеймса,
Глазго, 11 мая 1953 года
Марго Докерти 22 года
Он родился таким пухленьким, что вся одежда, которую мы взяли с собой в родильный дом, оказалась ему мала. Моя мама связала ему целый гардероб. Особенно ей нравился комбинезончик (“На что ребенку летом шерстяной комбинезон?” – спросил Джонни, когда мы остались наедине), но натянуть на него мы смогли только желтую шапочку, да и та недолго продержалась на голове – съехала на макушку и в конце концов соскочила.
Джонни одолжил у своего начальника мистера Даттона на день фотоаппарат. Они в стекольной мастерской делали фотографии всех своих изделий и вешали на стену, чтобы клиенты могли ознакомиться с образцами работ. Так проще завоевать доверие, объяснил Джонни. Фотоаппарат – коробка с цифрами и колесиками, которые Джонни пообещал мистеру Даттону не трогать, был уж очень увесист для своих размеров.
– Улыбнись, – сказал Джонни.
И я улыбалась. Держа на руках человека, которого мы произвели на свет. Завернутого в одеяло, в одном только подгузнике и желтой шапочке.
Мы дали ему двойное имя – Дэвид Георг – в честь отца Джонни и в честь короля, умершего за год до этого. Людей, достойных подражания, думали мы тогда. У меня было время поразмыслить, и теперь я задаюсь вопросом, не слишком ли много потрясений заключалось в этих именах – судьбы их обладателей, уже мертвых, так тесно переплетались с войной. Отец Джонни Дэвид погиб в 1941-м – погиб, сражаясь за короля Георга.
Дэйви было часа три от роду, когда в родильный дом пришла моя мама с букетом желтых гвоздик.
– Апрель с дождями, а май с цветами, – она поцеловала меня в щеку, и сжатые между нами цветы, испустив легкую сладость, блеснули как солнце.
Отец с ней не пришел. Он в это время находился на добровольном лечении в клинике для контуженых солдат. Писал нам время от времени, и я, не обнаружив в последнем письме намека на то, что он вскоре собирается вернуться, к стыду своему, испытала облегчение.
– Улыбнитесь, – опять сказал Джонни, и мама обняла меня одной рукой.
Я взглянула на спящего Дэйви, до сих пор видевшего сны. И ощутила небесную любовь к этому маленькому розовому существу. Какую ощущала и к маме, уже прошедшей через это все, и по большей части – в одиночестве.
– Теперь ты, – мама уступила Джонни место у моей кровати.
Я отдала ему младенца, и Джонни взял его с опаской, как брал за острые края стекло, вставляя в раму. А потом мы улыбнулись.
– Сделаю еще снимок, на всякий случай, – сказала мама.
На этом снимке были только мы с Дэйви. Я натянула желтую вязаную шапочку на голову сыну. Моему мальчику. Я все еще не могла привыкнуть к мысли, что он мой, что мы произвели его на свет. Улыбаясь черной коробке фотоаппарата в неопытных маминых руках, я видела краем глаза, что желтая шапочка Дэйви поднимается все выше и выше. Она соскочила сразу после вспышки.
Но фото я смеюсь, а глаза Дэйви, видно, напуганного вспышками, впервые открыты.
Этот снимок до сих пор у меня в сумочке.
Первый и единственный поцелуй Ленни Петтерсон
Перед нами на столе в Розовой комнате лежала репродукция “Поцелуя” Климта. Где-то я ее уже видела – может, в школе, – но теперь впервые видела по-настоящему. Репродукция была напечатана на матовой бумаге, но теплые золотые краски как будто светились. Пиппа рассказала нам, что первые работы Климта вызвали большой скандал, а эту, напротив, приняли очень хорошо. На ней мы видим обнявшихся влюбленных, добавила она.
Но я с этим категорически не согласна и не могу поверить, что никто не видит одного. Женщина на картине мертва.
Цветы в волосах, глаза закрыты, лицо безучастно, хотя мужчина целует ее и привлекает к себе. Растения оплетают ее лодыжки и тянут к цветам земли, где теперь ей место. Земля требует отдать эту женщину, похоронить, а мужчина ни за что не хочет ее отпускать. Его поцелуй – это желание. Оживить ее, вернуть себе и любить.
Итак, размышляя о поцелуях, я принялась рисовать – фломастерами, очень уж заманчиво они выглядывали из стакана, – и рассказывать Марго историю.
Средняя школа Эбби-Филд, Глазго, 2011 год
Ленни Петтерсон 14 лет
Наш преподаватель английской литературы однажды на выпускном вечере поцеловал ученицу – так гласила школьная легенда.
Я относилась к этим слухам скептически, ведь в соседней школе, например, рассказывали, что один учитель биологии занимался сексом с ученицей в кладовке для учебного инвентаря. На виду у учебного скелета. Эту картинку я никак не могла выбросить из головы – любовники страстно резвятся, а сверху, потрясенно улыбаясь впадиной рта, на них взирает скелет.
Если кое-какие подозрения насчет учителя литературы у меня все-таки были, они моментально усилились, после того как однажды посреди урока, посвященного “Ромео и Джульетте”, он, присев на край парты, которую занимали мы с какой-то незнакомой девочкой, с фальшивой непринужденностью обратился к классу:
– Как понять, можно поцеловать кого-то или нет? Вопрос был встречен озадаченным молчанием.
– Как понять, можно поцеловать кого-то или нет? – спрашивал он потом весь год, словно обижался, что тот давний поцелуй сочли неуместным.
Он спрашивал, и у меня каждый раз горели щеки. Отчасти потому, что я уже начинала думать, а не правдивы ли слухи, но прежде всего потому, что не знала ответа. Я никого еще не целовала.
Наверное, все как-то представляют себе заранее свой первый поцелуй. Я почему-то всегда думала, что впервые поцелуюсь под деревом с мальчиком, чьи внешность и лицо не имели особого значения. А вот дерево было зеленое и пышное, трава – влажная, росистая, и я стояла босая.
Но так живо все себе представляя, воплотить этот замысел я не пыталась – по пышным паркам не бродила, не искала, с кем бы поцеловаться.
Поэтому и не удивилась, что мой первый (и единственный) поцелуй вышел совсем не таким, как в фантазиях. Без деревьев и буйной зеленой травы.
Возвращаясь домой с вечеринки, завершившейся, когда соседи вызвали полицию, девчонки, которые по причинам, до сих пор мне не вполне понятным, приняли меня в свою компанию, решили похулиганить – пробраться на школьную территорию. То самое место, откуда нам всегда хотелось поскорее сбежать, мы решили навестить теперь, на досуге, напившись пряного рома, украденного кем-то из отцовского бара. Вечеринка продолжилась под пожарной лестницей (если, конечно, сборище пьяных подростков, которые слушают драм-н-бэйс на телефоне – а этим-то мы и занимались, – можно назвать вечеринкой).
Он не интересовал меня совсем. Отвращения не вызывал, но привлекал не больше, чем стул, например, или стол. И все же, когда во время танца зашел сзади, положил руки мне на бедра и спросил, не хочу ли я кое-куда сходить, я последовала за ним. Мы ушли подальше от друзей, к кабинету естествознания, и там, под отдаленное дребезжание музыки, он прижался влажным ртом к моему рту, а я постаралась соответствовать.
Домой с “вечеринки” я шла босиком. Одна из девчонок одолжила мне туфли на высоких каблуках, но ходить в них я не могла. Кое-кто из-за этого надо мной посмеивался. После того как поцелуй состоялся, я сняла туфли и протянула хозяйке.
– Отдашь в понедельник, когда встретимся в школе, – сказала она, но я ответила, что все равно пойду домой босиком, поэтому разницы никакой, пусть забирает сейчас.
Я шла одна по тротуару, и ничто не отделяло мои ступни от бетона, смешанного с гравием. Холодная земля была даже приятна. Успокаивала.
Я вошла через заднюю дверь.
Она спала за кухонным столом.
– Мам?
Я убрала ей волосы за ухо, вынула из тарелки с хлебными крошками случайно упавшую туда прядь. Чай ее остыл. Островок молока плавал на поверхности.
Я нарочно гремела посудой, чтобы разбудить ее. Вылила холодный чай в раковину, смахнула крошки с тарелки в мусорное ведро.
Она не шелохнулась. Только глубоко вздохнула.
Я убрала масло в холодильник, взяла банку с джемом, закрутила крышку. Повернулась и посмотрела на маму. Плечи ее слегка приподнимались. Лицо казалось безмятежным, но под глазами опять сгустились тени. После того как мама подала на развод и мы с ней стали жить отдельно от отца, они появились вновь. Темные, как синяки.
– Я сегодня целовалась с мальчиком.
Мама не просыпалась.
– В первый раз.
Она все спала.
– Как-то не так я себе это представляла.
Я пошла проверить, закрыла ли кухонную дверь. Поставила мамину тарелку и чашку в раковину.
– Я ведь должна была что-то почувствовать, правда? Но ничего не поняла. Разве только, что губы у него влажные.
Она снова глубоко вздохнула, и ресницы ее затрепетали от сновидений.
– Мне казалось, это будет что-то значить. – Я выключила свет в кухне, взяла свою сумку. – Но нет, ничего это не значит.
Она шевельнулась, поудобнее укладывая голову на руки.
– Просто подумала, ты должна знать. Про мой первый поцелуй.
Я все ей рассказала, и мне стало легче.
Закрыла дверь в кухню и пошла наверх спать.
Теперь мой первый поцелуй запечатлен навечно – на фломастерном рисунке кабинета естествознания, освещенного луной, который больше и незачем было изображать. Я украсила его скелетом у окна, хотя на самом-то деле он не подсматривал… насколько мне известно. В следующий понедельник учитель литературы опять, закинув ногу, присел ко мне на парту и спросил: “Как понять, можно поцеловать кого-то или нет?” – и мой ответ был (и остается) прежним: не знаю.
Марго и мужчина на пляже
Начав со змеи, Уборщик Пол перешел к героям Диснея, изображенным довольно небрежно, большому кельтскому кресту и наконец добрался до туза пик.
– Вот про эту не помню, – сказал он. – В тот день был мальчишник, и в ресторан я шел без единой татуировочки на плече, а в отель вернулся с пиковым тузом.
– Нравится он тебе?
– Не-а. Хорошо хоть на плече – на глаза попадается, только когда вижу свою спину в зеркало.
– А это, наверное, нечасто бывает, – подхватила я.
– Да уж. А вот еще одна, – он опустил рукав футболки, – моя любимая.
Пол повернул левую руку, и на сгибе я увидела девчушку – кареглазую, с ямочкой только на одной щеке.
– Моя малышка, – объяснил Пол.
Ниже рукописным шрифтом с завитушками было выведено: “Лола Мэй”.
– Как живая! – воскликнула я.
Он заулыбался, достал бумажник и показал мне фотографию – почти точь-в-точь похожую на тату. – Я сказал Сэму…
– Сэму?
– Который Диснея делал.
– Ой-ой…
Пол рассмеялся.
– В общем, сказал ему: “Уж эту ты не испогань. Как можешь постарайся!”
– И он не оплошал.
– Точно. Он ее высоко ставит, одна, говорит, из лучших моих работ.
Вид у Пола был гордый – дальше некуда.
– А сколько Лоле?
– Три. Она, кстати, тут родилась. Самый счастливый день в моей жизни. Хочу, говорит, папа, чтоб у тебя была татуировка с Винни-Пухом, – сделаю к ее четвертому дню рождения. На икре, может, а то на руках уже места не осталось.
Рация Пола громко затрещала, и я услышала чей-то голос – ничего не поняла, но, похоже, дело было срочное.
– Опа! – Пол подскочил. – Побежали скорей в твою Розовую комнату, горе ты мое.
Мы сели за стол в Розовой комнате, и Марго, закатав рукава фиолетовой кофты, задумчиво уставилась в окно, на парковку.
– Как все-таки странно, Ленни, – сказала она. – Я стояла тогда там, на пляже, а твоих родителей еще, наверное, и на свете не было, не говоря уж о тебе.
Она принялась рисовать. Черным углем на белом.
Трун-Бич, Шотландия, ноябрь 1956 года
Марго Докерти 25 лет
Он предложил прогуляться по пляжу таким тоном, что я и не думала спорить, хоть за окном то ли дождь косой летел, то ли снег.
На пляже не было ни души. Сильный ветер трепал росшую с краю высокую траву. Мы постояли немного, помолчали, наблюдая, как свирепые волны смывают песок в море.
– Я ухожу, – сказал он.
И я подумала, это шутка, а потом увидела, что он плачет.
– Ухожу. Должен уйти.
Ревущий ветер пронизывал меня. Я вглядывалась в его лицо, искала просвета. Но не находила.
Мы по-прежнему жили в съемной квартире, где было тесно и шумно – у соседей лаяли собаки, и сами они лаялись. А хуже того, у них родилась девочка. Ее яростные крики врывались из-за стены в нашу спальню, а мы лежали молча, борясь с желанием встать и пойти утешить маленькое существо – чужое.
Мы шли по берегу бок о бок, хоть за руки и не держались. Мои ботинки утопали в песке. Здесь было гораздо холодней, чем в нашей квартирке, но так же тесно; сильный ветер окружал нас, бросал мне волосы в лицо, наполнял мой рот и уши ревом стихий. Пальцы мои скрючились в ладонях, повинуясь инстинкту самосохранения. Но я их все равно уже не чувствовала. Чтобы слышать друг друга, нам приходилось кричать, а мы с Джонни к такому не привыкли. Нам это было несвойственно. Поэтому, наверное, слова, которые он выкрикнул в конце концов, дались ему особенно трудно.
– Не могу я, Мар, ты… – он осекся. – Не могу здесь оставаться.
Он утер слезы, и пальцы мои, инстинктивно разогнувшись, хотели уже потянуться к нему.
– Но почему? – Я старалась перекричать грохот волн.
Все ветры в мире, кажется, взвихрились вокруг нас, а потом вдруг резко стихли. Все замерло на миг.
– У него были твои глаза, – тихо проговорил Джонни.
Марго печально улыбнулась.
Я закрыла глаза и перенеслась на тот пляж, чтобы быть с ней рядом, – кусачий ноябрьский холод сразу проник под халат и пижаму, а рядом на песке сидела молодая Марго в коричневом пальто и неслышно плакала – ветер уносил звуки. Погрузив задник розовой тапочки в сырой песок, я описала дугу. Очертила себя кругом. Марго выглядела совсем иначе с темными волосами, взлохмаченными ветром. Подтянув колени к груди, она уткнулась головой в подол, и тогда я подошла, протянула руку, прикоснулась к ней…
И сказала:
– Все наладится.
– Спасибо, – улыбнулась она, и мы вновь оказались в Розовой комнате.
Остальные изо всех сил старались не обращать на нас внимания. Интересно, слушали ли нас Элси с Уолтером, пока что-то там скребли, размазывали и выцарапывали.
Марго взяла уголь, затемнила траву на краю обрыва. Потом достала из рукава салфетку, но не стала сморкаться или вытирать слезы, а приложив ее к бумаге, растушевала контуры угольного Джонни – высокого, худого, повернувшегося к зрителю спиной и потому безликого.
– Так он оставил тебя одну с малышом? Уж я бы ему устроила!
– Нет, все было не так.
– Но он ведь ушел?
– Да.
– А что стало с малышом?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?