Читать книгу "Гавел"
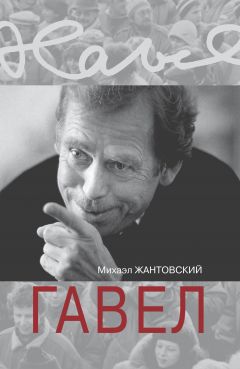
Автор книги: Михаэл Жантовский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Время негодяев
Циклоп наделать дел не хил,
что выше человечьих сил.
В одном был рок к нему суров —
что обойден он даром слов.
Порабощенный им предел
людей унывших, мертвых тел
он топчет, гордо избочась,
а с губ его летит лишь грязь.
Уистен Хью Оден. Август 1968
В чешской истории 21 августа 1968 года имеет двоякое значение. С одной стороны, эта дата символизирует подавление и в конечном итоге поражение реформаторских устремлений Пражской весны после мощнейшего в европейской истории ночного военного вторжения и последовавшее за этим тягостное двадцатилетие «нормализации». С другой – это символ достигшего высшей точки сопротивления народа господствующей идеологии и обнуления каких-либо ее притязаний на легитимность. Только когда стало казаться, что все потеряно, люди по-настоящему объединились и дали выход своим истинным чувствам. Всю следующую неделю было совсем не важно, кто ты – коммунист-реформатор, принципиальный противник коммунизма или негодующий патриот. Когда человека насилуют, он понимает это независимо от своих политических убеждений.
Именно благодаря этому ощущению Гавел вышел из состояния летнего безделья и бросился в водоворот лихорадочной общественной деятельности. Одной из характерных его черт было умение притворяться безучастным и незаинтересованным до тех пор, пока все шло хорошо, но его обостренное чувство ответственности немедленно просыпалось, как только случалась беда.
Гавел и Тршиска, утренний шок которых от вторжения усиливало похмелье после вечеринки накануне, по чисто случайному стечению обстоятельств являли собой очень нужное в данной ситуации сочетание острого пера с известным голосом. Они добровольно включились в работу по оказанию сопротивления в либерецком филиале Чехословацкого радио, принимая участие и в телевещании. Всю следующую неделю неприступные для танков радиоволны представляли собой передовой рубеж обороны в Либерце и по всей стране. Радио– и телестудии перебрались в места, не поддающиеся вычислению, и вещание велось на запасных частотах, на которых его труднее было глушить. Советы в первые дни казались совершенно дезориентированными. Их готовили к ожесточенным битвам и террористическим актам, но не к сопротивлению такого рода. Импровизированное оккупационное радио, вещавшее из Дрездена и именовавшее себя радиостанцией «Влтава», стало предметом всеобщего веселья из-за странного акцента дикторов, их грубых грамматических ошибок и невероятных историй, дававших повод посмеяться, когда в остальном вокруг было мало смешного. «Влтава» не останавливалась и перед душераздирающими мелодраматическими сюжетами, например: «21 августа в сорока километрах от Праги шайка преступников, называющих себя последователями социалистического гуманизма, выставила на пути советского танка группу воспитанников местного детского дома. Танкисты, чтобы не давить наших детей, вместе со своим танком рухнули с высокого обрыва и погибли. Три советских парня без раздумий пожертвовали своими жизнями ради жизней наших детей. Иначе они поступить не могли»[242]242
Stanice Vltava, zřejmě 26. srpna 1968 // http://www.rozhlas.cz/historie/1968/ zprava/socialisticky-hlas-pravdy-siril-bludy-773265
[Закрыть].
При такой конкуренции Гавелу и Тршиске работалось просто отлично! Впоследствии Гавел довольно неохотно участвовал в популярной мифологизации той августовской недели, но признавал, что особое впечатление на него произвела «сообщность солидарности», находившая выражение в малых и больших проявлениях доброты, заботы и изобретательности, которые он наблюдал.
В своем первом эфире из Либерца, несшем заметную печать эмоциональности и импровизации переживаемого момента сразу же после начала вторжения, Гавел обратился к остальному миру с призывом о помощи. Вполне типично для него (и при этом абсолютно логично) было то, что он не призывал к вмешательству НАТО или американских воинских частей, размещенных в паре сотен километров западнее, а просил своих коллег и друзей – писателей и критиков Гюнтера Грасса, Ханса Магнуса Эрценсбергера, Хельмута Хайсенбюттеля, Кеннета Тайнена, Кингсли Эмиса, Джона Осборна, Арнольда Вескера, Фридриха Дюрренматта, Макса Фриша, Жан-Поля Сартра, Луи Арагона, Мишеля Бютора, Артура Миллера, Сэмюэля Беккета, Эжена Ионеско и Евгения Евтушенко – выразить протест против совершаемого преступления. Странная это была армия для противостояния военной операции бронетанковых частей, однако Гавел, безусловно, имел все основания, когда подчеркивал роль, которую во время Пражской весны сыграли писатели и интеллектуалы. «Они были в числе первых, кто мобилизовал народ на политические действия. Поэтому они, несомненно, будут в числе первых, кого оккупанты начнут преследовать и сажать»[243]243
Pět rozhlasových projevů ze srpna 1968 // Spisy. Sv. 3. S. 848.
[Закрыть]. В этом он оказался прав. Точно так же правдой оказалось и то, что большинство писателей, к которым он обратился, возвысило свой голос, протестуя против вторжения.
Единственный раз в жизни Гавел выступил даже от лица компартии. 26 августа в Либерце была распространена подробная инструкция, как действовать в отношении оккупации и оккупантов. Хотя под ней стояла коллективная подпись областного и городского национального комитетов и обкома коммунистической партии Северочешской области, но ее язык однозначно выдает авторство Гавела: «К присутствию иностранных войск относитесь так же, как вы относитесь, например, к стихийному бедствию: не ведите переговоры с этой силой, как вы не ведете их с ливнем, но противоборствуйте ей и избегайте ее так же, как вы противоборствуете дождю и избегаете его; задействуйте свою сообразительность, смекалку и фантазию. Вы увидите, что враг бессилен против этого оружия, как дождь бессилен против зонта. Противодействуйте врагу всевозможными способами, на которые он не рассчитывает: отказывайтесь понимать его, выставляйте в смешном виде, показывайте абсурд его положения. Если вы решите, что в какой-то момент полезнее вести себя как Гус, то ведите себя как Гус, а если, наоборот, решите, что разумнее вести себя как Швейк, то и ведите себя как Швейк»[244]244
Všem občanům! // Spisy. Sv. 3. S. 857–858.
[Закрыть].
Чудо «всеобщей солидарности» продлилось немногим больше недели. После того как 29 августа Дубчек и остальные члены коммунистического руководства вернулись из Москвы со слезами на глазах и с подписанной ими капитуляцией, началась новая эра. Это стало ясно не сразу, сопротивление, протесты и солидарность в той или иной мере не стихали еще почти весь следующий год. Но это был год арьергардных боев, бесконечной череды уступок и изнуривших нацию компромиссов, которые были предвестниками последующего отказа от борьбы. «Корабль медленно шел ко дну, но пассажирам было разрешено кричать, что он тонет»[245]245
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 815.
[Закрыть].
Через месяц наступило разочарование. Это заметно в том числе и по горьким ноткам во второй части типограмм Гавела с датировкой «в печальные дни»[246]246
Dopis Alfredu Radokovi, 14. března 1969. KVH ID10863.
[Закрыть] сентября 1968 года. Лозунги и надписи на стенах времен Пражской весны выродились в лишенную смысла абракадабру: «ГУМАНИЗМ, СВОБОДА, ДЕМОКРАТИЯ, ПАТРИОТИЗМ, ВЕРНОСТЬ, ЕДИНСТВО», а в конце – «булочки для Дубчека»[247]247
Antikо́dy II, сентябрь 1989 // Spisy. Sv. 1. S. 335.
[Закрыть]. В другой типограмме Гавел смиренно перечисляет свои заповеди:
Тем не менее он все равно не бездействовал. Все более редеющая группа решительных реформаторов и демократов вела отчаянный арьергардный бой против имеющей огромное численное преимущество круговой поруки советских правителей, стремящихся любой ценой восстановить свое господство, вновь оживившихся чехословацких сталинистов, жаждущих отомстить за свое унижение за год до этого, и оппортунистов всех мастей, почуявших шанс быстро выдвинуться независимо от способностей.
Единый национальный фронт ненасильственного сопротивления мало-помалу стал давать бреши. Из ведущих реформаторов, которых вывезли в Москву и после четырех дней «переговоров» заставили капитулировать, протокол о «временном» размещении советских войск в Чехословакии отказался подписать один только Франтишек Кригель, коммунист с довоенным стажем, ветеран гражданской войны в Испании. Лишь четверо депутатов Федерального собрания не подняли руки за утверждение договора между двумя странами, легализующего оккупацию ex post facto. Среди граждан постепенно росло осознание того, что отныне каждый должен рассчитывать сам на себя. Но, несмотря на это, сопротивление не прекратилось. В ноябре в знак протеста против оккупации и в поддержку продолжения реформ забастовали студенты вузов. В январе 1969 года на Вацлавской площади совершил самосожжение Ян Палах, первокурсник философского факультета Карлова университета в Праге. Его похороны вылились в общенациональную манифестацию. Гавел, подобно многим другим, выразил свои чувства в связи с этим на чехословацком телевидении. Но, в отличие от других, он не поддался эмоциональному порыву минуты, не дал выхода слезам, отчаянию или бессильной ярости, а говорил как политик. Самоубийство Палаха он охарактеризовал как «обдуманный политический акт… как вызов, предостерегающий нас от равнодушия, скепсиса, ощущения безнадежности»[249]249
Vystoupení V áclava Havla k Palachovi, 21. ledna 1969, Československá televize. KVH ID6495.
[Закрыть]. С его точки зрения, Палах этим «дал шанс нам, живым»[250]250
Ibid.
[Закрыть]. Он призывал не к проявлениям скорби или к пустым жестам протеста, а к дальнейшему постоянному сопротивлению. «У нас один путь: проводить свою политическую линию дальше, до самого конца. Смерть Яна Палаха я рассматриваю как предостережение всем нам перед нравственным самоубийством»[251]251
Ibid.
[Закрыть].
В условиях захлестнувшего страну отчаяния это было одно из немногих ясных и взвешенных руководств к действию. В учебных аудиториях, средствах массовой информации и пивных не прекращались дискуссии о тактике и стратегии. Точки зрения разнились: от предложения занять выжидательную позицию через агитацию в пользу тех или иных форм пассивного сопротивления до попыток малочисленных радикальных группировок левых активистов создать эмбрионы подпольных ячеек «прямого действия». В эту дискуссию оказались с неизбежностью вовлечены и два виднейших интеллектуала: романист Милан Кундера и его бывший протеже Вацлав Гавел. В декабрьском сдвоенном номере журнала «Листы» за 1968 год Кундера опубликовал в качестве своего рода рождественского подарка народу статью «Чешская доля», проливая целительный бальзам на его свежие раны и ободряя его на будущее. Кундера был убежден, что «значение чехословацкой осени, возможно, еще больше, чем значение чехословацкой весны»[252]252
Kundera M. Český úděl // Listy. 1968. № 7–8.
[Закрыть]. По его мнению, идея Пражской весны по построению социализма с человеческим лицом являла собой непреходящую ценность, благодаря которой «чехи и словаки впервые с конца Средневековья вновь очутились в центре мировой истории»[253]253
Ibid.
[Закрыть]. Более спорным был тезис Кундеры, что политика Пражской весны «выстояла в этом страшном конфликте. Хотя и дала задний ход, но не развалилась, не рухнула»[254]254
Ibid.
[Закрыть]. Осудив пораженчество, выдаваемое за критичность, Кундера призывал продолжать курс на единение народа в защиту идеи социализма с человеческим лицом. В конце концов, спрашивал он, «разве степень относительной определенности для всех не зависит именно от того, сколько людей осмелится стоять на своем в ситуации полной неопределенности?»[255]255
Ibid.
[Закрыть].
Ответ Гавела спустя месяц ошеломил многих откровенно неодобрительным, едва ли не враждебным тоном, в каком он обрушился на утверждения Кундеры. «Всякий раз, когда чешскому патриоту недостает смелости… взглянуть в лицо суровому, но открытому настоящему, отдать себе отчет во всех его проблематичных аспектах и сделать из этого беспощадно необходимые выводы, хотя бы даже затрагивающие собственные ряды, он обращается к лучшему, но пройденному уже прошлому, когда все были едины…»[256]256
Český úděl? // Tvář. № 2. 1969. Перепечатано в: Spisy. Sv. 3. S. 889.
[Закрыть] Для Гавела декларируемое национальное единство под флагом социализма с человеческим лицом было лишь химерой, и не имело никакого смысла защищать свои убеждения, не обладая способностью «продемонстрировать свою позицию в том числе и конкретным и небезопасным действием»[257]257
Ibid. S. 893.
[Закрыть]. Гавел не разделял тезис о мифической «чешской доле», подчеркивая момент выбора. «Наша судьба зависит от нас. Мир состоит <…> не из глупых больших держав, которые могут все, и умных малых народов, которые не могут ничего»[258]258
Ibid. S. 894–895.
[Закрыть].
Самым важным, однако, было то, что он усомнился в ценности самой идеи Пражской весны. Ему казалось «напыщенной иллюзией» считать, что попытка закрепить такие права человека, как свобода слова, то есть «нечто такое, что в большей части цивилизованного мира абсолютно естественно»[259]259
Ibid. S. 895.
[Закрыть], ставит нацию в центр истории. Если Кундера усматривал в Пражской весне опыт создания чего-то принципиально нового, что никогда ранее не существовало, то Гавел оценивал ее более трезво – как попытку вернуться к нормальному положению дел. В этом он явно опирался на наследие реалистической школы чешской исторической мысли, олицетворяемой Томашем Гарригом Масариком, – в противовес романтическому образу высоконравственного, но преследуемого неудачами малого народа, веками зажатого между сильными соседями. Гавел не был готов провозглашать какую-либо специфически чешскую или чехословацкую долю, видя в ней особое достоинство или проклятие. Он предостерегал от «провинциального мессианизма»[260]260
Český úděl? // Tvář. № 2. 1969. Перепечатано в: Spisy. Sv. 3. S. 896.
[Закрыть] и утверждал, что к чешскому народу следует подходить с теми же мерками, что и ко всему остальному цивилизованному миру. Как для Масарика, так и для него «чешский вопрос – это либо вопрос глобальный, либо вовсе не вопрос»[261]261
Masaryk T.G. Česká otázka // Spisy. Sv. 6. Praha: Masarykův ústav a archiv AV ČR, 2000.
[Закрыть].
Противоборству между этими двумя трактовками событий 1968 года, с одной стороны, как благородного опыта исправления изъянов коммунизма и построения в корне иного типа социализма, а с другой – как неудавшейся попытки демонтировать неработающую систему, первая из которых искала опору в «лучшем, но уже оставшемся позади прошлом», а вторая обращалась к «суровому, но открытому настоящему», суждено было продлиться следующие два десятилетия, пока вопрос не был наконец разрешен в пользу Гавела в ходе Бархатной революции. Кундера прекратил дискуссию на десять лет раньше.
Но, как ни важно было расхождение во взглядах этих двоих близких друг другу – интеллектуально, а одно время и по социальной позиции – деятелей, оно не позволяет до конца объяснить ожесточенность обмена мнениями между ними, особенно в случае таких обычно вежливых и мягких людей, как Гавел и Кундера. За этим должно было стоять нечто большее, будь то нравственный протест Гавела, усиленный жертвенной гибелью Палаха, сохранявшиеся у него сомнения в мужестве старшего коллеги, возникшие после отказа Кундеры подписать петицию в защиту журнала «Тварж», или сомнения в его решимости и стойкости. Когда Кундера в 1972-м отказался также подписать петицию с требованием освободить политических заключенных, подписи под которой собирал среди коллег Гавел, и в тот же год, когда Гавел писал свое письмо Гусаку, в конце концов покинул Чехословакию, чтобы продолжать без помех писать романы и скорбеть о гибели культуры в Центральной Европе[262]262
Kundera M. The Tragedy of Central Europe // The New York Review of Books, 26.04.1984 (по просьбе автора статья не включена в цифровой архив The New York Review of Books).
[Закрыть], у Гавела могло появиться вполне простительное чувство, что его сомнения были небеспочвенны. Особенно ему претил «часто повторяемый тезис о здешнем кладбище культуры: каковы бы мы ни были, мертвецами мы себя не считаем»[263]263
Dopis Janu Vladislavovi, 30. 06.1984 // Národní muzeum, Československé dokumentační středisko. KVH ID13966.
[Закрыть]. Вместе с тем Кундера из своей парижской перспективы имел больше шансов заметить, что гибель культуры в традиционном смысле слова можно было точно так же отнести на счет культурного варварства тоталитарного режима, как и на счет упадка ее роли на свободном Западе. Гавел это открытие сделал лишь много времени спустя. Так или иначе, но спор между ними привел к размолвке, которая была ощутима и через двадцать лет. По-видимому, более глубокую обиду затаил Кундера, тогда как Гавел, в свойственной ему манере, предпочел не возвращаться к этому эпизоду. Он сделал несколько отчасти успешных попыток восстановить прежние отношения и – что, вероятно, было важнее – после 1989 года старался помочь теперь уже мировой знаменитости восстановить отношения с его родиной. Когда Кундера стал объектом публичного разбирательства в связи с подозрением, что он якобы донес в Корпус национальной безопасности на эмигранта, нелегально прибывшего в Чехословакию в качестве американского агента[264]264
Hradilek A. Třešňák P. Udání Milana Kundery // Respekt. № 42. 2008.
[Закрыть], Гавел без колебаний так же публично вступился за коллегу[265]265
Respekt. 21. října 2008.
[Закрыть].
Однако в начале 1969 года у него были другие проблемы. 21 января он сообщил в органы безопасности, что случайно обнаружил на потолке в своей квартире подслушивающее устройство, обслуживание которого и его мониторинг велись с чердака. Ничуть не удивительно, что расследование этого дела ни к чему не привело. Стараясь вызвать как можно более громкий общественный резонанс, Гавел заставил Союз писателей и нескольких членов Федерального собрания, которые тогда еще демонстрировали какую-то независимость, подать заявление на имя генерального прокурора с протестом против этих незаконных методов, и ему даже удалось получить уклончивое признание министерства внутренних дел, что прослушка действительно имела место. Сам Гавел в красках живописал случившееся[266]266
Zvláštní příhoda // Listy. № 4. 1969. Перепечатано в: Spisy. Sv. 3. S. 880–885.
[Закрыть]. При этом, хотя подслушивающее устройство было настоящее, он, конечно, умолчал о том, что инсценировал свое шокирующее открытие, так как на самом деле узнал о нем раньше от одного из друзей, а тот – от симпатизирующего им офицера госбезопасности[267]267
Kaiser (2009). S. 81–82.
[Закрыть].
Вскоре после этого Гавел уединился в Градечке, который стал его излюбленным местом работы и отдыха. Ему недоставало друзей. Радок принял предложение занять место режиссера в Гётеборге, вначале на один сезон, а потом – на всю оставшуюся жизнь. Милош Форман решил попытать счастья в качестве кинорежиссера в Америке. Даже брат Иван отбыл в докторантуру университета Беркли в Калифорнии. В январе 1969 года и Вацлав собирался воспользоваться стипендией фонда Форда, чтобы провести с Ольгой полгода в США, но из «сумасбродного убеждения», что дома без него никак не обойтись, перенес свои планы на сентябрь. К этому времени, однако, его уже лишили заграничного паспорта. Точно так же он потерял работу, уйдя из театра «На Забрадли» раньше, чем его успели уволить.
С приближением первой годовщины даты, оставившей скорбный след в истории, Гавел написал письмо Дубчеку, который в то время уже был не руководителем компартии, а декоративным главой тогдашнего марионеточного парламента – Федерального собрания. Поскольку Гавел не без оснований опасался, что близок тот день, когда компартия Чехословакии примет оправдывающую вооруженное вмешательство советскую интерпретацию Пражской весны как попытки контрреволюционного переворота, он призвал бывшего лидера не скреплять этот позорный акт своим согласием – ведь этим он отказался и отрекся бы от всего, на чем стоял. Гавел не питал ни малейших иллюзий насчет того, что несогласие Дубчека могло помешать такому акту, но был убежден, что это единственный способ, который позволит сохранить самоуважение не только Дубчеку, но и всему народу. Впервые – но далеко не в последний раз – он вспомнил в этой связи позор мюнхенского диктата и последовавшую за ним капитуляцию президента Бенеша и его правительства. В отличие от многих реформаторов, которые объясняли сдачу позиций и все более серьезные уступки стремлением спасти хотя бы что-то от реформ, Гавел недвусмысленно заявил: «Чехословацкий опыт реформы потерпел поражение. Тем более нельзя допустить, чтобы поражение потерпела правда этого опыта, его идея»[268]268
Dopis Alexandru Dubčekovi, 9. srpna 1969 // Spisy. Sv. 3. S. 928–929.
[Закрыть].
Вера Гавела в очищающую, энергетическую роль чисто нравственной личной позиции может казаться несколько наивной. Но эта убежденность и позже вдохновляла его и – как он сам понял семнадцать лет спустя, когда наткнулся на это письмо, – также и других: «Там, где я пишу, что и чисто нравственный поступок, неспособный претендовать на немедленный и заметный политический эффект, может со временем и косвенно получить политическую оценку, я к собственному удивлению нашел ту же мысль, которая <…> стояла у истоков “Хартии-77”»[269]269
D álkový výslech // Spisy. Sv. 3. S. 820–821.
[Закрыть]. Прочел Дубчек письмо драматурга, которого до того видел только раз в жизни, да и то в подпитии, или нет, но он нашел в себе силы не признаваться в ереси и защищать политику Пражской весны как честную и продиктованную самыми искренними побуждениями попытку придать социализму человеческое лицо. Из партии его вскоре исключили, и – после неожиданного назначения на короткое время послом в Турцию, куда нормализаторы отправили его, вероятно, в надежде, что он попросит убежища на Западе и тем самым подтвердит свою вину, – следующие двадцать лет провел большей частью в полном уединении под неусыпным надзором органов безопасности.
В годовщину вторжения Гавел присоединился к еще одному протесту, инициатором которого на сей раз был не он. Петицию «Десять пунктов» придумал Людек Пахман, блестящий, хотя и немного эксцентричный гроссмейстер и признанный шахматный теоретик, который в это время переживал трансформацию из радикального коммуниста в верного католика. Окончательную форму ей придал, вопреки «страшному нежеланию»[270]270
Ludvík Vaculík v dopise Ústavu pro soudobé d ějiny, 8. srpna 1990 // Ústav pro soudobé dějiny.
[Закрыть], Людвик Вацулик – после речи на съезде писателей и манифеста «2000 слов» известный бунтарь. В петиции осуждалось вторжение как нарушение международного права и выдвигалось требование вывода оккупационных войск. Подвергались критике чистки, проводимые в партии и в государственной администрации, и осуждалось восстановление цензуры. Но что самое важное, в ней содержался отказ от автоматического признания руководящей роли коммунистической партии и утверждалось право на выражение несогласия как «извечное естественное право человека». Гавела, уже довольно давно полагавшего, что «трезвое упорство действеннее, нежели восторженные эмоции»[271]271
D álkový výslech // Spisy. Sv. 3. S. 817.
[Закрыть], несколько отталкивал радикальный и одновременно легкомысленный тон документа, который ему «тогда даже не очень хотелось подписывать»[272]272
Dopis Jiřímu Paukertovi, 22. dubna 1970. KVH ID1645.
[Закрыть], тем не менее он поставил под ним свою подпись вместе с десятью другими, среди которых были член Чешского национального совета Рудольф Баттек и легендарный олимпийский чемпион Эмил Затопек[273]273
Впрочем, фамилии Затопека на копии документа в KVH ID17709 нет.
[Закрыть]. Подписанты действовали в строгом соответствии с «правом на петиции», гарантированным чехословацкой конституцией, хотя ожидали, что власти отнесутся к этому иначе. По-видимому, их кто-то выдал, так как за ними следили. Квартира Пахмана находилась под наблюдением уже за несколько дней до 21 августа, когда петиция была вручена. Самого его задержали на следующий день. Через пару недель Гавела и остальных подписантов обвинили в подрывной деятельности против республики.
Следствие продолжалось целый год. Пахман, а также Баттек и историк Ян Тесарж почти все это время провели в заключении. В конце концов всем предъявили обвинение в подрывных действиях против республики в составе организованной группы, за что полагалось до десяти лет тюрьмы. Однако эта туча не пролилась дождем. Городской суд Праги вернул дело в прокуратуру ввиду недостаточности доказательств и назначил слушания, только когда соответствующее решение принял Верховный суд[274]274
M ěstský soud Praha, 6. července 1970. KVH ID17779; Nejvyšší soud, 26. srpna 1970. KVH ID17780; Městský soud Praha, 4. září 1970. KVH ID17718.
[Закрыть]. За день до начала процесса Гавел и остальные получили лаконичное уведомление о том, что процесс откладывается, без указания новой даты и какого-либо разъяснения. Уведомление это подписал председатель Сената суда Антонин Кашпар[275]275
Аntonín Kašpar Václavu Havlovi, 14. Října. KVH ID17638.
[Закрыть]. Дело «Десяти пунктов» так и не было передано в суд. В последний раз его отложили в 1980 году, когда Гавел отбывал четыре с половиной года за членство в Комитете защиты противоправно преследуемых. Судьей, который вынес приговор по этому делу, был не кто иной, как Антонин Кашпар. Своего виновного он все-таки посадил!
По словам одного из подписантов, Яна Тесаржа, вся эта история с «Десятью пунктами» была самоубийственной акцией. Однако в Гавеле ничто не выдавало самоубийцу: роль героя ему претила так же, как и роль мученика. И на него тоже накатила «всеобщая ментальная усталость (…) ощущение, что все уже сказано, написано, сыграно, снято и выставлено, так что последующее теряет смысл»[276]276
Dopis Alfrédu Radokovi, 9. ledna 1971. KVH ID10862.
[Закрыть]. Когда сопротивление выдохлось, а чистки пошли полным ходом, он изменил образ жизни. После того как Иван вернулся из Беркли и обосновался с женой Кветой в квартире на набережной, Гавел оставил это «странное временное жилье» и переехал вместе с Ольгой в кооперативную квартиру в новостройке в Малых Дейвицах, чтобы наконец-то «зажить своим домом». Квартиру, которая шесть лет спустя вошла в историю, он так никогда и не полюбил. Время от времени он восставал против мебельного гарнитура, который они с Ольгой купили, в квартире во время своих регулярных поездок в Прагу ночевал, а иногда пускал туда друзей. Но в остальном, подвергаясь нарастающему давлению и остракизму, он удалился с Ольгой во «внутреннюю эмиграцию» в Градечек, где писал, читал, иногда гулял, иногда готовил[277]277
Dopis Alfrédu Radokovi, 25. prosince 1969. KVH ID10861.
[Закрыть]. Уменьшилась и его семья. Мать Божена Гавлова умерла 11 декабря 1970 года от рака пищевода. В сохранившихся письмах того времени Гавел только один раз упоминает о ее смерти, когда благодарит верного Иржи Кубену-Паукерта за то, что он выступил с прощальным словом на ее похоронах[278]278
Dopis Jiřímu Paukertovi, 26. prosince 1970. KVH ID1647. О смерти матери говорится и в переписке обоих братьев (см.: Rozhovor s Ivanem M. Havlem 14. května 2014).
[Закрыть]. Гораздо тяжелее перенес смерть Божены ее муж: по совету врачей он провел остаток года в больнице, а потом Вацлав с Ольгой отвезли его в Градечек, где окружили «папочку», как они его любовно называли, максимальной физической и душевной заботой.
Внешний вид Гавела тоже заметно изменился. Если еще за год до этого он, несмотря на длинные волосы и модную одежду, все еще походил на откормленного толстячка, то сейчас он выглядел изрядно похудевшим и каким-то рисковым: отпустил усы и научился придавать лицу несколько бесшабашное выражение. Просто хват! Да он теперь и был хватом, который полагался лишь на самого себя.









































