Текст книги "Гавел"
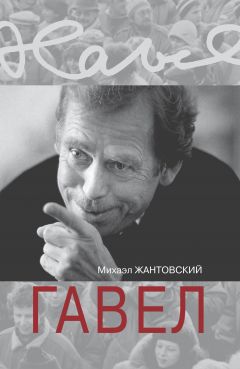
Автор книги: Михаэл Жантовский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Выкатим бочки
Является подтвержденным фактом, что в феврале 1974 года Вацлав Гавел устроился рабочим на пивоваренный завод в Трутнове, приблизительно в десяти километрах от Градечка. Однако не совсем понятно, что подтолкнуло его к такому решению. В конце декабря 1973 года он писал Альфреду Радоку, что у него «кончились деньги»[319]319
Dopis Alfrédu Radokovi, 27. prosince 1973. KVH ID10851.
[Закрыть]. На финансовые затруднения он грустно жаловался и другим своим друзьям. В «Заочном допросе»[320]320
D álkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 824.
[Закрыть] Гавел вспоминает, что в 1975 году в беседе с Иржи Ледерером сказал, что пошел работать на пивзавод из-за «финансовых проблем», но вместе с тем, оглядываясь назад, не исключил, что более серьезной причиной была потребность вырваться из удушливой атмосферы «ничегонеделания»[321]321
Ibid.
[Закрыть]. Заработная плата в размере 1700 чехословацких крон была жалким вознаграждением за изнурительный труд в зимние морозы и летний зной, тем более что треть ее он тратил на бензин для своего большого черного «мерседеса», на котором каждый день ездил на работу из Градечка и обратно. Действительно, доход Гавела от постановок его пьес за границей, уменьшился, но когда он спустя девять месяцев по собственной воле ушел с пивзавода, ситуация не слишком улучшилась. То же относится к другой причине, какую он иногда указывал, а именно – к стремлению избежать преследования за «тунеядство» на основании часто применявшегося положения коммунистического законодательства, которое предусматривало наказание для людей, не имевших официального документа о трудоустройстве[322]322
На эту тему Гавел написал в день первого апреля 1978 г. заметку «§ 203». Cм.: Spisy. Sv. 4. S. 206–214.
[Закрыть]. Об истинных его мотивах можно судить по тому, что за месяц до этого он пытался поступить на работу в типографию (но ее директор в первый же рабочий день Гавела по указанию сверху расторг с ним трудовое соглашение[323]323
Dopis Alfrédu Radokovi, 18. února 1973. KVH ID10852.
[Закрыть]) и что он мог получить место в Галерее античного искусства в городе Гостинне[324]324
Kaiser (2009). S. 94.
[Закрыть], но отказался от него. Представляется, что ему не столько нужны были деньги, сколько претила роль «видного изгоя», отведенная ему режимом, и обусловленная этим изоляция. Последнюю, как и невозможность увидеть постановки собственных пьес на сцене, он связывал с неудовлетворенностью своей работой и с тем, что ему вообще чем дальше, тем труднее было писать связные тексты. Теплое местечко в музее не решило бы его финансовых проблем и не помогло ни пробить стену отчуждения, ни найти новые источники вдохновения. Свою роль в этом могло сыграть и его неизбывное чувство вины из-за привилегированного происхождения. В итоге он предпочел катать бочки в среде, которая воплощала в себе плебейский характер чешского общества (в действительности задания ему там поручались разные, но перекатывание бочек оставило наиболее яркий след в истории). На выбор рода занятий он, бесспорно, смотрел также глазами драматурга. Как герой «Праздника в саду», так теперь уже и реальный «глупый Гонза» в его лице отправлялся в мир с швейковской поллитровой кружкой пива в руке.
И этот мир его не разочаровал. Гавела поставили на работу в ледяном подвале пивзавода с группой местных ромов, которых тогда еще называли цыганами. Там он вновь выказал свою способность – коренившуюся в его тихой вежливости и полном отсутствии у него высокомерия и заносчивости – хорошо ладить с людьми из самых разных социальных слоев. Ромы, к которым чешское общество и в наши дни сохраняет известное пренебрежение, инстинктивно приняли его как своего – еще одного отверженного среди отверженных.
Нет ни одного достоверного объяснения тому, почему Гавел ушел с пивзавода, но тот факт, что это произошло в конце года, позволяет сделать некоторые предположения. Возможно, ему не улыбалась перспектива провести еще одну зиму в холодном подвале. «Зимой я хочу быть дома и писать»[325]325
Dopis Alfrédu Radokovi, 2. prosince 1974. KVH ID10854.
[Закрыть], – сообщал он Радоку, упомянув, что в данный момент ему хватает средств на жизнь и что новую работу он будет искать, только когда это станет неизбежным. Любопытные глаза и длинные пальцы госбезопасности настигали Гавела и на пивзаводе, вызывая вокруг него напряженность, которой он хотел избежать. Абсурдный же привкус существования запрещенного интеллектуала на предприятии, производящем «жидкий хлеб», с помощью которого значительная часть населения страны заглушала страх и чувство жизненной пустоты, быть может, уже успел пробудить в нем «творческие соки».
Но не исключено, что у Гавела создалось ощущение, будто задача выполнена. Стена отчуждения была пробита. «Я удостоверился в том, что еще не настолько обленился и в целом без проблем способен выполнять любую работу, какая мне подвернется, и этим кормиться. Осознание этого меня очень успокаивает, поскольку избавляет от всяких нервных размышлений о будущем, так что мне можно не переживать»[326]326
Ibid.
[Закрыть]. Он доказал самому себе, что способен терпеть неудобства и трудности и даже предпочитает их медленному загниванию в атмосфере кажущейся безопасности уютной изоляции. Так как первый вариант письма Густаву Гусаку Гавел написал еще в 1974 году, в период работы на пивзаводе, он, несомненно, и тогда ясно понимал, что именно хочет сделать, и знал, что сделать это должен именно он.
В конечном итоге новое слияние с рабочим классом пошло Гавелу на пользу не только в психологическом плане, но также в творческом и финансовом отношениях. В одноактной пьесе «Аудиенция», основанной на опыте его работы на пивзаводе, которую он написал в начале 1975 года как бы между делом, для развлечения его друзей-писателей, он вернулся на естественную для него почву сатиры. Мрачная экзистенциалистская рефлексия «Заговорщиков» и «Гостиницы в горах» осталась в прошлом. Исчез экзотический, абстрактный антураж. Пивзаводская «Аудиенция» разыгрывается здесь и сейчас. На первом плане – попытки двух действующих лиц, вечно пьяного пивовара Сладека и воспитанного интеллектуала Ванека, тогдашнего и будущего alter ego драматурга, нащупать какой-то modus vivendi, баланс между обязанностями Ванека на рабочем месте и зловещим интересом к нему со стороны госбезопасности. Что касается второго плана, то это пьеса с абсурдной кульминацией, когда еле ворочающий языком Сладек просит Ванека разделить с ним тяжкое бремя и помочь писать отчеты о его, Ванека, поведении, которые от него требует госбезопасность. Когда же Ванек из принципа отказывается доносить на самого себя, переговорам приходит конец и Сладек обвиняет Ванека в том, что тот в силу своего элитарного превосходства заставляет простых людей, таких как он, замараться по уши, «а он, барин, чистеньким останется»[327]327
Audience // Spisy. Sv. 2. S. 548. Русский перевод здесь и далее цит. по: Аудиенция // Гавел В. Трудно сосредоточиться / пер. М. Семеновой. М.: Художественная литература, 1990.
[Закрыть].
Не обязательно соглашаться с изощренным обвинением Сладека, которым он снимает вину с себя, чтобы понять, что автор написал не просто незатейливую морализаторскую пьеску, но трактует ситуацию как нравственно неоднозначную. Подобное комплексное восприятие, несомненно, является одной из наиболее устойчивых и ценных констант всего творчества Гавела. Хотя сомнений в том, какую позицию занимает и какую точку зрения отстаивает сам автор и не возникает, он все же не перестает предостерегать от появления чувства нравственного превосходства и интеллектуального пренебрежения, которое часто превращает принципиальный поначалу спор в идеологический конфликт или сшибку индивидуальностей. То, что нравственная позиция Ванека, в отличие от позиции его противника, истинная, мы понимаем только потому, что он готов принести ей в жертву преимущества, которые сулит предлагаемая ему работа на складе. Вывод, что правда, для того чтобы быть правдивой, должна быть подкреплена личной гарантией человека, о ней говорящего, Гавел повторяет вновь и вновь.
Однако у пьесы есть еще третий уровень, не столь явный, как другие два. Несмотря на драматичный контраст между грубияном Сладеком, который то угрожает, то уговаривает и просит, и вежливым Ванеком, сохраняющим тихое достоинство, именно последний старается проломить стену социальной отчужденности и отверженности и установить со своим начальником человеческие отношения. Его мир театральных звезд и вечеринок, Карела Готта и Иржины Богдаловой, к которому завистливо отсылает Сладек, так отдален во времени и в пространстве, что воспринимается как нечто нереальное. А мир Сладека – мир собутыльников из пивных, цыган, осведомителей госбезопасности и бесконечных кружек с пивом – существует здесь и сейчас, он так же реален, как мерзостный смрад от давно разлитого пива, который можно чуть ли не обонять между строками пьесы. И вот в последней реплике не кто иной, как ценитель вина Ванек делает первый шаг к тому, чтобы преодолеть барьер между обоими персонажами, на какое-то время усваивая язык Сладека, принимая от него стакан с его любимым напитком и разделяя его взгляд на мир: «А, всё кругом одно дерьмо!»[328]328
Ibid. S. 550.
[Закрыть]
Когда в конце 1975 года Гавел во время встречи с друзьями-писателями в Градечке прочел им в гостиной свою новую пьесу, она имела огромный успех. Не то чтобы ее даже особо восторженно хвалили – просто смеялись не переставая. Такой же эффект она производила, когда через год ее разыграли Андрей Кроб в роли Сладека и Гавел в роли Ванека на регулярном летнем «празднике в саду» в сарае Кроба, во время десятков ее постановок до 1989-го по всему миру и в Чехословакии после Бархатной революции. Но культовая постановка пьесы обошлась без сцены и без театра. Речь идет об аудиозаписи, сделанной весной 1977 года в простенькой студии Владимира Мерты. Режиссером постановки был Лубош Писториус, в роли Сладека выступил собутыльник Гавела Павел Ландовский, а сам автор, поначалу неохотно, согласился одолжить свой голос – включая картавость – Ванеку. Спустя всего пару месяцев после «Хартии-77» маленькой творческой группе приходилось творить втайне, что в живописном уголке Праги под названием На коцоурках, где Мерта тогда жил и работал, было довольно затруднительно. Приходилось преодолевать частую потерю трудоспособности у Ландовского, склонного слишком рано выпивать слишком много пива, боязнь автора говорить в микрофон и его врожденную неспособность произнести процитированную выше последнюю фразу пьесы, а также отсутствие необходимого оборудования для звуковых эффектов (жена Писториуса Итка имитировала шумное мочеиспускание Сладека в туалете, сливая воду из чайника в металлический таз)[329]329
Merta V.Natáčení // Audience. 17.10.2012 (архив автора).
[Закрыть]. В последующие годы эту аудиозапись, которую два шведских юниора-хоккеиста контрабандой провезли в Швецию, копировали вновь и вновь, так что по своему статусу она приблизилась к оригинальным «подвальным» записям Боба Дилана. Сам Гавел вспоминал, как однажды он – что случалось нередко – остановил машину, чтобы подвезти полузамерзшего человека, голосовавшего на обочине, а тот через пару минут со словами «на свинью вы не похожи» вставил в плеер в машине кассету с «Аудиенцией»[330]330
Ibid.; см. также: Dálkový výslech // Spisy. Sv. 4. S. 826.
[Закрыть]. Отчасти и благодаря этой записи Гавел еще несколько лет тому назад полузабытый, приобрел среди своих соотечественников славу национального драматурга, а некоторые реплики из нее («Во как в жизни бывает, а?», «Люди – они большие свиньи! Ой большие!») вошли в повседневную речь даже тех, кто о пьесе и ее авторе никогда не слышали.
В тот год Гавел написал не одну, а сразу две пьесы. В «Вернисаже» добившиеся успеха супруги демонстрируют «лучшему другу» Бедржиху, писателю и интеллектуалу, по уши погрязшему в проблемах[331]331
В английском переводе и в англоязычных постановках Бедржих, который, несомненно, является «двойником» главного персонажа-интеллектуала из «Аудиенции», именуется Ванеком. Обе эти одноактные пьесы часто и ставятся вместе, иногда еще с третьей «ванековской» пьесой под названием «Протест».
[Закрыть], свой новый дом, свой роскошный образ жизни, свои сексуальные изыски и полное, безграничное счастье. Одновременно они стараются мягко уговорить его перемениться, привести в порядок свою жизнь и вновь сделать счастливым собственный брак. Ведь он же приличный, интеллигентный человек, и ничто не мешает ему стать таким же счастливым, как они!
Как и во всех пьесах Гавела, в этой также решается проблема неоднозначности. С одной стороны, Бедржих/Ванек послушно восхищается уютным гнездышком Михала и Веры и их полной довольства жизнью. С другой, он не проявляет никакого желания подражать им. Когда же он собирается уйти, как всегда, вежливо и тактично, Михал и Вера возмущены его бессердечием, недостатком эмпатии и черствостью.
Пьеса является простейшей по форме сатирой на пустоту жизни, базирующейся на материальном благосостоянии при полном отсутствии каких-либо ценностей. По сути, Бедржиха/Ванека пригласили только затем, чтобы подтвердить смысл жизни Веры и Михала. Это единственное, что они не могут сделать для себя сами. Но на такое он не способен, как не способны и эти двое распространить на него свое мелкое счастье.
Как и в «Аудиенции», после заключительного конфликта именно Бедржих/Ванек – а не супружеская пара – идет на попятный и покорно соглашается на повторение вернисажа. В этом также проявляется экзистенциальная потребность Гавела разрушить барьер отчуждения, сохранив контакт с окружающими, несмотря на взаимное непонимание. Здесь, как и в других аналогичных случаях, мы можем наблюдать подлинное, глубокое смирение Гавела, благодаря которому он был не просто принципиальным человеком, а кем-то бо́льшим – и в то же время кем-то ме́ньшим. В своем творчестве и в жизни он и в дальнейшем мягко и вежливо упорствовал в том, что обязан оставаться самим собой, сохранить свою идентичность. И вместе с тем он понимал, что без зацепок в бессвязном, запутанном и по самой своей природе многозначном хитросплетении человеческих отношений идентичность ничего не значит.
Когда осенью 1976 года в венском «Бургтеатре» были поставлены обе эти одноактные пьесы (вместе с «Полицией» польского драматурга и сатирика Славомира Мрожека), они вызвали одновременно сенсацию и скандал. Австрийская и немецкая пресса в один голос преподносила эти «вещицы» Гавела как глубоко метафизический портрет «пролетарского рая» и так же единодушно осуждала отказ властей в Праге выдать драматургу выездную визу, чтобы он смог присутствовать на венской премьере. Пражские власти еще больше раздули скандал, обвинив Австрию во «вмешательстве во внутренние дела» и «провокации», выразившейся в том, что она предоставила сцену «сынку миллионера», который не имеет ничего общего с чехословацкой культурой[332]332
Pražský rozhlas kritizuje Vídeň kvůli Havlovi // Svobodná Evropa. 19.10.1976.
[Закрыть]. Благодаря также и этой, явно невольной, рекламе Гавел быстро превращался в cause célèbre[333]333
Громкая история (фр.) – зд. известная личность. – Прим. пер.
[Закрыть]. «Его свобода – это и наша свобода», гласил заголовок в «Ди Прессе»[334]334
«Seine Freiheit, unsere Freiheit» // Die Presse. 11.10.1976. S. 5.
[Закрыть]. Для Гавела это триумфальное возвращение на мировые сцены имело горький привкус. Альфред Радок, которого он хотел бы видеть режиссером своих постановок, умер в Вене в том же апреле, через несколько часов после того, как гордо написал Гавелу, что как раз согласовал с «Бургтеатром» условия контракта[335]335
Dopis Pavlu Kohoutovi, duben 1976 // Moravské zemské muzeum. KVH ID32921.
[Закрыть]. В итоге обе пьесы поставил еще один режиссер чешской «новой волны» – Войтех Ясный.
Опера нищих
Все в свете есть игра, жизнь самая – ничто.
Так прежде думал я, а ныне знаю то.
Джон Гей. Эпитафия на собственном надгробии(перевод Н. Карамзина)
Жизнь Вацлава Гавела, вероятно, в большей степени, чем жизнь других людей, можно пересказать как цельную, логически связную и наполненную смыслом историю, но это еще не означает, что он сам, живя такой жизнью, так ее видел. Как и многое иное на его жизненном пути, возвращение Гавела в мир спустя пять лет, проведенных в уединении, было наполовину намеренным, наполовину – случайным. Две вещи, которые поначалу представляли собой чисто театральный проект и выражение политической позиции, соединились в грандиозную «комедию ошибок» благодаря как творческим способностям и остроумию их автора, так и троглодитски тупой реакции столпов режима.
Как и все, что он писал в семидесятые годы, это последнее театральное произведение сочинялось тоже не без труда. В письме начала 1972 года он сообщает: «Теперь я пишу нечто иное – это адаптация одной старой пьесы»[336]336
Dopis Alfrédu Radokovi, 8. ledna 1972. KVH ID10850.
[Закрыть]. Ни название пьесы, ни автора он не указывает, словно опасаясь неприятностей, хотя на сей раз этот аспект не должен был его волновать.
«Опера нищих» Гавела не является оригинальным произведением точно так же, как «Трехгрошовая опера» Брехта и Вейля. Та и другая написаны по мотивам одноименной балладной оперы Джона Гея 1728 года и придерживаются ее сюжетной линии. Даже сам замысел адаптировать ее для драматической сцены исходил первоначально не от Гавела, а от его коллег и бывших конкурентов из популярного театра «Чиногерни клуб» Ярослава Вострого и Яна Качера. Оба они хотели как-то помочь своему запрещенному коллеге, но, обсудив разные экстравагантные варианты (например, сначала выехать с этой пьесой в Швейцарию, а потом привезти ее обратно на родину как образец нонконформистского швейцарского театрального творчества без указания фамилии автора адаптации), отказались от своего предложения раньше, чем автор закончил работу[337]337
Interview s Janem Kačerem // Rocamora (2004). S. 126.
[Закрыть]. Они испугались, что реализация этой идеи поставит под угрозу карьеру как их самих, так и актеров. Это трагикомическое переплетение человеколюбивых побуждений и прагматизма перед лицом грозившего официального отлучения от театра само по себе кажется яркой прелюдией к тому, что затем последовало.
Сатирический характер сочинения Гея, который подвергал осмеянию пороки политиков того времени и прежде всего сэра Роберта Уолпола, считающегося первым британским премьер-министром[338]338
Роберт Уолпол (1676–1745) был первым лордом казначейства и лидером палаты общин британского парламента (должность премьер-министра тогда еще официально не существовала).
[Закрыть], сразу заинтересовала Гавела. У произведения Гея, как и у его обработки, были два «крестных отца»: его современники, сатирики нравов Джонатан Свифт и Александр Поуп. Гавел, развивая тему вездесущей коррупции и нравственного разложения, пошел еще дальше. Он не просто взял на прицел слабости богатых и власть имущих, как это сделал в своей обработке Брехт, но изобразил общество, где понятия правды и справедливости подчинены целесообразности и его представителям, независимо от их положения, которое преходяще и переменчиво, суждена жизнь, полная лицемерия, предательства и взаимного доносительства в ущерб всем. За исключением «честного» и обреченного на гибель вора Филча, между действующими лицами пьесы нет нравственных различий, будь то преступники Пичем и Мэкхит или служители закона, как начальник тюрьмы Локит. Мало того, что служащие правосудию так же – или еще более – продажны, как служащие преступлению: никто не может быть уверен в том, чему именно он в данный момент служит. В истории Гея Гавел нашел точный образ коррумпированного общества, в котором нет невиновных и все волей-неволей соучаствуют в преступлении.
Другой условностью (или, вернее, ее отрицанием), которую Гавел, в отличие от Брехта, перенял у Гея, было использование «изысканного» языка в диалогах представителей даже самого дна, из-за чего интеллектуалы и рафинированные снобы оказываются в одной компании со всеми остальными. Как говорит Нищий в исходной версии Гея, «во всем представлении можно наблюдать такое сходство нравов жизни джентльменов и бедняков, что трудно отличить, подражают ли знатные джентльмены в своих модных пороках грабителям с большой дороги, или грабители с большой дороги подражают джентльменам»[339]339
Gay J. The Beggar’s Opera. London: William Heinemann, 1921. S. 91.
[Закрыть].
«Оперу нищих», в отличие от «Заговорщиков», Гавел писал с удовольствием, хотя, наверное, сразу понял, что это скорее всего провальный проект. Кроме того, без контакта с театром и композитором ему непросто было работать над музыкальной составляющей пьесы, как это делали Гей и Брехт с Вейлем. Это заставило его с самого начала вплести музыкальные элементы в крайне замысловатую и сложную структуру текста, который, будучи прозаическим, при этом включает тщательно выстроенные арии, дуэты, вариации, речитативы и музыкальный финал. Одновременно с мелодиями Гавел намеренно снял и эмоциональный акцент фабулы, придав ей сухой, почти циничный характер во избежание того, что у Брехта ему представлялось гнетущей германской сентиментальностью. «В теории Брехт отрицает сантимент – как чувство испорченное, мещански выхолощенное – во имя подлинного чувства, на практике же он базирует все воздействие пьесы именно на этом отвергнутом сантименте. Может быть, у меня предвзятый взгляд, и вероятно, я выражаюсь неточно, но меня раздражает его немецкая профессорская сентиментальность; за ней мне мерещится какое-то чиновничье представление о юморе, о приключении, о поэзии»[340]340
Dopis Alfrédu Radokovi, 3. července 1975. KVH ID10855.
[Закрыть]. Отсутствием музыки и неизменной популярностью как «Оперы нищих» Гея, так и «Трехгрошовой оперы» (та и другая исполнялись десятки тысяч раз) можно было бы объяснить, почему минималистическая версия Гавела, хотя в качестве «черной комедии» и весьма впечатляющая и компактная, почти не имела успешных постановок за границей. Или, может быть, причиной тому была неспособность публики на Западе представить себе общество, в котором «кто не знает, что он служит, тот служит лучше всех»[341]341
Žebrácká opera // Spisy. Sv. 2. S. 517.
[Закрыть]. Несмотря на то, что Гавел был удовлетворен результатом[342]342
Dopis Alfrédu Radokovi, 3. července 1975. KVH ID10855.
[Закрыть], возлагал на эту пьесу большие надежды и не раз просил Клауса Юнкера и других друзей найти для нее подходящую сцену, ни один из больших театров не проявил к ней интереса. За границей пьесу впервые поставил в марте 1976 года Teatro Stabile в Триесте.
«Опера нищих» Гавела явно была обречена остаться лишь подстрочным примечанием в анналах театра, однако отомстила за себя, войдя в политическую историю. Показательно абсурдным образом это произошло не по плану, а благодаря стечению обстоятельств, неверному выводу, наивности и изобретательности. Как это часто случалось в чешской истории, все началось с письма.
В марте 1975 года, повторив отложенную им ранее попытку, Гавел написал письмо Густаву Гусаку, который ловко и двурушнически повернул в выгодную для себя сторону кризис периода советского вторжения и его финал, чтобы достичь вершин политической власти в стране. Гусак был по-своему уникален тем, что его терпеть не могли и недруги, и союзники, и значительная часть населения. В прошлом политзаключенный, во времена сталинизма осужденный по обвинению в «словацком буржуазном национализме», он поначалу пользовался лишь ограниченным доверием постсталинистов, которые правили в Кремле. А как оппортунист, выступивший против Дубчека после клятв в верности курсу реформ, он приобрел в глазах многих своих сограждан репутацию предателя.
Непосредственным импульсом к написанию этого письма было не какое-то конкретное событие или годовщина такого события, а скорее патовая ситуация. Было бы неверно считать, что в предыдущие годы Гавел бездействовал: совсем наоборот. Он подписывал письма за освобождение политических заключенных, поддерживал других запрещенных писателей, организовал литературный салон и работал над пятью пьесами, каждая из которых так или иначе критиковала теперешнее положение вещей. Однако, переехав в Градечек, он на время оставил пражскую передовую линию фронта, с ее неусыпной слежкой и атаками госбезопасности. В отличие от многих других интеллектуалов, он не ждал милостей от режима и не искал их. При этом он сознавал, что, если он сам не сделает первый шаг, режим против него не выступит. Такое патовое состояние могло сохраняться долго, и оно больше устраивало власть, которая спокойно могла позволить ему истлевать в Градечке всю оставшуюся жизнь, так как вовсе не собиралась делать из него или кого бы то ни было мученика. Власть хотела только убрать его, бессильного и всеми забытого, со своего пути. Забвение творцы нормализации избрали своим главным методом. Но для активного человека искусства это было равносильно смерти. Поэтому Гавел понимал, что он должен действовать.
Письмо Гусаку, бесспорно, возникло не в результате минутного порыва. При чтении рассудительного, написанного без эмоций текста Гавела видно, что это не крик отчаяния и не бунтарский жест, а формальное объявление войны. В этом не оставляет сомнений уже обращение. Гавел не адресуется к Гусаку «Уважаемый товарищ…» или «Уважаемый господин генеральный секретарь», а использует формулировку «Уважаемый господин доктор», тем самым скрыто отрицая законность закрепления в конституции руководящей роли коммунистической партии и легитимность человека, ее возглавляющего.
По форме это письмо – безупречная реализация конституционного права граждан на петицию. Автор предлагает доктору юриспруденции, человеку, не лишенному интеллекта и – по крайней мере когда-то – пытливости ума, тщательный анализ истинного положения дел в стране, разительно отличающийся от подлакированного изображения, которое изо дня в день преподносили ему наемные писаки и льстецы.
В письме доминирующее психологическое состояние людей оценивается как «страх лишиться средств к существованию, положения в обществе и испортить себе карьеру»[343]343
Dopis Gustavu Husákovi, 8. dubna 1975 // Spisy. Sv. 4. S. 69.
[Закрыть], причем этот страх не коренится в чем-то конкретном. Его источник – всеобъемлющая система «экзистенциального давления»[344]344
Ibid. S. 71.
[Закрыть], воплощенного «в вездесущей и всемогущей государственной полиции. Этот чудовищный паук оплел все общество своей невидимой паутиной; это есть та крайняя точка, в которой в конце концов пересекаются все векторы страха, последнее и неопровержимое свидетельство безнадежности любой попытки граждан бороться с государственной властью»[345]345
Ibid. S. 72.
[Закрыть]. Парализующее влияние постоянного страха приводит к равнодушию, незаинтересованности и приспособленчеству. Человек низведен до уровня «существа, единственная цель которого – простое самосохранение»[346]346
Ibid. S. 79.
[Закрыть]. И все это совершается во имя революционной идеологии, «центром которой является полное освобождение человека»[347]347
Ibid. S. 75.
[Закрыть]. Это может вести лишь «к постепенной коррозии всех нравственных норм, к разрушению всех критериев порядочности и всеобъемлющему подрыву доверия к таким ценностям, как правда, принципиальность, искренность, бескорыстие, достоинство и честь»[348]348
Ibid. S. 82.
[Закрыть].
Гавел отлично понимал, что «уважаемому господину доктору» чертовски мало дела до происходящего с человеком и обществом и именно поэтому он закрутил гайки. Систематическое удушение всего спонтанного, оригинального и уникального в стране может иметь своим следствием только состояние паралича, который поражает как жертв, так и угнетателей. В Чехословакии был порядок, но не было жизни. Кажущееся спокойствие было покоем «как в морге или в могиле»[349]349
Ibid. S. 95.
[Закрыть].
В результате того, что общество было лишено какого-либо движения, сделалась избыточной и категория времени. В своем письме Гавел, быть может, впервые поднимает тему безвременья, к которой будет возвращаться еще не раз. Безвременье создает вакуум, который должен быть заполнен, «поэтому беспорядок в подлинной истории сменил порядок псевдоистории, творцом которого является, однако, не жизнь общества, а планирующий его чиновник. Вместо событий нам предлагают псевдособытия; мы живем от годовщины к годовщине, от торжества к торжеству, от парада к параду, от единодушно одобряемого всеми съезда к единогласным выборам и от единогласных выборов к единодушно одобряемому всеми съезду, от Дня печати к Дню артиллерии и наоборот»[350]350
Ibid. S. 97.
[Закрыть].
В качестве метафоры загнивания общества под руководством «господина доктора» Гавел приводит энтропический принцип второго закона термодинамики, одновременно указывая на врожденную способность всего живого сопротивляться энтропии. И хотя в письме не говорится о какой-либо временно́й границе, его автор не оставляет сомнений в том, какая из этих сил в итоге победит. «Губя жизнь, власть губит и себя саму – то есть в конце концов и свою способность губить жизнь… Как нельзя полностью уничтожить жизнь, так нельзя и навсегда остановить ход истории»[351]351
Ibid. S. 98–99.
[Закрыть]. Если бы письмо Гавела тогда же прочел Фрэнсис Фукуяма, то он, пожалуй, мог бы воздержаться от преждевременного пророчества, сделанного им через семнадцать лет[352]352
Fukuyama Y.F. The End of History and the Last Man. Free Press, 1992.
[Закрыть].
При ретроспективном взгляде из сегодняшнего дня смелость формулировок Гавела и их прогностическая мощь просто поражают. Мы говорим о Чехословакии 1975 года. Мятеж подавлен, реформы 1968 года разнесены вдребезги. В едином коммунистическом блоке звучат уже лишь отдельные голоса протеста. Американцы в панике и отчаянии эвакуируются из Сайгона. Хельсинкские договоренности, подписанные пару недель спустя, повторяют с видоизменениями вестфальский мир. Они придают легитимность Советам и их власти над вассалами, гарантируют территориальную неприкосновенность их империи и, как кажется, скрепляют постоянное разделение Европы на Восток и Запад. Подобное стремление к стабильности легко спутать с иллюзией неизменности. В действительности весь миропорядок времен холодной войны рухнет через четырнадцать лет.
Инициатива Гавела была не совсем единичной. Возможно, его вдохновило аналогичное письмо Александра Дубчека (в то время уже находившегося во внутренней эмиграции, в изоляции от общества и под непрерывным наблюдением госбезопасности) Федеральному собранию, написанное 28 октября 1974 года, в годовщину независимости Чехословакии. Между этими двумя письмами и в самом деле есть что-то общее. В том и другом звучит протест против далеко идущего нарушения прав человека, осуждается кошмар всепроникающего надзора госбезопасности над жизнью авторов и всего общества, выражается сожаление в связи с ширящейся атмосферой безразличия, доносительства, подозрительности и страха[353]353
Shawcross (1990). S. 211; Benčík (2012). S. 101–103.
[Закрыть].
Не получив ответа на первое письмо, Дубчек 2 февраля 1975 года отправил еще одно[354]354
Benčík (2012). S. 104.
[Закрыть], где повторил некоторые свои аргументы и присовокупил к ним новые доказательства незаконной слежки и нападок госбезопасности. Возможно, Гавел, который осенью 1974 года отложил первый набросок своего письма, теперь вновь сел за письменный стол и присоединил свой голос к протесту, зная о втором письме Дубчека.
Однако различия между письмами того и другого не менее важны, чем их сходство. Если Дубчек уделяет много места отстаиванию политики Пражской весны, убеждая своих мучителей вернуться к ней, то горизонт Гавела – в будущем, когда сама жизнь восстанет против парализованных правителей. Если Дубчек добивается реабилитации и возвращения во власть, то Гавел заявляет о своем непримиримом неприятии этой власти. Наконец, если Дубчек посвящает целые страницы жалобам на свою собственную судьбу, то для Гавела на первом месте судьба всего общества.
Что-то, должно быть, носилось в воздухе весной 1975 года в Чехословакии, когда грянуло сразу несколько публичных проявлений протеста и несогласия. Это было письмо Карела Косика Жан-Полю Сартру, где чешский философ возмущается опустошительным обыском у него дома, в ходе которого был конфискован и безвозвратно потерян целый ряд документов, в том числе единственная копия его последнего философского труда объемом в 1500 страниц[355]355
Le Monde. 29.06.1975.
[Закрыть], письмо Людвика Вацулика генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму, в которой этот демон чешской литературы описывает и осуждает подобное же насилие в отношении себя[356]356
The New York Review of Books. 30.10.1975.
[Закрыть], или (менее личного характера) критика в полемическом письме Зденека Млынаржа, одного из ближайших соратников Дубчека в 1968 году, адресованном центральному комитету КПЧ, от 14 апреля 1975 года[357]357
Benčík (2012). S. 111.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































