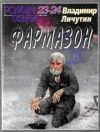Читать книгу "Вишневый омут"

Автор книги: Михаил Алексеев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Михаил Алексеев.
Вишнёвый омут
Часть первая
О чём не подумал – про то не расскажешь;
О чём не поплакал – про то не споёшь.
1
Омут кругл, глубок и мрачен. Никогда не меняет он своего угрюмого цвета. Светлые, золотистые воды Игрицы, впадая в него, мгновенно темнеют, становятся густо-красными, а вырвавшись на волю, тотчас же обретают прежнюю прозрачность.
У омута нет дна. Так полагали все. Случалось, что находился человек, который этому не верил – как нет дна? – и делал попытку измерить глубину его. А потом роковым образом исчезал – так-то мстил омут маловеру.
До сих пор никому ещё не удалось проникнуть в тёмную бездонную душу омута и познать его. Легенды о нём, одна страшнее другой, передавались из уст в уста, из поколения в поколение. С годами они причудливым образом видоизменялись, сохраняя постоянной лишь мрачную свою окраску. Кто-то кого-то убил и, пряча след, бросил жертву в омут. Какой-то безумец вздумал искупаться, «мырнул в омут, да так и не вымырнул». Какая-то красавица опустила в него помыть свои белы ноженьки и была затянута, завлечена в его глыбь. Кто-то нехорошо выругался, упомянул всуе дьявола, и сам неведомо как очутился в омуте – с той поры все затонские матерщинники, проходя мимо омута, напускали на свой лик ангельское благолепие и взамен бранных слов истово твердили: «Господи, спаси и помилуй мя, грешного!» Нашёл свой смертный час в омуте и некий священник, погрязший в мирских делах: употребив «зелёного змия» сверх всякой меры, тёмной ночью возвращался он от молодухи и кубарем скатился с высокого берега; поутру прихожане из большого и старинного селения Савкина Затона всем миром-собором вышли с сетями, баграми, шарили, шарили, да так и ушли ни с чем; одному только мальчонке удалось зацепить удильным крючком поповскую камилавку, и это было всё, что осталось от батюшки.
Таинственная, колдовская сила омута почему-то особенно манила к себе молодых барынь. По свидетельству затонских стариков, утонуло их там несть числа. Влюбится, глупая, в заезжего гуляку-гусара, тот проведёт с нею ночь – и поминай как звали. Рвёт на себе косы барынька, ломает рученьки, а потом вдруг вспомнит про омут, камень на шею – и бултых! Чёрные круги медленно разойдутся во все стороны, посеребрятся под луной, успокоятся, и, затихнув, угрюмый и загадочный, омут ждёт очередной жертвы. Он окружён талами, высоченной крапивой, горькими, в великанский рост лопухами и папоротником; всё это туго спуталось хмелем, колючими плетями ежевики, удав-травой и сделало берега омута малодоступными. Лишь узкие тропинки рыбаков робко пробираются сквозь эти заросли, но и рыбаки бывают тут редко: недобрая слава омута пугает и их. А рыбы в омуте великое множество: караси размером и цветом напоминают давно не чищенные медные самовары, сазаны, лещи, окуни, щуки, лини, сомы.
Омут называется Вишнёвым, а почему, никто не знает. Самые давние жители Савкина Затона, такие, как бабка Сорочиха, не помнили, чтобы по берегам его росли вишни. Может быть, нарекли его так за тёмно-красный цвет, может быть, за то, что уж очень много, ежели верить легендам, людской кровушки цвета спелой вишни пролилось в вечно студёные воды омута и окрасило его.
Прохожих, всех без исключения, при виде омута охватывала оторопь. Девчата миновали его не иначе, как рысью и с отчаянным визгом. А богомольные старухи обходили далеко стороной.
Один только человек не страшился Вишнёвого омута и часто подолгу засиживался на самом крутом и пугающем берегу его. Это был Гурьян Дормидонтович Савкин. Его смелости, однако, никто не удивлялся, потому как давно всем было доподлинно известно, что Гурьян с нечистой силой омута заодно, что он с нею на короткую ногу. Самого Гурьяна односельчане боялись пуще дьявольской силы омута. Сказывают, он и жену подобрал под стать себе: жена его Февронья Жмычиха – колдунья. Карпушка Колунов, например, своими глазами видел, как Жмычиха в глухую полночь заплыла на самую середину Вишнёвого омута и три раза кряду проблеяла по-козлячьи.
По имени Савкиных было названо и село.
Позднее, правда, у Гурьяна появился опасный соперник. Появился совсем незаметно, тихо и в короткое время оказался предметом всеобщего и удивлённого внимания. Он не сворачивал чужих скул в кулачных побоищах, не убивал потехи ради одним ударом полуторагодовалого быка, как это делал Гурьян, не засиживался до глухой поры у страшных берегов омута, не мял в тёмных углах зазевавшихся молодаек, не пускал по миру неугодных ему затонцев. Светло-русый и вообще весь какой-то светлый, с весёлыми и добрыми, тоже светлыми, глазами, высокий, чуть-чуть сутулившийся, человек этот взошёл однажды на высокую плотину, повернулся спиной с закинутыми за неё тяжёлыми руками к Вишнёвому омуту, долго глядел на противоположный берег Игрицы, а на другой день его уже видели там, на левом берегу. Напевая что-то себе под нос, он один, без чьей-либо помощи, рубил и выкорчёвывал дубы, осины, вязы и паклёник. Лошади у него не было, и срубленные деревья он оттаскивал сам.
Попрятавшиеся в кустах бабы всё это время наблюдали за ним. Их особенно удивило то, как незнакомый им человек, похоже, «странний», копал землю. Он не нажимал на заступ ногой. Лопата как бы сама, от лёгкого усилия рук погружалась в почву.
– Силища-то, бабоньки! А ить молоденький! – шептала горячо какая-нибудь и, вдруг примолкнув, думая, видно, про что-то своё, бабье, глубоко, сожалеюще вздыхала, не спуская тоскующего, зовущего взгляда с запотевшей шеи и упруго шевелящихся под холщовой рубахой лопаток работника.
Через несколько дней против омута, за речкой Игрицей, люди увидали небольшое солнечное пятно – маленький кусок земли, освобождённый от лесного плена, а на куске этом – молчаливого парня, вытиравшего белым рукавом рубахи пот с весёлого, открытого, улыбающегося лица. Девушка, проходившая напротив, видать, на мельницу, что стояла на правом берегу Игрицы, недалеко от Вишнёвого омута, невольно задержалась, а глянув украдкой на молодого светлого человека и как бы загоревшись от него, вспыхнула жарким пламенем и убежала, а потом долго не могла унять, угомонить разбуянившегося в груди сердечка. Рядом с этим парнем Гурьян Савкин, пришедший понаблюдать за странными делами незнакомого ему человека, казался ещё темнее, чем был на самом деле. Грубо вырубленные черты его выступали особенно чётко, и думалось, что сам сатана вышел из леса и зрит на дела человеческие с угрюмым неудовольствием. Бабы, ожидавшие со страхом, что Гурьян сейчас же ударит незнакомого человека пудовым своим кулачищем, немало подивились, когда Савкин постоял, постоял да так же молча и удалился прочь, не причинив парню никакого зла.
2
Окружив плотным кольцом «гулю» – великую бутыль с водкой, грузчики, оживлённые, с маслено блестящими, загорелыми лицами, нетерпеливо поглядывали на старшего артели, который, как бы испытывая стойкость своих товарищей, не спеша, тщательно протирал грязной тряпкой жестяную кружку. Потом, очевидно, с той же целью, приподнял кружку на уровень глаз и, прищурясь, долго изучал её, полуоткрыв рот. И только потом позвал:
– Мишка, подходь, что ли…
Старший артели, да и все грузчики хорошо знали, что парень, к которому были обращены эти слова, не подойдёт и не примет участия в весёлом распитии «гули», но «для порядку» приглашали и его.
– Потчевать можно, а неволить нельзя, – философски заключил после небольшой паузы старший, довольный, похоже, тем, что полагающийся в подобных случаях порядок соблюдён им полностью, что внимание к непьющему товарищу проявлено, совесть компании теперь чиста и, следовательно, можно спокойно начинать. К тому же по времени это совпало с той критической минутой, когда терпение ожидающих истощилось и когда один из них, щупленький, с быстрыми тёмными глазками паренёк, неизвестно почему оказавшийся в артели грузчиков, жалостливо протянул:
– Давай, Фёдор, не томи душу.
– А ты, Карпушка, заработал? – угрюмо спросил старший.
– Креста на тебе нет, Фёдор! Как бы не я…
Грузчики засмеялись. Старший артели перекрестил зияющий чёрной дырою в густой волосне усов рот и начал медленно под тоскующими взглядами остальных выливать в него из кружки водку. Острый кадык его при этом ритмично дёргался. Вторую кружку он наполнил для Карпушки, который торопливо схватил её обеими руками, по-птичьи запрокинул курчавую голову и в один миг вылил в себя – только что-то уркнуло в его горле. Перекрестился уже после того, как вытер тыльной стороной ладони губы. Потом, коротая время, необходимое для того, чтобы старший обнёс всех и приступил к разливанию по второй, Карпушка стал лениво глядеть на Волгу, наблюдать за грузчиками другой артели, перебрасывавшими с баржи полосатые астраханские арбузы. Это, однако, мало заинтересовало Карпушку, и он вновь стал тормошить Фёдора, чтобы тот не задерживался.
– Время не ждёт, Фёдор. Поторапливайся.
– Ишь ты, какой ретивый! Вот бы ещё в работе был такой же проворный… Ладно, ладно! На уж вот, хлобыстни ещё лампадку да отчаливай к Мишке, а нам не мешай. Мы соснём часок.
Карпушка притворно вздохнул и стремительно опрокинул предложенную ему вторую. Затем крякнул, изучающе глянул на остаток в бутыли, вздохнул ещё – на этот раз уж без всякого притворства – и нехотя побрёл к Михаилу Харламову. Тот лежал на песчаном откосе навзничь, положив большую свою светло-русую голову на закинутые руки, и синими, как это небо над Волгой, глазами смотрел вверх. Тихо, по-украински мягко пел:
Дывлюсь я на небо
Тай думку гадаю:
Чому я не сокiл,
Чому не литаю…
Карпушка своим приходом спугнул песню. Михаил, заслышав шаги, приподнялся, сел, обхватив согнутые в коленях ноги.
– Ты всё песни играешь, хохол?
– Играю, Карпушка. – Михаил улыбнулся чему-то, глаза его заблестели, увлажнились. – Есть у меня, друже, одна думка, велика думка… Ты был на Украине?
– А то рази! Я, Михайла, везде перебывал за свою короткую жизнь. И у хохлов, и у мордвы, и у татарьев, и у армянцев, и даже у турков был!
– Был, значит, на Украине. Добре. Видал, сколько там садов? Вернусь в Панциревку, куплю у Гардина за Вишнёвым омутом немного земли и посажу добрый сад, такой, какой был у нас на Полтавщине. Чтоб было в том саду всё: яблони, вишни, тёрн, сливы, смородина, крыжовник, малина. Буду возить яблоки да ягоды в Саратов, продавать жирным купчихам, а на вырученные карбованцы покупать хлеб. Добре? Женюсь я… знаешь, Карпушка, на ком? Такая дивчатко!..
– Как не знать? На Ульке Подифоровой, чай, надумал? Так, что ли? Только не отдаст за тебя свою дочь Подифор. Как пить не отдаст! Бедные мы с тобой, Михайла. Одно слово – грузчики. Я уже заработал грыжу, скоро и ты её, голубушку, заполучишь. Вот и привезём это богатство: ты – в свою Панциревку, я – своей Маланье в Савкин Затон. К тому же мы оба с тобой странние… – Карпушка говорил и не глядел на товарища, а когда глянул, так сразу же осёкся: Михаил лежал, плотно зажмурившись, и побелевшие губы его под светлым пушком усов вздрагивали. Испугавшись, Карпушка поспешил исправить положение: – А кто его знает, может, и отдаст. Он не такой зверюга, как, скажем, Гурьян Савкин. Помягче маленько. Да и ты теперь при деньгах… Небольших, но всё же при деньгах. Хозяином будешь. И я помогу тебе. Сам пойду за свата. От меня ни один пёс не отобьётся, Так окручу этого Подифора, что без всякой кладки отдаст за тебя Ульяну, да ещё жеребёнка-двухлетка и тёлку-полуторницу выделит в придачу. Зачнёте жить-поживать, как в сказке.
При последних его словах Михаил открыл глаза и невольно улыбнулся. Потом опять насупился.
– Не уговаривай меня, Карпушка. Сам знаю, что не отдаст добром. Но ведь я ж хохол! – вдруг закричал Михаил. – Понимаешь, хохол! Хохол упрямый! Я им покажу всем. Вот увидишь. И Уля будет моя. Никому не отдам!
– И не отдавай. Они ведь, бабы, какие? Их красотой да силой надо брать. Вот тогда они сами вцепятся, как репьи в собачий хвост, – не отдерёшь. Был у меня, Михайла, такой случай… Погодь, сейчас вернусь и расскажу тебе всё по порядку. – Карпушка проворно вскочил на свои короткие ноги и мигом очутился возле артельного, который собирался разлить грузчикам остаток, – вероятно, в продолжение всего разговора с Михаилом Харламовым Карпушка зорко наблюдал и за артелью, где оживление достигло того уровня, когда никто никого не слушает и говорят все сразу, бурно, горячо.
Получив свою толику и не опасаясь далее за всё прочее, так как «гуля» была уже пуста, Карпушка вернулся к Михаилу.
– Бабы, они – зверь капризный, – усаживаясь поудобнее возле приятеля, начал он, захмелевший и размягчённый. – Был со мной такой случай… Ты, Михайла, наверно, помнишь барина Ягоднова? В двух верстах от Панциревки усадьба-то его?.. Ну да, конечно же, помнишь! Сейчас бог знает как он там. Может, с тоски руки на себя наложил, а может, укатил куда с глаз долой… Ну и жену его, красавицу, помнишь небось? Утопилась в Вишнёвом омуте, сердешная, – а отчего утопилась, знаешь?
– Слыхал. В гусара, говорят, влюбилась, кохалась с ним, а он утёк от неё.
– В гусара, – обиженно передразнил Карпушка. – Много ты знаешь! Вот слушай, а не болтай пустое. Через неё, барыню, и очутился я на Волге, грузчиком вот пришлось вместе с тобой стать. Любил меня Ягоднов-то Владислав Владимирович. Я у него поначалу в работниках, а потом в приказчиках служил. А за что любил? Вот сейчас расскажу… Было нас у Ягоднова два работника: я да Афонька Олехин, он теперь в Савкином Затоне околачивается, Гурьянову сынку, Андрюхе, прислуживает. Выгнал его Владислав Владимирович. А за что выгнал? За лень, за дурость Афонькину. Однажды вот какое дело было. Пристал Афоня к барину: «Почему Карпушке платите больше, чем мне?» Мы с ним, мол, в одинаковом чине-звании состоим. А Ягоднов ему говорит: «Вот сейчас я тебе всё объясню, дурья твоя голова. Видишь, вон по выгону стадо овец идёт? Бегите с Карпушкой и узнайте, что за овцы». Ну, мы и пустились во весь дух. Узнали. Возвращаемся. Дал он нам отдышаться и спрашивает Афоню: «Ну, Афанасий, докладывай, что ты там увидал?» Афоня выпалил: «Овцы шереметьевские, вашескородие!» – «И всё? Больше ты ничего не узнал?» – «Всё, вашескородие!» – отвечает Афоня. Тогда Владислав Владимирович ко мне: «А ну, Карпушка, докладывай теперь ты». – «Овцы шереметьевские, говорю, гонят их из Панциревки в Шереметьевку на убой. Мясо на базаре подорожало. Овец в гурте двести штук – пятьдесят ярок, все перетоки, и сто пятьдесят баранов. Две овцы по дороге сдохли, три захромали, у одной в хвосте завелись черви, потому как собака её покусала…» – «Хватит, Карпушка. – перебил меня барин и к Афоне: – Теперь ты понимаешь, олух царя небесного, почему я Карпушке плачу больше, чем тебе, хоть вы с ним и исполняете у меня одинаковую должность? Пошёл вон, говорит, видеть тебя не могу больше!» А меня любил, не хвалясь, скажу, любил. Вскорости после того случая с Афоней перевёл меня в приказчики, и я у него всем хозяйством распоряжался. Владислав Владимирович мне всё доверил, а сам то в Москву укатит, то в Петербург на цельну зиму. Барыню не брал с собой. Ну, вот… и попутал нас с ней нечистый, околдовал. Приглянулся я Людмиле Никаноровне…
Михаил крякнул в этом месте Карпушкиного рассказа, а Карпушка, как бы не заметив этого ехидного знака, продолжал, всё более воодушевляясь:
– Выучила меня мазурку плясать. Француженка, тонкая и скрипучая, как сухая жердина, играет на фисгармонии, а мы с ней, с барыней, пляшем… Дальше – больше… Людмила Никаноровна стала уже помаленьку меня к себе в покои заманивать, в будувар по-ихнему, по-господски. Ну и… Бывало, лежим с ней в пуховиках, диколоном спрыснутые, а в груди так и ёкает, так и ёкает: не ровен час вернётся барин. Хочу удалиться, удрать, по-нашему, а она не пускает, целует, да и только. «Я, говорит, без тебя, Карпушка, жить не могу. Ежели, говорит, ты уйдёшь, спокинешь меня, то я утоплюсь». Вот чего надумала!.. Выдал нас слуга, немец, колбаса вредная, ни дна бы ему ни покрышки! «Поглядывайте, говорит, герр ваше превосходительство, за приказчиком-то. Не гут он, с барыней балует». А нам с Людмилой Никаноровной и невдомёк, что беда уж близко, что барин всё уже знает. Лежу это раз у себя в горнице, и, помню, хороший сон мне снился. Во сне всё звал её к себе, знаешь. А барин рядом был, ну, он и услышь. Тихонечко подкрался ко мне, да ка-ак стеганет плетью! Я подскочил. А он меня хлещет, а он хлещет! Куда ни кинусь – везде достаёт. Секёт и приговаривает: «Береги разбойник, свою красоту для других, а не лезь к чужой бабе!» Ну, выделал он меня, разукрасил в разные цвета по всем правилам. А потом – барыня ко мне, а я от неё. С той поры вот и хожу с рассечённым ухом…
– А говорят, тебе Подифоров кобель уши-то порвал?
– Дураки говорят, а ты их слушаешь. Брешут, сволочи!
– Ну, а что с барынею?
– Известно что. Говорю, утопилась. Высохла вся, тоньше француженки стала, когда я насовсем исчезнул из ихней усадьбы. Почахла так с неделю, а потом прибежала к Вишнёвому омуту, камень на шею и…
Карпушка умолк и долго смотрел на сидевшего всё в той же позе Михаила. Понял, что рассказанная им история нисколько не развеселила товарища. В синих глазах его, чуть потемневших от расширившихся зрачков, тлели, разгораясь, напряжённые огоньки.
Михаил Харламов, а также все, кто был знаком с Карпушкой, знали, что в большинстве случаев вымыслом в его диковинных историях было далеко не всё. Чаще Карпушка только приукрашивал, сдабривал собственной неистощимой фантазией то, с чем приходилось сталкиваться ему в его скитальческой, горькой, до смешного приключенческой жизни. Кто знает, может быть, это приукрашивание было единственным щитом, которым Карпушка прикрывался от бесчисленных ударов неласковой к нему судьбы? Так это или иначе, но, чтобы пустить про себя какую-нибудь весёлую историю, он нередко не останавливался даже перед материальными лишениями. Ему нравилось, когда люди добрые, страсть как охочие до всяких историй, говорили про него:
– А вы слыхали, что опять с Карпушкой-то сотворилось?
Как-то в один из весенних дней, когда вокруг Савкина Затона бушевало половодье, Карпушке захотелось удивить соседа, хитрого мужика Подифора Кондратьевича Короткова. Карпушка купил у затонского рыбака Гришки Аиста десять живых, только что вытащенных из вентерей щук, пустил их себе под печку, куда заходила по весне вода, а сам побежал к Подифору.
– Шабёр! – торопясь, заговорил он. – Бери скорее сак, пойдём у меня в избе щук ловить. Спокою мне от них нету: бултыхаются, проклятые, под печкой. А сама боится: водяной, говорит, там. Бежим, кум!
Кум, конечно, сразу же смекнул, в чём дело, но виду не подал. Напротив, изобразил на своём лице крайнее удивление:
– Да ну! Не может быть!
– Вот тебе крест!
– Пойдём, Карпушка, пойдём!
Выловив щук, Подифор Кондратьевич сейчас же собрался домой.
– А мне толику! – крикнул удивлённый Карпушка, видя, что сосед уносит всех щук.
– А тебе за что? – полюбопытствовал Подифор Кондратьевич. – Снасть-то моя. Купи, коли хочешь угостить свою Маланью рыбкой… Ну, бывай, Шабёр, а то мне неколи, на гумно пора ехать. Ежели ещё заплывут щуки, зови. Приду выручу!
– Выручил волк кобылу… – гневно заговорил Карпушка, но Подифор Кондратьевич уже успел хлопнуть дверью.
Так и пошла-поехала по селу новая история из странной жизни Карпушки, появившегося в Савкином Затоне годов шесть назад неизвестно откуда. Генеалогическое древо Карпушки не могла установить даже бабка Сорочиха, хоть ей и нельзя было отказать в усердии. Сорочиха обошла всю округу, побывала во всех окрестных сёлах и деревнях, наведывалась даже в барскую усадьбу, чтобы у самого Ягоднова выведать кое-какие подробности о его бывшем работнике, но и Ягоднов не мог сказать что-либо вразумительное. От самого же Карпушки и вовсе нельзя было узнать ничего путного. Он начинал изъясняться до того туманно, вспугивал в памяти своей столько событий, не относящихся к делу, что и стоически терпеливая Сорочиха в конце концов не выдерживала и, не дослушав до конца, сердито поджав губы, удалялась. А Карпушка, ухмыляясь, приговаривал вслед ей:
– Ну и чёрт с тобой, старая ведьма. Уходи!
Впоследствии Сорочихе удалось всё же как-то выяснить, что ещё младенцем Карпушка был подкинут бедной матерью, по нечаянности родившей его в девках. Вырос он у чужих людей, затем скитался бог знает где. В Савкином Затоне объявился восемнадцати лет от роду, женился на одинокой Меланье, которая была старше его на целых семь лет и с которой что-то не ладилось у Карпушки. Видать, не от хорошей семейной жизни подался он на Волгу.
Теперь же, узнав о том, что его друг решил возвратиться к матери в Панциревку, Карпушка сообщил Михаилу, что вернётся вместе с ним и попытается помириться с Меланьей.
– Довольно я погнул хребтину на этих саратовских купцов, – сказал он. – Поехали-ка, Михайла, в самом деле, домой. Бог не выдаст – Маланья не съест!