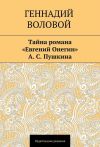Текст книги "Тамарин"

Автор книги: Михаил Авдеев
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
В восемь часов вечера я приехал в дом Мавры Савишны. Он был освещен, но пуст; в гостиной был разостлан ковер, двери во внутренние комнаты затворены.
Меня встретил Иван Васильич, который одиноко прогуливался по зале и гостиной.
Боялся ли он, что я сержусь на него, или подшепнул ему его добрый инстинкт, что мое положение в настоящем случае вовсе незавидно, только он все вертелся около меня, и заглядывал мне в глаза, и страшно надоедал своей внимательностью.
– А невеста? – спросил я.
– Одевают-с, одевают ее, Сергей Петрович! – отвечал он как-то жалобно и при этом опять посмотрел мне в глаза.
Я отвернулся, зевнул и усердно замолчал. Иван Васильич, видя, что со мной делать ему нечего, начал передвигать свечи и ногой поправлять ковер. А у косяка двери стоял Савельич, в черном неуклюжем фраке, и приглаживал с затылка на лысину свои длинные седые волосы.
Через четверть часа скучного ожидания растворились внутренние двери, и хлынула толпа девиц с розовыми, улыбающимися личиками и влажными глазами. Вошла и Мавра Савишна. Глаза ее были красны от слез: она мне ласково поклонилась, но ее обыкновенно радушно-говорливые уста были замкнуты грустью и волнением. Вслед за ней вышла и Варенька.
На ней был обыкновенный свадебный наряд. Белый вуаль падал на белые плечи, и на русой головке дрожал венок – символ невинности. Варенька была бледна, но спокойна. Она не плакала, но по временам слезы выкатывались и падали из темно-голубых глаз.
– Благодарю вас, Сергей Петрович, что вы не отказались быть моим шафером, – сказала она, увидя меня.
– Мне надобно благодарить вас за доставленный случай быть свидетелем вашего счастья, – отвечал я.
Она повернулась и села как усталая, а я стал между девицами и в первый раз в жизни не принудил себя быть любезным, когда должно.
– Вы что-то невеселы, Сергей Петрович, – сказал около меня какой-то сладенький, тоненький голос.
Я обернулся и увидел Надежду П*. Она глядела на мена докрасна натертыми глазами и силилась придать им выражение растроганного добродушия.
– Чему ж мне радоваться? – спросил я.
– Однако ж неотчего и грустить, я думаю, – заметила она.
– От этого я и не грущу, – отвечал я; но Наденька не хотела отстать и, казалось, дала себе обет надоесть мне до невозможности.
– Впрочем, на меня ведь свадьбы тоже всегда производят неприятное впечатление. Грустно видеть девицу, которая отрывается от дому, от матери и вступает в новую жизнь, где еще Бог знает что ожидает ее! Не знаю отчего, но я всегда смотрю на невесту с сожалением.
– А сознайтесь, вам очень бы хотелось быть невестой, – сказал я, не утерпев, и прямо посмотрел ей в глаза.
– Вы нестерпимы! – сказала она, отворотясь и уходя от меня.
Мне давно хотелось ей сказать то же самое, но я был скромен и ограничивался одним желанием.
Вскоре приехал шафер жениха, молоденький мальчик, бывший сослуживец Имшина, и объявил, что он в церкви. Тогда стали благословляв Вареньку. Сперва благословила ее Мавра Савишна, и, приняв благословение, Варенька упала в ее объятия, и обе зарыдали.
Отчего рыдали они? К чему этот безотрадный болезненно разрывающий душу плач? Уж не грустное ли это предчувствие чего-нибудь недоброго?
Мне было досадно смотреть на них! Одна выходит замуж по своему выбору, другая отдает дочь по своему желанию. Расставаться им не приходится, а плачут, плачут, как о покойнике!
Кто ж этот покойник? Ты, девичья воля? Ты, запрещенное право отдать любому свое сердце?..
Будущее! Таинственное будущее – вот что пугает вас! Вот что, как детей, заставляет вас плакать! Неужели оно так страшно? Я не знаю… я давно не вижу его перед собой!
Слезы, как и смех, заразительно действуют на нервы. Мне был непонятен, мне досаден был плач Вареньки и ее матери, а между тем я крепко закусил губу, чтобы удержать непрошеную слезу.
Потом благословил Вареньку Иван Васильич и, прощаясь с ней, в буквальном смысле слова, облил слезами ее руку.
Потом она простилась со своими подругами, и подруги ее, все в белом, оплакивали ее, как весталки ту неосторожную, у которой потух священный огонь…
А двум из этих весталок было под тридцать, и многим давно и сильно хотелось потушить свой огонь!
Когда Варенька прощалась со своей Наденькой, я удивился, как не обжег ее иудин поцелуй этого друга!
И, простившись, девицы, как резвая стая передовых птиц, поспешили в церковь.
– Не забудь дернуть за меня скатерть, когда будешь вставать из-за стола, – уезжая, шепнула Наденька своей подруге-невесте. Они уехали, и нас осталось немного. Варенька села и спросила себе стакан воды; она так устала, бедная! Я подал ей его; она выпила, успокоилась и сказала мне:
– С вами, Тамарин, я прощусь с последним.
– К чему прощаться: мы еще увидимся, – отвечал я.
– Нет, вы уж не увидите больше Вареньки! – тихо сказала она. В это время доложили, что подана карета. – Ну, теперь прощайте, Тамарин! – сказала она, подавая мне руку. – Прощайте! – И голос ее вдруг задрожал.
Я наклонился и поцеловал ее руку. Но меня страшно поразил холод этой руки: мне показалось, что она была мертвая! Кровь прилила у меня к сердцу, и, когда я приподнял голову, я, должно быть, был страшно бледен.
Варенька взглянула на меня и грустно улыбнулась. Мы поехали в церковь. Вареньку повезла одна почтенная дама, которая была посаженой матерью. Храм горел огнями и был полон народу. Я вошел вслед за невестой и с любопытством наблюдал за нею. Она была спокойна, но бледна и холодна как мраморная. В лице у нее не было ни кровинки, только резко обозначились синие жилки, да белый венок дрожал на голове.
Клирос запел приветственную песнь, и как голубица прошла Варенька к налою между двух стен расступившейся толпы, и одобрительный шепот пробежал по этой толпе. Началось венчание.
Варенька первая вступила на подножие, но свеча ее сгорела больше, чем у жениха.
Я не знаю, нервы ли мои были расстроены, или их раздражила грустная сцена прощания, которой я был свидетелем, только все, что я видел в этот день, всякое незначительное происшествие как-то резко ложилось на мое воображение и болезненно потрясало его. А между тем я обменял кольца четы, я все время держал венец над Варенькой.
Наконец все кончилось. Пошли обнимания, целования, поздравления! Все лица прояснились; те, которые навзрыд плакали за полчаса, теперь весело и радостно улыбались. О чем сокрушались они тогда! Чем они так довольны теперь? И их радость сердила меня, как сердили их слезы!
Все приехали в другой дом: Варвара Александровна Имшина была хозяйка этого дома.
Все в ее новом жилище было хорошо: просто, комфортно и мило; видно было, что женский, но предусмотрительный и внимательный взгляд позаботился обо всем.
Мавра Савишна была тут в гостях; она говорила: «Пусть их обживутся одни, узнают друг друга, а я перееду к ним после».
Приглашенных было много: вся губернская знать и, по заведенному порядку, все значительные должностные лица. Было и дам много; но девиц тут не было… И неловко было положение молодой, и она как-то робко посматривала вокруг, и как будто с грустью искала глазами оставивших ее подруг.
А тут еще докучные остряки, со своими плоскими намеками да двусмысленными улыбками!
Было всякое угощение, а потом и ужин; пили здоровье каждого порознь, и всех вообще… пили и мое здоровье! Как будто им было нужно оно на что-нибудь! Наконец все стали разъезжаться. Сначала Варенька, казалось, была довольна этим: ее так утомила тревога дня! Но потом, когда незнакомые ей комнаты начали пустеть, и реже и реже был круг близких ей людей, она становилась задумчивее и печальнее. Уехал и Иван Васильич. Пришлось наконец ей проститься и с Маврой Савишной; и тут они немного опять поплакали.
Оставался я один, благодаря моей обязанности шафера и весьма плохого и ленивого распорядителя; и, признаюсь, по какому-то странному капризу я рад был случаю подолее не уезжать. Но наконец и я должен был ехать. Когда я подошел проститься с молодыми, Варенька, как будто поджидая меня, стояла грациозно, положив руку на плечо своего мужа. Володя был румян и доволен как нельзя более; он от души благодарил меня; он был, казалось, так счастлив, что любил и меня! Варенька была рассеянна; но когда я поклонился ей, она мне весело подала руку; глаза ее оживились, и мне показалось, что в них блеснула горькая и злая насмешка…
В эту минуту я дорого бы дал, чтобы бросить при ней всю ее прежнюю любовь в довольное лицо ее мужа!
Я вышел, и они остались одни…
И теперь, когда давно спит весь добрый люд и только одни петухи горланят на дворе соседа, я сижу одни и нахожу болезненное наслаждение перебирать и записывать происшествия этого дня. Отчего же не спится мне; отчего, возвратясь домой, я ходил по комнате до упада, и кровь беспокойно кипит во мне, и я чувствую какую-то тупую боль в сердце; отчего я переживаю такие трудные минуты? Ведь не влюблен же я, в самом деле, в Вареньку? Ведь я же не хотел жениться на ней и сам толкнул ее в руки Имшина! Все от меня зависело… и не сидел бы я тогда один у заваленного книгами стола да не марал бы бумаги вплоть до рассвета, назло моему камердинеру, как теперь, например!
А они?..
(Тут в рукописи, вместо точек, стояла страшная, раздвоившаяся клякса, как будто перо ударилось о бумагу и разщепилось вплоть до руки.)
Я был болен. Доктор нашел, что у меня разлилась желчь. Я это знал и без доктора. Он прописал мне микстуру и велел сидеть дома. Микстура была невыносимо противна, и потому я через час по ложке аккуратно выливал ее за окно. Когда я вылил три склянки, доктор объявил мне, что я совершенно здоров, и я заплатил ему за визиты с величайшей благодарностью. Тогда он дал мне совет больше выезжать и меньше обращать внимание на чужие глупости. Я нашел совет лучше лекарства и решился строго держаться его.
У Имшиных я бывал сначала редко: я не мог равнодушно видеть Вареньку женой другого; но потом я хотел пересилить это чувство и нарочно начал чаще бывать у них; однако ж привычка не избавила меня от какого-то болезненного сжатия сердца, которое я чувствую всякий раз, когда вижу Имшина. Напротив, час от часу впечатление делается сильнее и больнее, час от часу я становлюсь раздражительнее. И теперь я нахожу странное удовольствие в этом чувстве: я с какою-то гордостью подставляю свое сердце под эти мелкие удары и холодно смеюсь над его болью.
Как скоро изменилась Варенька! Как легко она вошла в свою роль! Когда я приехал к ним в первый раз после болезни, я почти не узнал ее! Вместо осторожной, связанной этикетом девицы я нашел грациозную, миленькую даму, которая будто весь век была ею.
Меня всегда поражала способность наших девиц становиться сразу в ту среду, в которую ее вводит перемена положения; и натура удивительно эластична: она тотчас принимает новые формы. Мужчина в этом случае гораздо грубее: ему надобно долго обнашивать свою женатость, чтобы свободно носить ее, а не то она сидит на нем как дурно сшитое платье; но это очень понятно! Оттого-то на сто смешных мужей встречается одна смешная жена.
Я не ухаживаю за Варенькой, – не потому, чтобы это было слишком рано, а из боязни уронить себя в ее глазах: я уверен, она бы оскорбилась и не простила бы мне моего волокитства. Но, сознаюсь, меня что-то влечет к ней. Что? Не знаю! Может быть, привычка, прелесть потерянного или, наконец, избалованное самолюбие, которое беспрестанно запрашивает более и более. Впрочем, надобно и то заметить, что теперь Варенька не деревенская девочка: она имеет всю заманчивую привлекательность женщины, да еще вдобавок так недавно выстрадавшей опытность. Еще одна новая, тщательно скрываемая черта Варенькиного характера притягивает меня своей загадочностью: мне удалось подметить в ней какую-то внутреннюю сухость, какой-то душевный холод, который изредка пробивается сквозь ее грациозную непринужденность манер и странно противоречит с ее видимой веселостью.
Что это? Следы ли прошлого, не совсем залеченного страдания, или – и самолюбие подшептывает другую догадку – или остаток прежней, против воли тлеющей любви?
Все это вместе очень интересует и привлекает меня. К тому же она так самонадеянно беспечна, так равнодушно мила, что это меня сердит, особенно когда я вспомню, что не могу притупить глупую боль моего сердца!
Нет, я недоволен собой! Я веду себя как мальчишка! Характер мой испортился до того, что я готов бы был его бросить и остаться совсем без характера, что всего хуже на свете. При Вареньке я то лихорадочно весел, то зол, как цепная собака; без нее мне скучно. Я едва удерживаю себя, чтобы не бывать у нее каждый день, и только мои всегдашние странности избавляют меня от замечаний света. Если я весел, говорят: Тамарин сегодня в духе; если я зол, говорят: у Тамарина желчь, и дело с концом. Все знают, что то и другое у меня бывает без причины, и моя прочная репутация холодного эгоиста прикрывает меня.
А Варенька все по-прежнему мила и равнодушна – кажется, еще милее, еще равнодушнее! А глупое сжатие сердца еще сильнее! Что ж это, ревность, что ли? И к кому же? К Володе, к мужу!.. Досадно!
Недавно мы случайно остались вдвоем с Варенькой. Она что-то работала по канве и опустила голову. Я сидел прямо против нее, на низком кресле. Две свечи стояли на пяльцах, и между ними, как в святочных гаданьях, мне видна была головка Вареньки. Я воспользовался своим положением, чтобы незаметно для нее полюбоваться ею. Варенька похорошела. На ее лице нет живости деревенского румянца, но его сменил легкий розовый оттенок. Лицо это, одушевленное чудесными темно-голубыми ясными глазами и двумя ямками на щеках, окаймленное густыми, русыми, гладко причесанными волосами, делало ее головку такой оживленной, и эта головка была так мило поставлена, так проникнута полнотою созревшей мысли, что я с наслаждением любовался ею… Я продолжал смотреть в ее темно-голубые глаза и искал в них признаков смущения и беспокойства, но были они тихи, ясны смело остановились на мне. Прошла долгая минута ожидания. Наконец по устам Вареньки пробежала улыбка, ямки живее обозначились на щеках, и она, немного прищурясь, очень наивно спросила меня:
– Скажите, пожалуйста, что вы так пристально смотрите на меня?
Мне стало совестно самого себя, и я смутился, как почтенный человек, который наедине делает перед зеркалом умильные гримасы и вдруг видит в нем два насмешливых посторонних глаза. Но я оправился и отвечал ей:
– Я искал в ваших чертах черты другой знакомой мне особы.
– И что же?
– И боюсь, что вместо нее увидел вас.
– Будто это так страшно?
– Не страшно, но неутешительно!
– Будете вы завтра в театре? – спросила она.
– Вы хотите переменить разговор?
– Нет, но завтра дают, говорят, хорошую пьесу: «Что имеем, не храним»…
– Она не в моем духе, – отвечал я, – может быть, потому, что я, потерявши, никогда не плачу.
Все это могло бы меня очень забавлять, если бы не было так досадно! Самая пора года, когда наша русская природа готовится к превращению, странно настраивает душу, заставляет и ее желать какой-то перемены. Снег истерся в песок, капли звучно падают с крыш, небо серо, как земля, и, как земля, тучи держат массу воды, готовую смыть ее изношенную одежду. И вдруг пахнет в лицо теплый ветер, Бог весть откуда занесенный навесть какие-то чуждые мысли!… Нет, решительно я недоволен собой!
Я перестал бывать у Имшиных. Мне надоела эта внутренняя тревога, которая так потрясает меня; но я не избегал ее; я несу ее с собой в шумный сбор молодежи в тишину моего рабочего кабинета; только без Вареньки она иначе действует на меня: она производит впечатление кокой-то постоянной тяжести, тупой, хоть и несносной боли. Впрочем, еще одна мысль заставляет меня тщательно избегать общества Вареньки: я хочу ее заставить почувствовать мое отсутствие. Когда она меня видит, она становится в оборонительное положение, и борьба дает ей силы; но без меня ей придется иметь дело со своим воображением. «Легче победить сто врагов, чем самого себя», – сказал кто-то прежде меня.
И вот однажды, утомленный пустотой общества, которое мне надоело, скучая по расчету, я сидел у скрытого окна моего кабинета. Были сумерки, те ясные и душистые весенние сумерки, которые так настраивают к мечтательности. Глаза мои, усталые от чтения, лениво отдыхали на глубине горизонта и невольно спустились с него на развернутый перед ними вид. Разлив Волги сливался с далеким небом, вода его была гладка и спокойна как зеркало. Местами ее поверхность была разорвана островами, и на них рисовались силуэты полузатопленных, дремавших деревень. Иногда проскользнет тихо, будто на тайное свидание, тень лодки с одиноким гребцом, иногда послышится мерный плеск воды, и другая лодка, махая, как крыльями, двумя рядами весел, птицей пронесется перед глазами, и только успеешь увидать ряды гребцов, дружно и мерно наклоняющихся над водою, и уже нет ее, и оставила она только два следа: полосу на воде да веселую песню в воз духе. Был и третий след, который весь этот вид оставил тогда на душе моей, – неуловимый, мимолетный, но глубокий след! Грустно и больно стало мне, и тихо я вышел из дому, в непонятном мне волнении.
Дом Имшиных был освещен слабо, по-будничному, когда в пустых комнатах горят лампы, как уличные фонари. Но в одном окне свет был ярче, и, осмотревшись кругом, я остановился перед ним. В щель неплотно доходившей до низа шторы мне была видна глубина комнаты. Варенька сидела одна, прислонясь в мягкий загиб углового дивана. Сзади нее стояла лампа, и только часть Варенькиного профиля была ярко освещена. Одной рукой она облокотилась на мягкую подушку, в другой держала книгу, но книга была опущена. А глаза Вареньки были устремлены прямо, как будто она читала другую, невидимо раскрытую перед ней книгу… Сердце сильно забилось во мне, и я вошел к Имшиным.
– Дома барин? – спросил я у лакея.
– Никак нет-с: в клубе.
– А барыня?
– Варвара Александровна дома, – сказал он, шумно отворив дверь в залу, что служило вместо доклада.
Когда я вошел в комнату, Варенька была в той же позе, только голова ее была вопросительно повернута к двери, и она, прищурясь, хотела поскорее разглядеть нежданного гостя.
– А, mr. Тамарин! Скажите, пожалуйста, что сталось с вами?
Я поклонился и, подойдя ближе, вошел в яркий круг света. Видно, я был очень бледен, потому что лицо Вареньки изменилось, и она с беспокойством спросила:
– Что с вами, Тамарин?
– Боже мой! Разве вы не видите, что со мной? Разве вы не видите, что я люблю вас, что я вас люблю! – сказал я.
Досада, волнение, чувство, невольное чувство – душили меня. Я едва мог выговорить последние слова и в бессилии опустился в кресла. Прошла минута страшного молчания… Но сила глубоко из сердца вырвавшегося слова велика тем, что она извлекает ответные звуки: на это слово нельзя отвечать холодно и рассчитано.
И Варенька со смущением и грустью отвечала:
– Несколько месяцев назад эти слова составляли бы мое счастье, а теперь поздно… поздно, Тамарин!
– Послушайте, – сказал я, – я прежде не умел вас понимать, я не мог вас понять: я не был к этому подготовлен; но теперь я вас люблю, Варенька. Я вас так люблю, что заставлю вас забыть прошлое и простить меня… Вы простите меня? – спросил я.
Я взял ее руку и склонился над нею.
– Вы ни в чем не виноваты, – сказала она. – Я это знаю и не обвиняю вас.
– Да, я не виноват; но я вам дал много горя. Простите меня, и у нас впереди будет много счастья, чтобы забыть его!…
– Нет! Счастья уже не будет! – вздохнув, сказала Варенька.
Я ни слова не говорил, но глядел на нее.
– Я вас не люблю больше, – прибавила Варенька холодно, спокойно и твердо.
– Неправда! Неправда! Вы обманываете себя и меня, – сказал я, и в голосе моем было твердое убеждение.
Варенька горько усмехнулась.
– К чему? – сказала она. – Я знаю мои обязанности и мой долг; я их знаю, Тамарин! Но знаю также и то, что сердцу приказывать нельзя… Нет! Я вас не люблю, потому что вы убили мою любовь! Да! – прибавила Варенька. – Вы убили ее. Вы не думали тогда, что она пригодится вам, что когда-нибудь забьется ваше сердце и вы, бледный, измученный, придете за этой любовью!
– Тогда я не любил вас, – отвечал я.
– Знаю… Вы не виноваты… Вы не хотели, чтобы я страдала, но вы не хотели ничем жертвовать моей любви… Вы не любили, но вы позволяли себя любить… Это было очень великодушно! Однако всему есть мера: измученное сердце наконец замрет, и тогда оскорбленная гордость откроет глаза…
Сердце сжалось во мне, и из него начало отделяться другое чувство, которое всегда у меня наполовину смешано с остальными.
– Я всегда была с вами откровенна, – продолжала Варенька. – Сознаюсь вам, та мечта, которую создало и полюбило в вас мое детское воображение, давно исчезла. Но я любила в вас вашу двойственную, измученную противоречиями натуру. Когда ж я увидела, что вы всегда ребячески боитесь света, что вы бегаете от всякого чувства, которое может нарушить ваше внутреннее спокойствие, потревожить лень вашего сердца, тогда у меня явилось сомнение в ваших силах, тогда я невольно подумала, что вы бегаете от борьбы с собой потому, что не в состоянии выдержать ее, и мое очарование исчезло…
– И тогда, – сказал я, – вы выбрали другой предмет любви, более достойный вас.
Варенька не отвечала.
– Утешьтесь, – продолжал я, – вы отомщены!
И в самом деле, в эту минуту, не знаю, от любви ли, досады, или самолюбия, но я страдал глубоко.
– Что мне в этом? – сказала Варенька. – Разве я искала мщения? Разве я кокетничала с вами, чтобы возбудить вашу любовь? Напротив, она глубоко огорчает меня, потому что больше заставляет жалеть невозвратимое. И вы думаете, легко мне теперь?.. Знаете ли, что я делала сейчас до вашего прихода? Я мечтала о деревенской девочке, которая увидела одно загадочное, интересное для нее существо. Как она была счастлива!.. Прошло полгода, и в этой неопытной, наивной девочке и в этом холодном, но чудно влекущем ее существе я не узнала ни себя, ни вас! У меня даже не осталось мечты, которую бы я могла любить…
– Боже мой! Но виноват ли я, что я таков! – сказал я, поддаваясь грустному впечатлению и жалея более о Вареньке, чем о себе. – Виноват ли я, что два чувства, которые могли бы составить наше счастье, пришли порознь и разбили его!.. – Что ж мне делать! Что ж мне делать! – вздохнув, повторил я.
– Жениться! – сказала Варенька с насмешкой…
Затем я спокойно улыбнулся, поклонился и вышел. И странное тогда что-то творилось во мне!…
Когда я пришел домой, я тотчас послал за доктором.
– Доктор! – сказал я, когда он явился на мой зов. – Я болен. Я ужасно болен, доктор!
– Что с вами? – спросил он.
– Доктор, у меня страшно болит грудь.
– Гм! Это ничего.
– Кроме того, у меня стреляет в левый бок, боль проходит под ложечкой и оканчивается нестерпимой ломотой в правой лопатке, и все это отдается тупой болью в позвоночном хребте.
Мой доктор задумался. Я продолжал:
– Я кашляю днем и не сплю напролет целые ночи. Аппетита нет решительно никакого. Нервы раздражены, дыхание тяжело. Биение сердца ужасное.
Доктор посмотрел на меня с недоумением, но я был бледен как полотно.
– А голова не болит? – сказал он, заглядывая мне в глаза и щупая пульс. Он думал, вероятно, что я помешался.
– Голова не болит, – отвечал я.
Доктор погрузился в размышление.
– Знаете, доктор, что придумал я. Я болен весь, решительно весь; мне нужно лечение, которое бы восстановило весь мой организм: я думаю ехать на кумыс.
– А что же? Прекрасно – сказал доктор. – Поезжайте: кумыс восстановит вас.
– Так вы советуете, доктор!
– Непременно. Я вам решительно прописываю кумыс.
– И вы думаете?
– Я думаю, что это необходимо.
– Благодарю вас, доктор, вы меня спасаете! – сказал я с чувством.
И мы расстались, очень довольные друг другом.
На другой день в 12 часов ко мне приехали Островский и Федор Федорыч, за которыми я посылал; у меня сидел уже доктор, пришедший наведать своего больного.
– Зачем ты присылал за нами? – сказал Островский, входя.
– Завтракать.
– Умно придумано!
– А отчего у вас на дворе стоит тарантас? – спросил Федор Федорыч.
– Я еду, – отвечал я.
– Куда это?
– На кумыс.
– Что за дикий вкус!
– Доктор посылает.
– Доктор, что это вам пришла фантазия выгонять его отсюда?
– Сергею Петровичу это необходимо, – отвечал доктор, – я ему решительно прописываю кумыс.
– И ваше мнение неизменно? – спросил Островский.
– Положительно! – сказал доктор.
– В таком случае нам ничего не остается больше, как оплакать тебя и выпить с горя.
– За этим дело не станет, – отвечал я и велел подавать завтрак и закладывать лошадей.
За другой бутылкой все стали говорливее; Островский с большим одушевлением доказывал мне, что живительность виноградного сока не может ни с чем сравниться, и советовал мне лечиться шампанским.
– Попробуй, душа моя, – говорил он, – выпивать бутылочку в день; будет мало, так две, но только аккуратно, непременно аккуратно, и ты увидишь, как оно поможет. Лечат же молоком, лечат водой; не может же быть, чтобы вино было менее полезно.
– Между нами, – сказал Федор Федорыч, – если вы едете собственно лечиться, то вы по пустякам едете. Вы больны только мнительностью.
– А разве это не болезнь? – сказал я.
– Правда, – отвечал он, – и очень опасная.
– Мне что-то сдастся, – сказал Островский, – что ты не для кумыса едешь; я за тобой не знал страсти к нему. А здоровье твое, благодаря Бога, не хуже нашего! Правда, ты побледнел и похудел немного, да это к тебе идет; я так вот не знаю, что с собой делать: толстею непозволительно! Нет ли у тебя тут страстишки?.. Кстати! Ну, Тамарин, руку на сердце, а сердце на язык, скажи, как твои делишки с Варенькой?
– Ты знаешь, как я редко у нее бываю.
– И вы не прощались с ней? – подозрительно спросил Федор Федорыч.
– Благодарю вас, что напомнили, – сказал я, – мне, в самом деле, надо проститься с нею. Да мы отсюда заедем вместе. Вы меня проводите до заставы?
– Непременно, – отвечал Островский.
– Только мы с князем проедем прямо туда, – прибавил Федор Федорыч.
– Напротив, – возразил Островский, – едем вместе.
Через полчаса три наших экипажа шумно подъехали к дому Имшиных. Мы вошли вместе. Володя встретил нас; Варенька сидела за работой и вопросительно посмотрела на мой дорожный костюм.
– Я заехал проститься с вами, – сказал я.
– Куда это вы? – спросил Володя.
– В деревню.
– Так мы опять лето проведем вместе? – сказал чей-то голос из угла.
– Ба! Иван Васильич! Вы еще здесь? Помнится, мы с неделю как простились.
– Да с! Да вот не собрался еще выехать. Жалко, что я не знал, а то бы вместе…
– Ну, нам было бы не по пути, – сказал я, – я еду в Оренбургскую губернию.
– Это зачем? – спросила Варенька.
– На кумыс, – отвечал я.
– Лечить расстроенную грудь! – прибавил Федор Федорыч.
Я рассмеялся.
Иван Васильич подошел и с участием посматривал на Вареньку: он боялся, что мой отъезд огорчит ее.
– Охота же пить кумыс, прости Господи! – проворчал он недовольно.
– Я одного с вами мнения, Иван Васильич, – сказал Островский, – то ли дело вино!
– Что ж! Надобно пожелать счастливого пути отъезжающему, – сказал Имшин и велел подать шампанского.
– Ваш муж удивительно всегда находчив, – заметил Островский, обращаясь к Вареньке. – А жалко вам Тамарина? – спросил он ее.
Вопрос был неожидан, но Варенька не смешалась.
– Очень! – сказала она.
– Так уговорите его по крайней мере поскорее возвратиться.
– А вы пробовали?
– Я советовал ему вовсе не уезжать, да он не слушается.
– В таком случае я не берусь, – сказала Варенька, – я знаю, что ваши убеждения всегда были сильны над Сергеем Петровичем.
Варенька намекала на мой отъезд из деревни; она хотела казаться равнодушной и была холодна.
Я не был ни скучен, ни весел. По какому-то странному и непонятному для меня явлению, мое сердце ничего не чувствовало: оно как будто замерло; я не умел себе этого объяснить, но был очень доволен собой.
Подали вино. Варенька пожелала мне доброго пути, дотронулась своим бокалом до моего и омочила в него розовые губы; я поблагодарил ее, попросил засвидетельствовать мое почтение Мавре Савишне, пожелал много удовольствий и затем поцеловал ее руку. И это прикосновение было холодно, как прикосновение наших бокалов!
Потом я пожал руку Володе, трижды облобызался с Иваном Васильичем, поклонился и вышел. И вот наше прощание!
Федор Федорыч и Островский проводили меня до заставы. Тут мы остановились, чтобы проститься.
– Варенька или очень любит вас, или более чем равнодушна к вам, – сказал Федор Федорыч.
– Почему вы это думаете? – спросил я.
– Оттого, что она не допустила себе выказать того мягкого и отчасти нежного расположения, которое всегда бывает у женщины при прощании с хорошим знакомым: она скрывала что-то.
– А я так сделал другое замечание, – сказал я, – что вы принимаете в Вареньке большое участие.
– Вы ошиблись, – отвечал Федор Федорыч, – вот видите ли, почему: я очень люблю смотреть на людей, как на актеров, которые разыгрывают свои роли очень натурально, нисколько не подозревая, что они мне этим доставляют большое удовольствие. Я выбираю из них тех, которые занимательнее, а остальным плачу полным невниманием. С этой точки зрения вы много интересовали меня. Вы были очень эффектны своей холодной безэффектностью в драме, в которой грустная роль выпала Вареньке.
– Чего ж лучше? – прервал я. – Теперь, когда я схожу со сцены, явитесь на ней тем неузнанным утешителем, который говорит: «Бедная Амалия! Ты несчастна, но это сердце наградит твою добродетель».
– Нет! – сказал Федор Федорыч. – Я слишком ленив, чтобы брать на себя какие-нибудь роли, и предпочитаю остаться зрителем.
– Что ни говорите, – сказал Островский, – а я завидую Тамарину.
– А мое мнение, господа, то, что смешно стоять в поле и толковать о подобных пустяках. До свидания! – сказал я, подавая им руку.
– И до скорого? – спросили они.
– Не знаю! Но у меня есть предрассудок никогда не говорить «прощайте!». Это слово исключает мысль о свидании, а мы, может, еще и столкнемся где-нибудь.
Мы пожали друг другу руки и разошлись по экипажам.
Когда лошади готовы были тронуться, я привстал в тарантасе.
– Федор Федорыч! – сказал я. – Если увидите Марион, поцелуйте от меня ее руку.
Он кивнул мне головой, и мы поехали в противоположные стороны…
И вот, через десятки лет, я опять сижу в том деревянном доме, в той комнате, из которых когда-то, давно, давно, полуребенком, я выехал в далекий город по незнакомой дороге. Много золотой мечты было в моей детской голове тогда; много горячих слез было пролито надо мной! И я плакал, и мне было грустно, а что-то звало, что-то манило меня… и я уехал… Прошли годы, я возвратился. Мечты мои я растерял где то на дороге. Многие из тех, которые горячо плакали над отъезжающим полуребенком, давно вышли навстречу и ждали меня, и первые встретили они меня у самого въезда на сельском кладбище! И низко поклонилась праху их та голова, в которой бы разве только сердце их могло узнать детские черты.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.