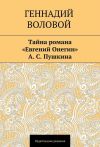Текст книги "Тамарин"

Автор книги: Михаил Авдеев
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Тетрадь из записок Тамарина
Умереть со скуки – выражение чисто гиперболическое. Мне кажется, я начал скучать с тех пор, как в первый раз чихнул при рождении, – однако, слава Богу, живу до сих пор. И в самом деле, я не помню, когда бы я не скучал: скучал я на школьной скамейке, скучал на петербургских балах, скучал в походной палатке в киргизских степях, а более всего на званых обедах. Правда, было время – время первых эполет и первых надежд, – самая юная, самая счастливая пора! Но когда оно прошло, скука взяла свое, и еще с жидовскими процентами! И я привык к ней: я ее сознал и с ней освоился. Для меня жить и скучать – два слова, почти однозначащие. Скука своего рода препровождение времени: она для меня то же, что костыль для безногого, – это не живой член, но вещь, которая его отчасти заменяет.
Конечно, есть несколько избранных, у которых деятельность ума имеет широкое поле и идет рядом с деятельностью жизни. Есть, и много есть, других счастливцев, у которых смиренный ум живет помаленьку, довольствуется хорошей погодой и теплым местечком и ограничивает свои требования четвертым партнером для грошовой игры. Но велика и наша семья праздношатающихся умников, которые не умеют примирить деятельность души с деятельностью жизни, которые во весь век не сделают ни одного дельного дела и расходуют свой ум по мелочи, на острые слова да злые эпиграммы, и то для развлечения чужой, а не собственной скуки.
Вот уже с месяц, как мы с Островским в один прескверный осенний день приехали в N. Он нанял лучшую квартиру в Дворянской улице, а я поселился в бабушкином наследии. Островский предлагал мне жить вместе, но я не люблю стеснять себя и отказался, приведя пословицу, что два медведя в одной берлоге не уживутся, хотя он и доказывал, что эта пословица не относится ко львам.
Дом, доставшийся мне от бабушки, стоит на крутом берегу Волги. Зимой его заносит снегом, потому что по пустой набережной почти никто не ездит; но летом вид из окон чудесный. Широкая Волга лениво катится под горою, а по ту сторону небо да далекий поемный луг, испещренный деревеньками. Все удивляются, зачем я поселился в этой глуши, а я ею очень доволен. Мне надоел торопливый и заботливый шум столицы, а мелкая суматоха провинции еще несноснее. Впрочем, провинциальная жизнь имеет свою хорошую сторону: здесь все живут открыто, потому что нет возможности скрыть что-нибудь. Выедешь из дому и знаешь, что на улице встретишь непременно Семена Семеныча, и откуда едет Семен Семеныч, и как он при встрече приятно улыбнется. Увидишь Петра Петровича и ждешь, что он, здороваясь и прощаясь, скажет непременно «всякого», и знаешь, что это значит «всякого вам благополучия»; слышишь, что Сережа рассказывает с жаром и клянется и уверен уже, что он прибавляет. А поутру заедет Иван Иваныч, узнать, что новенького, и непременно сам расскажет все новости. А барыни! барышни! Что лицо, то тип, и всех знаешь, и все тебя знают. Нет, много хорошего в провинции! Досадно только, что провинциалы не примиряются с этой жизнью, что они отрицают ее, сплетничают и бранят сплетни, – знают друг про друга всю подноготную, а маскируются; друг друга часто терпеть не могут, а жмут руки до излома костей и вечно хотят казаться непременно не тем, что они есть. Старая, всемирная песня!
Прожив здесь неделю, я сделал визиты всем знакомым дамам и очень немногим мужчинам. Я не могу жить без женского общества, будь оно и с грешком пополам, будь в нем даже грешка более, чем наполовину. Такова уже привычка моей обобщившейся натуры! Все меня спрашивали с какой-то улыбочкой про баронессу и многие про Вареньку. Я всем отвечал как мог любезно и из вежливости почел долгом спросить у каждой из них (у кого таковой есть) о здоровье ее возлюбленного. А одна почтенная барыня, мать трех взрослых дочерей, которая все уверяет, что любит меня как сына, потому что часто игрывала в бостон с покойной бабушкой, шепотом спросила, может ли она меня поздравить. Я отвечал ей, что кроме вчерашнего проигрыша в клубе меня поздравить не с чем, и тогда она объявила, что здесь носятся слухи о моей помолвке с Варенькой Домашневой, но что, впрочем, она этому не верит, потому что Варенька хоть и милая девочка, но мне не пара, жила в деревне, не имеет светских манер обращения (причем она невольно взглянула на трех дочек, навытяжку сидевших на стульях), и прибавила, что, вероятно, я бы не сделал подобного шага, не посоветовавшись с добрыми знакомыми, которые любят меня как сына. Я успокоил ее, уверив в несправедливости слуха и высказав твердое намерение никогда не жениться, против которого, впрочем, она горячо спорила.
Из всего этого я удостоверился, что здесь догадываются о том, как я провел лето в деревне с моими соседками, но я твердо убежден, что никто не знает чего-либо положительно: для большинства достаточно было слуха о соседстве, и из этого вывели заключения. Таков свет! Он все толкует в дурную сторону. А между тем в слухах обо мне есть часть истины. Неужели прав он со своим черным взглядом на вещи? Неужели дурное – общее правило, а хорошее – только исключение. Если так, то это грустно! Впрочем, где ж тут дурное? И виноват ли я, что свет вороновым взглядом прочуял дурное и каркает о нем? Я был скромен, как могила: это мой порок!
Сказать по правде, мне жаль, что здесь нет моей хорошенькой соседки. В последнее время я очень привык к Вареньке; я любил видеть ее довольной, счастливой, веселой при встрече со мною; я любил задумчивый, любящий взгляд ее темно-голубых глаз, когда, по праву сельской свободы, сидя вдвоем в саду, в теплый осенний вечер, я передавал ей свои убеждения или рассказывал пеструю повесть моей прошедшей жизни; а она слушала, пристально смотря на меня хорошенькими глазками, и, казалось, хотела спросить ими: неужели ты все это пережил и перечувствовал? и нет морщин на твоем челе! и нет в кудрях седого волоса! и весело можешь ты смотреть на вседневную жизнь! И слышно мне было неровное биение пульса в ее белой руке; и тешило меня ее детское удивление, и радовала ее первая любовь! Много, может быть, дней похоронил бы я еще в деревне, с моей соседкой! Много, быть может, хороших дней утратил я со своим отъездом! А всему виноват Островский: он своей насмешкой разбил мою иллюзию, и я ему много благодарен. И в самом деле, не смешон ли был я, герой в романе деревенской девочки?
Смешное, смешное! Вот бич, от которого бледнеет наше поколение, вот слово, которое убивает хуже чумы! От него одного кровь бросается мне в голову, и сожмется сердце со всеми тепленькими чувствами, холодно взглянет разнежившийся глаз и насмешливая улыбка ляжет на уста, лепетавшие нежный вздор!
А все таки жаль, что здесь нет моей хорошенькой соседки Вареньки!
На днях как-то у меня поутру собралось несколько человек знакомых. В это время мне доложили, что кто-то меня спрашивает. Я вышел в прихожую и увидел знакомое лицо Савельича; он низко поклонился и, пригладив рукою реденькие волосы с затылка на лысину, проговорил, как по выученному:
– Мавра Савишна приказали кланяться и приказали узнать о здоровье.
– Разве здесь Мавра Савишна? – спросил я.
– Вчерашнего числа изволили приехать, – отвечал Савельич, – располагают прожить здесь всю зиму и остановились на Казанской, в доме Мордасова.
Я велел ему благодарить Мавру Савишну и сказать, что я сам скоро буду. Возвратясь к гостям, я услышал громкий смех. Мой приятель Островский, узнав о послании Мавры Савишны, уверял, что мы с ней в очень коротких отношениях, что Мавра Савишна влюблена в меня без памяти и что я не ношу других чулков, кроме ее вязанья, которые она мне дарит на память. Всех рассмешила шутка Островского, но другие стали делать намеки гораздо справедливее. А один бывший тут местный остряк заметил, что не хочет ли Мавра Савишна навязать мне что-нибудь и на шею. Чтобы прекратить этот разговор, я объявил им, что Мавра Савишна – моя добрая соседка, у которой я бывал очень часто в деревне, что она поступила очень любезно, дав мне знать о своем приезде, и в заключение прочитал им девиз английского герба, напечатанного золотом в моей шляпе. Догадливые тотчас же взялись за свои, и через час я был у Мавры Савишны.
Я нашел Мавру Савишну в хлопотах: она расставляла мебель и устраивала квартиру. Знаменитый чулок ее еще не был вынут из дорожного ридикюля. У нее сидела какая-то старушка, вся в черном, что-то вроде приживалки, и, как кажется, вводила ее в курс городских новостей. Мавра Савишна встретила меня радушными русскими приветствиями и с особенной заботливостью и даже беспокойством расспрашивала о причине моего отъезда. Я поблагодарил ее за участие и поспешил ответить какой-то очень неопределенной отговоркой, потому что заметил в другой комнате Вареньку.
Варенька сидела на диване; возле нее был ее друг и наперсница Надежда П*, известная просто под именем Наденьки. Они сидели рядом, положив руку в руку, как прилично двум девицам, долго не видавшимся и верующим во взаимную дружбу. Наденька эта недурна собою, но не в моем вкусе; она с большими претензиями, но более обещает с первого раза, чем дает впоследствии, потому что все в ней ложно, начиная с чувств и до косы включительно. За это, может быть, и не люблю ее, потому что она мне ровно ничего не сделала ни хорошего, ни дурного; вероятно, по закону сродства душ и она меня терпеть не может.
При моем входе Варенька немного покраснела. Видно было, что она обрадовалась, но не хотела показать этого: я думаю, что Наденька не совсем выгодно объяснила ей мой отъезд и постаралась, сколько могла, восстановить ее против меня, потому что с видимым любопытством наблюдала за нами. Но я уверен, что на моем лице она ничего не прочла: дорого и трудно мне досталось это искусство управлять его выражением; но теперь я им доволен: оно, как хороший актер, играет все роли. Я, со своей стороны, наблюдал за Варенькой, потому что первая встреча – вещь в высшей степени любопытная: тут можно сразу прочесть все прошедшее и разгадать много будущего.
Встреча Вареньки имела претензию на холодность: она постаралась равнодушно кивнуть головкой и не подала мне руки. Но голос, которым была сказана ее первая незначащая фраза, выдал ее: он дрожал и имел особенный, свойственный внутреннему волнению звук. Услышав его, я бы имел уже право взглянуть торжествующим взглядом на Наденьку, если бы позволял себе подобные глупости. Пока мы менялись обычными пустыми фразами, я сел против Вареньки и всматривался в ее лицо: оно почти не изменилось, только немного похудело, но черты его приняли более серьезное выражение и обещали бы мне более трудную борьбу, если бы борьба могла иметь место. Варенька, вероятно, тоже старалась сыскать во мне перемену, как это обыкновенно делается при встречах; потому что после минутного молчания, внимательно посмотрев на меня, она сказала:
– А вы нисколько не изменились.
– Я никогда не изменяюсь, – отвечал я, – это мой недостаток.
– Хорошо, если бы все ваши недостатки походили на него, – сказала Наденька.
– А вы заметили и другие? – спросил я.
– И очень много! Иначе вы были бы совершенством, потому что недостаток, который вы признаете, очень похож на добродетель, и оттого я в него не верю.
– Из ваших слов, – отвечал я, – я вывожу два заключения: во-первых, что вы видите во мне много недостатков, во-вторых, ни одной добродетели.
– Словом, настоящего демона! – заметила На денька с насмешливой миной, намекая на данное мне еще в пансионе прозвище.
– Вы мне льстите, – отвечал я, – и я буду неблагодарен, если не скажу вам, что вы сегодня столько же напоминаете доброго духа, сколько я злого.
Наденька бросила на меня взгляд, который – да простит ей Бог! – имел явное намерение убить меня; но благодаря моей живучей натуре убийство не свершилось. Вследствие этой неудачи Наденька встала и вышла в другую комнату, оставив меня с Варенькой; а мне только этого и хотелось.
Минута была самая интересная. Варенька любила меня. Несколько месяцев назад я вырвал у ее девической стыдливости это признание, ни слова не говоря ей о своей любви; положение мое было прекрасное и давало мне огромное превосходство. Часто во время уединенной прогулки по темным аллеям деревенского сада, когда ее неопытный язык не мог удержать слов первой любви, которая так сильно ворвалась в ее еще новое сердце, Варенька останавливалась, горячая беленькая ручка ее сжимала мою руку и хорошенькие, полные любви, темно-голубые глаза вопросительно смотрели на меня и ждали страстного признания. В эти минуты покорной любви я любил, горячо любил Вареньку, но я никогда не отвечал ей словами; мой взгляд, мои ласки высказывали ей мою любовь, и она верила в нее; но мои уста упорно молчали. Я говорил ей про себя, про нее, но никогда про мою любовь, и, может быть, это-то несознание, эта-то недосказанность любви еще более заставляли любить меня. И вдруг я ускакал из деревни, не простясь с Варенькой, ничем не оправдывая, ничем не извиняя моего отъезда! Я поступил с нею как фат, которому надоела женская любовь, а между тем я вовсе не до такой степени пресыщен и избалован любовью, чтобы мог от нее бегать: напротив, я бежал только от смешного, от одной тени смешного. И вот мы свиделись с Варенькой и сидим друг против друга, и каждый желает разгадать мысли другого. Положение Вареньки было неприятно, но я молчал с умыслом: мне хотелось видеть, как она из него вывернется. Я боялся, что она не сладит со своей любовью и начнет чем-нибудь вроде косвенных упреков или жалобы: тогда бы она много потеряла в моем мнении. Но вышло не так: Вареньке, вероятно, пришла мысль, что я забавляюсь ее положением, потому что вдруг щеки ее вспыхнули, выражение задумчивости слетело с лица, она взглянула на меня несколько прищурясь и быстро проговорила:
– Вы так скоро уехали из деревни, что, кажется, забыли взять свою любезность, потому что мы минут пять как молчим.
– Кто много чувствует, тот не теряет слов, – сказал я.
– А! Это ново! Давно ли вы начали чувствовать?
– С тех пор, – отвечал я, – как узнал вас.
Ответ мой был бы пошл, если бы его нельзя было принять за насмешку; подумав, я бы не сказал его, но увлекся репликой, и мне было крайне досадно на себя, потому что он глубоко оскорбил Вареньку.
– Жалею, что я вас узнала! – с горечью отвечала она.
Я был благодарен Вареньке за этот ответ, потому что он был вполне заслужен. Я был кругом виноват и готов бы был просить у нее прощения, если б я когда-либо сознавался в своей вине. Но это было бы не в моей натуре, и я хотел по крайней мере оправдать себя.
– Вы имеете полное право сказать это, – отвечал я с видом глубокого огорчения, – потому что наружность и истолкование Надежды Васильевны против меня; но вы несправедливы. Вам не поправилось мое молчание, потому что вы его не так поняли. Я слишком горд, чтобы оправдываться, и слишком самолюбив, чтобы напрашиваться на то расположение, которого, может быть, считают меня недостойным. Я был даже довольно деликатен, чтобы не напоминать о нем. Затем отдаюсь вполне на ваш суд, и, как бы ни был он для меня невыгоден, я никогда не обвиню вас.
Варенька слушала меня с удовольствием, потому что ей самой хотелось, чтобы я оправдался; может быть, она бы желала, чтобы оправдания мои были несколько яснее и определеннее, но за неимением лучших удовольствовалась и этими: хорошо иметь дело с судьей, у которого подкуплено сердце. Взгляд Вареньки прояснился и развеселился, хотя черные брови из упрямства были еще несколько сдвинуты.
– Кто ж обвиняет вас! – сказала она. – Но я думала, что вы по крайней мере объясните ваш внезапный отъезд.
Я сделал мину по обстоятельствам и отвечал, пожав плечами:
– Что ж делать, так было надо!
Я люблю подобного рода ответы: они привлекательны своей неизвестностью и притом имеют то преимущество, что всякий может недосказанное истолковать по своему желанию. Впрочем, действительно, мне надо было уехать из деревни, Островский нарисовал мне такую уморительную картину моей будущности, что, сбудься она хоть в десятой доле, я был бы непростительно смешон. А куда я не убегу от смешного!
Нельзя сказать, чтобы мой ответ был весьма удовлетворителен, но Варенька знала меня: ей оставалось или примириться с моим деспотизмом, или отвергнуть меня. Она вздохнула и задумалась. Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы на самом интересном месте ее не вошла Мавра Савишна с Наденькой. Разговор пошел по другой колее: говорили о предметах серьезных – урожае, погоде, нарядах. Я был не в духе болтать вздор и через несколько минут начал делать гигантские усилия, чтобы не зевнуть перед Маврой Савишной, которая считала это верхом неприличия. К счастью, приехал один чиновник, который кланялся с особенным почтением и поэтому слыл за прекрасного человека. Отличительная черта его поклона заключалась в том, что он каждому кланялся поодиночке и делал из спины совершенное полукружие, причем закрывал глаза, что и придавало ему вид особенной почтительности. Когда очередь дошла до меня, я воспользовался минутой молчания, встал, поклонился и вышел, предоставляя чиновнику удивляться моей невежливости, когда он, медленно приподняв голову, откроет глаза и увидит перед собой пустое место.
Вообще я остался очень доволен этой первой встречей с Варенькой. Теперь наши взаимные отношения такого рода, что от них так же близко к короткости, как и к совершенному разрыву. Я чрезвычайно люблю подобную неопределенность и жалею, что не начал службы по дипломатическому корпусу: я, верно, не был бы поручиком в отставке. К тому же эта неопределенность мне необходима, потому что я не решил еще, что мне делать с Варенькой. Наша деревенская короткость очень интересна, но ее станет ненадолго.
Мы скоро дойдем до той точки, на которой порядочные люди или разрывают, или женятся. Разрыв тогда будет труднее, чем теперь, а жениться я не намерен… Другой аргумент: мне порядочно скучно. Если я не буду занят Варенькой, мне будет еще скучнее; к тому же Варенька меня любит, и разрыв со мною очень огорчит ее. Спрашивается: благоразумно ли будет обрекать себя на скуку, а Вареньку на печаль из одной боязни будущего?.. Это сцепление обстоятельств так запутано, что я решаюсь посоветоваться с Федором Федорычем.
Федор Федорыч – мой приятель, он со мной одних лет, имеет маленькое состояние и независимую должность. По этому последнему обстоятельству он никому не кланяется; к чести Федора Федорыча, думаю, что если бы он от кого либо и зависел, то, вероятно, тоже не кланялся; но не знаю, служил ли бы он тогда. Федор Федорыч очень умен и потому часто позволяет себе говорить вздор; он очень дурен собой, и любимый предмет его – женщины; у него предоброе сердце и презлой язык; в характере его много мечтательности и увлечений, и, несмотря на это, он ужасный скептик и материалист. Кроме страшной лени, он не имеет ни одного качества, которое бы бросалось в глаза, а между тем я бы не хотел его иметь своим соперником. Мы не были с ним друзьями, потому что не верили в дружбу, но были большими приятелями, потому что уважали друг друга. И то сказать: мы шли с ним всегда по разным дорогам, но если бы сошлись на одной, то, наверное, были бы смертельными врагами!
Вчера, возвратясь домой со званого обеда, я нашел у себя Федора Федорыча. Были сумерки; снег большими хлопьями тихо падал на землю. Федорыч сидел у окна в кресле, положив на стул ноги Когда я вошел, он протянул мне руку и принял меня как хозяин нецеремонного гостя.
– Давно вы здесь? – спросил я его.
– С час, – отвечал он.
– Что ж вы делаете?
– А вот любуюсь на вид.
– Да за снегом ничего не видно!
– Что ж делать! Зато весной отсюда вид чудесный.
– Хотите сигару?
– Благодарствуйте! Ваши, что для гостей, очень слабы, а собственно ваших я не хочу курить, потому что их держат только для себя.
– И для добрых приятелей, – отвечал я, подавая свою сигарочницу.
– Приятель приятелем, а сигара сигарой, – отвечал он. – Очень хорошо, если то и другое доброе: в таком случае их все таки надо беречь для себя, потому что для всех доброго не наберешься. Но я возьму вашу, потому что мне лень достать свою.
Затем он очень вяло протянул руку, взял сигару, попросил человека подать ему свечку, которая стояла сзади его на столе, и, закурив, стал смотреть на снег. С полчаса просидел он так, не говоря ни слова, лениво куря сигару и пристально смотря на снег.
Бог ведает, какие мысли ходили в это время в его умной, прислоненной к косяку голове. Воображение ли взяло свое и рисовало ему какую-нибудь желанную, любимую картину его доброго и мягкого сердца; перевесил ли положительный и насмешливый ум и перебирал в карикатуре его друзей или рассчитывал приход с расходом, – не знаю. Верно только то, что он бы никогда не сознался в мечтательности и на вопрос, о чем он думает, назвал бы, во всяком случае, самый прозаический предмет. Я знал его слабость прятать сердце за ум, поэзию за существенность; мне даже нравилась в нем эта застенчивость всего задушевного, и потому я никогда его не допрашивал. Между тем я велел затопить камин и придвинул к нему два покойных кресла Когда огонь вспыхнул, Федор Федорыч оглянулся, увидел меня, комфортно курящего у камина, с любовью посмотрел на приготовленное для него место, улыбнулся, зевнул, потянулся и лениво перетащил через комнату свою длинную фигуру.
– Вы умеете жить, – сказал он, опустившись в кресло и положив ноги на подушку.
– Не совсем, – отвечал я, – надо спросить вина, тем более что сегодня за обедом было прескверное, и я почти ничего не пил.
– Я бы похвалил вас за выдумку, если бы Пушкин раньше вас не усадил точно так же своего Онегина с Ленским. Вы умеете понимать поэзию, – сказал Федор Федорыч.
– Ну, мы с вами, кажется, не похожи на пушкинских героев.
– Что ж, они сами по себе, мы сами по себе. Опиши нас Пушкин, и мы были бы герои хоть куда.
– Я с вами согласен, – отвечал я. – Привести Чайлд-Гарольда, Онегина или Печорина, нарядить их в платье работы здешних портных, Водопьянова или Милоглазкина, и представить под другими именами, хоть той даме, которая бредит ими, и, поверьте, прожив год в одном с ними городе, она бы обратила на них внимания менее, чем на нас с вами.
– И была бы совершенно справедлива, – заметил Федор Федорыч, – потому что мы бы действительно стояли выше их, всем превосходством наших петербургских портных перед здешними.
Посвятив себя в герои, мы успокоились и несколько минут молча попивали раулевское вино.
– Где вы сегодня вечером? – спросил я.
– В клубе. А вы?
– У Домашневых, я думаю; я еще не был у них вечером. Вы их знаете?
– Как же! Я помню Вареньку, когда она еще играла в куклы, а теперь и сама она готова в игрушки, – сказал, вздохнув, Федор Федорыч.
– Вам жаль ее? – спросил я.
– Очень! Потому что она будет забавлять вас, а не меня.
– Почему же меня?
– Да потому, что вы прежде явились. А у вас ее не вырвешь.
– Послушайте, Федор Федорыч, – сказал я, – я очень рад, что речь зашла про Вареньку: давно хотел с вами посоветоваться.
– Напрасно! – прервал меня Федор Федорыч. – Я никогда не даю советов, потому что не люблю принимать на себя чужую вину впоследствии. Впрочем, вам советовать можно: вы человек умный и потому, наверное, сделаете по-своему; я слушаю.
– Я с вами буду говорить прямо, – продолжал я, – потому что обиняками вас не обманешь, и к тому же вы такой человек, что если вам скажут что-нибудь и по секрету, так вы и тут никому пересказывать не будете. Вот видите ли, я с Варенькой в таком положении, от которого весьма близко к короткости и разрыву.
– То есть она в вас влюблена, а вы в ожидании будущего отдалили ее от себя; я договариваю за вас, потому что вы хотели говорить прямо.
– Положим, что так, – отвечал я. – Сойтись мне с ней легко, но это ни к чему не поведет, потому что я на ней жениться не намерен; с другой стороны, я имею самолюбие думать, что разрыв со мной много опечалит ее; теперь вот в чем вопрос: должно ли жертвовать ею в настоящем из опасения худшего будущего?
Федор Федорыч расхохотался.
– Вы сделали этот вопрос таким гуманным, как будто представляете его филантропическому обществу, – сказал он. – Мне вы могли сказать просто: если я теперь расстанусь с Варенькой, мне будет ужасно скучно. Если я буду ее завлекать для своей забавы, то могу впоследствии попасться в хлопоты. И потому следует ли скучать теперь из опасения большей скуки в будущем? На это я вам, пожалуй, отвечу, только скажите наперед откровенно: зачем вы меня спрашиваете?
– Вы несносны, Федор Федорыч! – отвечал я. – С вами непременно надо называть всякую вещь ее именем, иначе вы сами назовете. Делать нечего, принимаю ваше условие. Я спрашиваю вашего совета совсем не для того, чтобы ему последовать, потому что в делах чувств очень часто не слушаешь даже самого себя; но вопрос, который я вам предлагаю, очень любопытен. И в вас, и во мне, и в других из нашей братии, два человека. Первое: человек просто честный, то есть человек в абсолютном значении этого слова; второе: человек честный светский. Первый должен бы идти прямой дорогой к цели. Второй идет по тому же направлению, стараясь сколько можно спокойнее для себя совершить путешествие, и потому иногда вынужден позволять себе маленькие отклонения. Завлекать молоденькую девочку ради собственного удовольствия, говоря откровенно, дело не совсем чистое; а между тем покойный Печорин, не смотря на то, что скомпрометировал княжну Мэри, был весьма порядочный человек. Вы мне не будете отвечать как педант, и потому мне ваше мнение будет интересно, как мнение светского и умного человека. Повторяю: я спрашиваю вашего совета чисто из любопытства.
После этого монолога я с удовольствием отдышался, закурил сигару, налил вина и приготовился слушать. Между тем Федор Федорыч обдумался и, преодолев обычную лень, отвечал:
– Вы меня ставите в весьма неприятное положение говорить то, что думаешь, и, что еще хуже, думать о том, что бы я впоследствии мог сам сделать не подумавши; охота же вам выводить на суд самого себя? Ведь здешние служащие вашему примеру не последуют. Чтобы ответить вам что-нибудь, я скажу, что, разложив каждого из нашей братии на два человека, вы много облегчили мою логику, тем более что сами же уничтожили одну половину и потому привели всех к одному знаменателю. Как человек просто честный, то есть не такой, каков я есть, я вам скажу, что завлекать девочку, хоть она будь и не княжна, а просто Варвара Александровна, вещь весьма безнравственная. Вы это и без меня знаете, потому тут и распространяться нечего. Светское мнение будет двояко: старухи, у которых десятки засидевшихся дочерей, старые девы – словом, все, что составляет грозный ареопаг, который неумолимо судит и рядит всякое слово, или, попросту сказать, сплетничает, вас беспощадно осудит, – осудит не по сознанию, а по привычке все осуждать. Эта каста до такой степени ложна и пристрастна в причинах, которые побуждают ее строго судить обо всех, что одного этого осуждения, будь оно даже совершенно справедливо, уже достаточно, чтобы извинить вас в глазах всего молодого, бойко живущего поколения. И это поколение, наша братия, наши близнецы, вскормленные и вспоенные одним с нами духом и началами, оправдает вас и будет искренно в своем приговоре. Каждый из них не бросит в вас камня, оттого что побоится попасть им в себя. Да и что ж, в самом деле? Вы дали Вареньке несколько слез, ту боль сердца, которая называется страданиями. Да ведь это страдания моральные, и относительные! Они зависят от раздражительности нервов и чувствительности сердца: какие это страдания! Это не кусок черствого хлеба, не жесткая скамья да продранное платье! Вот страдания, так страдания! Зато знаете ли, что вы делаете этим? Вы ее избавите от скуки. Боже, как это много! Вы ей доставите право говорить своим подругам и вам впоследствии, что вы разбили ее жизнь, что вы отравили ее лучшие верования, и прочее и прочее. Великое для девицы право! И, браня вас, подруги ее будут тайно думать: счастливица эта Варенька! И подруги ее будут правы, потому что вы ей дадите жизнь; и сама Варенька с наслаждением вспомнит пережитое время! А вы гордо будете скучать своим успехом, смеясь над мнением старух вместе с молодежью, которая вам будет завидовать, и смиренно вынося колкие замечания дам, которые сами тайно пожелают быть вами обманутыми. Впрочем, все это вы сами знаете очень хорошо и прекрасно сделаете, если сделаете так, как сделаете, потому что, во всяком случае, вы будете правы, стоит только взглянуть на себя и заставить глядеть других с выгодной точки зрения; а это самая легкая вещь на свете.
– И это ваше мнение? – спросил я.
– Нет! – отвечал Федор Федорыч. – Мое мнение собственно то, что мы толкуем по пустякам, потому что все наши рассуждения ни на волос не изменят того, что будет, и что не следует терять времени на вздор, когда в клубе ждет партия виста.
Федор Федорыч встал, пожал мне руку и, захватив мимоходом мою фуражку вместо своей, потому что она первая попалась ему под руку, ушел, кажется, в дурном расположении духа, лениво шаркая ногами. А между тем Федор Федорыч не любил карт и играл от нечего делать, всегда весьма равнодушно и неохотно, хотя громко проповедовал, что лучше их нет занятия в мире.
С его уходом я остался один у догорающего огня и с пустым стаканом. Кажется, Федор Федорыч вместо моей фуражки оставил мне свое дурное расположение духа. Долго еще просидел я у камина, лениво переворачивая тлеющие головешки, и неприятные мысли сменялись в голове моей. Мне было досадно на свет, на наш людской, а не на Божий свет, за то, что добро в нем ходит об руку со злом, так что и не различишь их одно от другого; за то, что создал этот свет свои правила, над которыми сам же смеется; за то, что все в нем двулично, и стоит только переменить место, чтобы белое называлось черным, а черное белым. Мне было досадно и на себя, за то, что, понимая этот свет, у меня недостает энергии вырваться из его колеи и гордо пройти жизнь прямой дорогой, не огибая предрассудков, над которыми смеюсь и которым покоряюсь; мне было еще досаднее, что я в этом и нужды даже никакой не вижу. Мне было до того досадно на свет и на себя, что стало грустно. Я спросил одеваться и поехал к Домашневым.
Был час десятый, когда я приехал к Мавре Савишне. Она сидела на диване с тою же добродушной улыбкой; она встретила меня тем же гостеприимным приветом, как и в деревне; на ней были и те же очки в серебряной оправе. Но городская жизнь уже коснулась ее своим воздухом: белый чепец ее был с пестрыми лентами, и вместо патриархального чулка она держала в руках роковые тринадцать карт.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.