Текст книги "Это здесь"
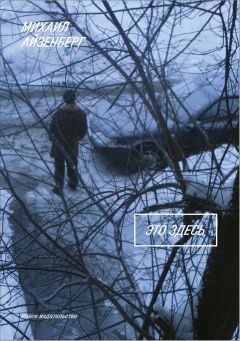
Автор книги: Михаил Айзенберг
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Плавинский
– Когда я рисовал траву, – говорит Дима, – был такой период – я боялся по ней ходить. Даже ступать боялся. Это был ужас.
В армянском городе Горисе мы сидим в номере гостиницы за тихой, медленной бутылкой водки. У Димы иногда почти платоновский синтаксис. Но отчасти и тароновский.
– Самое страшное в живописи – когда нужно все ломать. Вот я делаю картину месяц, техника такая, а потом нужно все сломать. И разлетаются осколки – острые осколки собственного «я». Но суть в том, что это должно быть красиво.
– Эмиграция – страшная вещь, она просто смела культурный слой. Даже Зверев и тот уже тоже поет и танцует: свобода, свобода! Свобода – это структура, и очень жесткая. Она очень связана с ограничением. Свобода – это цветок, который должен оставаться закрытым. Это даже пошло – определять, что такое свобода. Или что такое искусство. Я никогда не задавался таким вопросом, хотя всю жизнь этим делом занимаюсь… Вот Зверев кричит: «Анархия – мать порядка». Когда он утром приходит, я смотрю на него – такой свободный человек, что я не понимаю… Я думаю: старик, и как ты еще жив?
А когда я был молодой, тоже был крикливый.
Мать, латышку, арестовали в тридцать седьмом, и трехмесячный Дима остался один в квартире. Уже начал умирать, но в квартиру зашел отец – случайно, родители уже были в разводе.
В пионерлагере организовал других детей на поиск костей Зои Космодемьянской. Потом вставил зажженные спички в глазницы гипсового пионера. Вожатая упала в обморок, и его выгнали из лагеря.
Шел с отцом по ялтинскому пляжу и у лежащего художника увидел книгу «Винсент». Сразу накатал кучу эскизов, и не кистью, а палочкой, что вызвало скандал в художественном училище.
Связный разговор начался с его вопроса: «А вы что, Миша, очень боитесь насилия? Я это почувствовал». Когда же он это почувствовал? Вероятно, два дня назад, когда лез в драку с шофером Корюном, а я их растаскивал. С этим шофером мы познакомились в буфете автостанции возле Вернашена, и радушный местный житель пригласил нас и еще трезвого Диму переночевать в доме своей матери. Поняв, что ночлег обеспечен, Дима расслабился, и пока Корюн рассказывал про армейскую службу в Мытищах и про любезного его сердцу командира, выпил примерно бутылку водки, кидая буфетчику десятки. Рассказы нового друга ему явно не нравились, и он начал его задирать.
Жители Армении пьянство не понимают, пьяных презирают и очень гордятся тем, что у них нет ни одного вытрезвителя. Но к тому времени все автобусы уже ушли, а с нами надо было что-то делать. Наливающийся обидой Корюн повез нас к каким-то источникам с теплой минеральной водой, раздобыв по дороге араку и сыр. Арака была уже точно лишней. В этом, считающемся святым, термальном источнике Дима решил помыть ноги, и нас со скандалом увезли в какой-то строительный вагончик, холодный до ужаса. Там-то основная драка и происходила.
В автобусе, идущем в Горис, я ехал рядом с шофером и все время валился на него, засыпая. Тот не сердился и сочувственно угощал конфетками. Сон покинул меня, когда я заметил, что шофер даже на очень крутых участках читает газету, а на дорогу почти не смотрит.
Рассказ Армена. Уже после нашего отъезда Дима жил в Аштараке у родственника Армена, который выстроил себе даже не дом, а целую крепость на холме. Там Дима много рисовал или переводил на бумагу каменную резьбу хачкаров. Накопилась целая кипа листов, и он, уезжая, положил все на крышу машины. Но закрепил плохо, и по дороге в Ереван все незаметно сдуло. Дима с горя запил. Но через день к Армену пришел незнакомый сельский человек с грудой Диминых рисунков, которые он подбирал на дороге, а потом нашел таксиста и выяснил, куда тот отвез автора. Какая-то очень армянская история.
Сны об искусстве
Я и молодые художники в гостях у Семы Файбисовича. Тот вместо бутылки выставляет на стол какие-то банки с мутно-розовым содержимым. Что это? «Это моя очень старая работа, – объясняет Сема, – называется „Домашние заготовки“. Стоит так давно, что уже забродила, есть какой-то градус, и можно ее выпить». Молодежь польщена, но я вызываюсь сбегать за водкой.
Схожий прием был во сне о новом виде прозы: там сюжетное повествование с четкой интригой имело форму винной коллекции (автор умер, и друзья распивают вино в память о нем, не подозревая, что губят лучшее его произведение).
Портрет, где на лице меняются цифры прожитых лет, как на счетчике.
Мы живем в небольшом городе и боремся с художественным начальством за новое искусство. Но любим ходить в старый музей, это наша единственная отрада. Вдруг видим, что около музея происходит что-то страшное: крик, гром, рабочие подвозят к музею громадный ящик без крышки. В ящике чудовище – красно-коричневый (!), сморщенный как печеное яблоко искусственный младенец, метров десяти в длину, визжащий и дрожащий как желе. И я понимаю: начальство сдалось и приобрело для музея работу модного западного авангардиста.
А вот «чужие» стихи.
Сабуров показывает два новых вида стихотворений: наборные разноцветные доски, вроде пляжных лежаков, и странные напольные часы, на циферблате которых только полчаса. Он говорит: «Я понял, что стихи – это механизм, сгущающий, конденсирующий время. И нашел способ делать это впрямую, обходясь без слов».
В полусне я долго размышлял, какой же он талантливый, этот Сабуров: придумал два вида новых стиховых изделий зараз. Да, но он же придумал это в моем сне, значит и авторство как минимум парное. Нет, отчего же парное – сон-то мой!
Идет мое поэтическое чтение, во время которого обнаруживаются какие-то большие вещи и целые циклы, о существовании которых я совершенно забыл. Их сохранил Дима Воденников, он их мне и передает, уверяя: «Да-да, это ваше – читайте, читайте!»
Вот большая вещь – сначала из отдельных звуков, потом по-немецки (немота?), причем слова написаны слитно, я еле разбираю, читаю с паузами и запинками. «Это правда мои стихи?» «Ваши, точно ваши», – уверяет Дима.
Начинаются стихи-чертежи. Их нужно читать словами, и я опасаюсь, что подзабыл какие-то архитектурные термины. Да, так и есть.
Затем большой цикл, иллюстрированный серией похожих друг на друга темноватых изображений какого-то домика, даже сарая. Цикл озаглавлен «Десять стихотворений к …». К кому же? С удивлением вижу, что к Ульяновой. Нет, это ошибка зрения: к Ульяне Лопаткиной!
Забавно, что часто снятся какие-то совсем неожиданные люди. Вот Воденников. Или Лимонов.
Мы готовимся к восхождению. Среди нас легконогая девушка-лимоновка, рядом с ней и сам Лимонов. Вообще-то мы куда-то улетаем – на другую планету, и теперь заполняем ковчег. «Мы могли бы купить и корову, – говорит Лимонов, – но правильный хозяин начинает с козы».
Заходим в деревенский магазин, где хозяйка выдает нам приз – кусок сыра. Пожилая продавщица этим недовольна. «Но здесь пусто», – говорит кто-то со стороны. «Как эта ненависть пуста», – бросает в ответ продавщица, мимоходом и без всякого аффекта.
Я с напряжением пытаюсь вспомнить предыдущую строчку. Я ведь ее знаю! Ага, вот: «Как эта темнота клубится». Вместе будет: «Как эта темнота клубится, / Как эта ненависть пуста!» Наверное, у этой дамы (продавщицы) можно уточнить источник любой цитаты? Но вся очередь, состоящая из пожилых некрасивых людей, смотрит на меня недоуменно и с осуждением: «Это же второе послание А. … (пауза) Вы, как театральный студент, должны были совсем недавно его проходить!»
Проснулся в пять утра, чтобы записать пришедшую во сне фразу: «Русский авангард в очередной раз справляет собственное несовершеннолетие». Там, во сне, она казалась такой точной и эффектной, что долго старался себя разбудить и записать. Ну вот, записал.
3. Четверг и больше никогда
Визит к художнику (2)
Это уже художник Алик Меламид, мы пришли к нему (году в семьдесят первом) с Сабуровым и Сергеем Григорьянцем, в те времена еще коллекционером по преимуществу. Показ происходил в гостиной, куда Алик таскал из соседней комнаты большие полотна – пейзажи и ню – серо-желтые, словно замученные общим художественным недугом. В тот вечер он показывал именно то, от чего очень скоро, чуть не в тот же год, бежал без оглядки в придуманный им соц-арт.
Сергей заинтересованно поглядывал острым глазком на антикварный родительский ампир и равнодушно – на Аликовы произведения. Мы с Женей были еще не обучены зрительским репликам и в присутствии профессионалов помалкивали. Молчание сгущалось и нависало. Алик мрачнел и волочил свои картины с досадой и нарастающим бешенством. Кому-то нужно было, наконец, что-то сказать.
– М-да, – светски протянул Сергей, – вон то дерево вам удалось.
«Я почему-то считал, что мы идем в гости в племяннице Певзнера и Габо, а вовсе не к начинающему художнику», – чуть обиженно говорил Сергей на обратном пути. Кто-то из них недослышал или перепутал.
В гостях у этой племянницы, Леночки Васильевой, я и увидел впервые Женю Сабурова. Помню: сидят трое незнакомых молодых людей и смотрят на меня как медкомиссия.
Как странно! А впрочем, как смешно. Вот мы идем втроем по Садовой в районе Нового Арбата: Иоффе, Сабуров, я. Я отстаю, иду немного сзади, поэтому часть их разговора не прослушивается: закрывается плечом, задувается ветром (осень?). Да и разговор идет вполголоса, не для чужих ушей. «Слышал? – говорит Леня. – …арестовали». Кого именно арестовали, я не уловил – кого-то на «гр». И переспрашиваю, забегая в их ряд: «Кого арестовали? Григорьянца?» «Да какого Григорьянца! – Леня досадливо морщится и даже коротко машет рукой на этого совершенно не относящегося к делу Григорьянца. – Григоренко! Григоренко арестовали».
Я догадываюсь, почему он так машет: совсем недавно мы совещались с понимающим в литературных делах Григорьянцем по поводу издания самиздатского литературного журнала, и тот сказал, что сейчас ну уж никак не время для такого начинания, можно загреметь, будь он хоть трижды литературный. «На всякий случай: я этого всего не слышал», – добавил Сергей, что называется, со значением. «Все понятно», – мрачно подытожил Леня, и мы откланялись.
Журнал мы потом все-таки сделали, но только один номер, а дальше как-то не заладилось.
Григоренко арестовывали дважды – в 1965-м и 1968-м. В 1965-м мы все еще не были знакомы, то есть это 1968 год. Через семь лет Сергей Григорьянц получит свой первый срок. А генерала Григоренко я видел потом у Айхенвальдов. Он сидел по другую сторону стола, молчал, клонил свою абсолютно гладкую голову, огромную, как котел, и по виду очень тяжелую.
Григорьянц (отступление)
«А это какого времени гобелен?» – спрашиваю я Григорьянца. «Франция, шестнадцатый век. Только это не гобелен, а отдельные вышивки, сделанные по общему рисунку и сшитые вместе. Разве вы не видите швы?» Швы можно разглядеть только с расстояния в один сантиметр. В таком приближении понятно, что действительно вышивка, не гобелен. А от стола (где и шел разговор) различимы только разные оттенки тихого сияния.
– Первый срок поначалу шел довольно комфортно. В камере сидели простые ребята, относились ко мне хорошо, очень любили слушать всякие байки про знаменитостей. Потом байки кончились, и я стал читать им книги: «Преступление и наказание», «Записки из мертвого дома». Они все это слушали, открыв рот. Их просто завораживало, как он ко всем этим вещам относится – не извне, а изнутри. Это уже потом им объяснили, что не платят денег на ларек, потому что Григорьянц не хочет договариваться с администрацией, и стало сильно хуже.
Когда прощались, я еще раз все окинул взглядом: «Вот вы этот автопортрет Осьмеркина держите в прихожей, а по-моему, это шедевр». «Ну-у в комнатах же все не помещается, а здесь и кроме Осьмеркина есть хорошие картины». – «Ну да. Вот этот пейзаж – просто замечательный». «Неудивительно, – небрежно уронил Сережа, – это Вламинк».
Комар – Меламид
В начале девяностых Алик Меламид как-то вернулся к своему прежнему обаятельному образу. Взгляд лукавый, всех помнит, только вопросы иногда задает странные: «А поете ли вы до сих пор Окуджаву?»
А Комар стал совсем другим человеком и похож теперь на кроткого тувинского бога. Удивительные глаза и такие тяжелые и простые, скальные линии лица, словно его специально высекали с намеком на стилизацию. Что его так изменило?
– Какое-то окончательное расставание с Россией, – говорит Зиник. – Я только сейчас понимаю фразу Комара: «Надо было умереть раньше, до путча». Он все толкует теперь, что никакого выбора не случилось, обстоятельства оказались сильнее. Надо или возвращаться в Россию, или ехать в Израиль – там курица лучше. Нельзя, говорит, бесконечно растягивать жизнь – как резинку.
Но никогда не угадаешь, кто из двух соавторов на этот раз будет милым и простым, а кто холодновато-осанистым. В общем, через раз, словно они специально договариваются. В Нью-Йорке Виталик опекал меня как друга детства, в Москве лидировал Алик.
В октябре 1998-го у Гельмана открылась их выставка: фотографии Москвы, сделанные обезьянкой. За год до этого они заставляли слониху писать абстрактные картины, а весной переключились на обезьянку. Слониха уже в прошлом. Я почему-то расстроился: думал, что одно не отменяет другого и даже предполагает третье, четвертое и так далее. Как было бы чудесно, если бы все предприятие со временем превратилось в такую бродячую труппу зверей-художников, разъезжающую по миру со своим искусством. Слониха пишет картины, обезьяна фотографирует, группа кротов занимается энвайронментом, тигр устраивает хеппенинги с желающими поучаствовать, крокодил – акционист. Алик и Виталик стоят у кассы.
Выставка, собственно, никакая: десятка два расплывчатых цветных изображений. Но народу пришло много, все хотели посмотреть на обезьянку. Обезьянки не было, Алика тоже, один Комар.
Потом слонов научили писать реалистические полотна, а Алик затеял новый проект: объявил искусство новым богом, а себя – его воплощением. Что-то в этом роде. То, что очаровывает в самом Алике, почему-то начисто отсутствует в его американских идеях. Он артистичен, лукав, а идеи прямолинейны и брутальны, нет в них ни внезапности, ни элевации. Возможно, он генетически заряжен на действие, инструментален, и самого себя тоже сделал своего рода инструментом.
Когда мы встретились в следующий раз, Алик довольно вяло рассказывал о своем существовании в ипостаси живого бога, зато с большим энтузиазмом о сборе грибов, урожае огурцов и помидоров. О том, что в Италии обязательно надо пробовать сало «колонната» и особую свинину. По ходу вечера задавал разные вопросы, на которые не всегда легко было ответить. Например: почему люди умирают? Слышать это из уст живого бога было немного странно.
А тяга к огурцам и помидорам – это, возможно, остаточный интерес к овощам вообще, которые они когда-то тоже учили заниматься искусством. Кажется, фотографировать.
Было время, когда мы очень любили их соц-арт, за прекрасным рождением и бурным развитием которого увлеченно наблюдали со стороны. Лена Шумилова даже принимала некоторое участие: фотографировалась как модель для одного из проектов, когда соц-артисты на месяц-другой занялись пародийными фантазиями на тему авангардной моды.
С Леной и Аликом я и познакомился в один и тот же день.
Красавица
«Красавица!» – подумал я о вошедшей в комнату незнакомой светлоокой девушке. Ее непослушные волосы были не коротко стрижены, а движения не озабочены специальной плавностью и женственностью. Нас представили: Лена.
Комната принадлежала Зинику. Здесь только что закончился урок иврита, и полузнакомый еще хозяин впервые предложил мне задержаться. Я задержался.
Вслед за девушкой появилась пара, Алик Меламид и Катя. Алика я тоже увидел впервые, а Катю видел и раньше: она ходила на занятия к Владимиру Вейсбергу в нашем архитектурном институте.
Замечательно оживленное лицо девушки Лены вело какую-то свою партию в паре с быстрой речью. Глаза сияли доброжелательно, но без специального интереса. Эти четверо были старые друзья, и говорили о других своих друзьях, я мало что понимал, но почему-то не уходил. Молча сидел у шкафа, все плотнее приваливаясь к нему плечом.
Лена, как выяснилось позже, это наше первое знакомство совершенно не запомнила.
Год? 1969-й, едва ли семидесятый.
В пятилетку до отъезда Зиника поместилось больше событий, чем в последующие лет пятнадцать. Время шло быстро, но как-то очень подробно и плотно – без пауз. Через год-полтора мы все уже были близкие друзья или хорошие знакомые.
Конец письма
«После всех событий я проснулся на даче и сразу понял, по какому поводу и т. д. Мне снилось, что Ленька приезжал в Москву и снова уехал, а я не успел глянуть на него. Подошла Лиза: „Ты что, Миша? Ты от воздуха такой красный? Ну что ты, Миша, мальчик Миша, ну не плачь – ты ведь не один“». Это конец старого письма к Зинику, которое тот собирается поместить в своей книге. Комментарий не предусматривается, а ведь незнание того, что означенной Лизе три годика, делает сообщение совершенно непонятным.
«Я как-то смутно помнила молодого Зиника, – написала мне дочка, – какого-то высокого (!) кудрявого человека который приезжал в Кратово и вообще как-то фигурировал в нашей жизни. Когда заново познакомилась с Зиником, прошло какое-то время прежде чем я поняла, что это один и тот же человек».
«Слушай, я Зиника в постель не беру?» – «Конечно, не бери – еще рассыплется». Что могут означать эти фразы в разговоре молодых супругов в середине семидесятых годов? Правильно, речь идет о машинописи.
Дача
Казалось бы, место – проще не бывает. Весь поселок расчерчен на неравные прямоугольники участков; штакетник, сосны да ели, изредка береза. Почти все дачи построены по нескольким типовым образцам и похожи друг на друга.
От станции идет асфальтированная улица до керосинной лавки с ее незабываемым запахом, дальше грунт, но разный на каждом участке дороги. У дома отдыха ноги увязают в глубокой пыли, а после поворота на нашу Заречную начинается плотный пружинящий песок и дерн, засыпанный сосновыми иглами.
Торф, толь, штакетник, шифер, рубероид. Все эти слова для меня погружены в определенную погоду, почему-то сырую. Окутаны сырым подмосковным воздухом.
Немного болезненный сердечный зажим от слов вроде «веранда», «калитка», «флоксы». Сокращающаяся с каждым годом взросления, но все еще очень длинная дорожка от калитки до веранды, а вдоль нее флоксы, жасмин, душистый табак. Их дивный, самый сладкий на свете вечерний запах. Когда вечером делаешь шаг из дома, дух свежести и запах флоксов – как мгновенный наплыв счастья.
С этой дорожкой накрепко связано воспоминание о вечернем ожидании отца. Когда он приезжал, было уже темно, но на подходе к калитке он всегда свистел особенным свистом, я срывался с крыльца и долго бежал по земляной дорожке мимо остро пахнущих флоксов и душистого табака.
Кухня и сарай. В одном отделении кухни кастрюли, старые керосинки и, главное, погреб. Вечная его сырость, белая плесень на песчаных стенках. В другом отделении всякий железный хлам, который дед копил всю жизнь, ничего никогда не выбрасывая (как, вероятно, и все в его поколении).
Недалеко от калитки двойная сосна: растущая из одного ствола, но раздвоенная наподобие лиры. Все дети по очереди (по мере рождения) фотографируются в ее развилке. У меня на фотографии испуганный вид. Еще бы: мне года два, и держит меня отец, но он за стволом, его не видно.
Август 1974
Месяц август в 1974 году был очень холодный. Когда я приезжал с работы, уже темнело. Дойдя до сосны-лиры, я видел сгорбившуюся от холода фигуру Зиника и слышал быстрый стук пишущей машинки. Зиник писал по несколько страниц в день, как настоящий писатель, сидя за машинкой на открытой веранде отдельного флигелька, который у нас почему-то назывался «бунгало» – с ударением на втором слоге.
Я шел к нему не сразу, сначала надо было показаться родственникам. Все родственные связи тогда напряглись, как перед какой-то смутной угрозой. В семье об этом никогда не говорили, говорить о реальных вещах было вообще не принято, для них как будто и языка не существовало. Но чутье на опасность было у всех развито невероятно.
Угроза отъезда как-то висела в воздухе, и на Зиника посматривали как на ее проводника.
Поселившись в тот год на нашей даче и немного осмотревшись, Зиник и Нина пришли в некоторое возбуждение от увиденного: «У вас тут настоящий клан: несколько поколений со своими устоями. Как в романе Агаты Кристи – большой дом, большая семья, во главе дед». Такое наблюдение очень меня удивило: по привычке всегда казалось, что это в порядке вещей.
Глава клана весь день возил взад-вперед свою тачку, что-то окучивал и пересаживал, кося глазом на непонятного жильца. Насаждения выстраивались вдоль дорожек самым нехитрым образом. За смородиной шел папоротник, потом грядка флоксов, «золотые шары», куст лилий. За ними куча камней для неведомого строительства, скамейка и пень. На пне лежали сморщенные ягоды шиповника. Все, проходившие по главной дорожке, непременно останавливались и утыкались носом в твердые, как ватман, белые розы с паучком в сердцевине.
Готовился обед. На столе перед кухней валялись длинные глянцевые стружки кабачка. Его жарили и фаршировали, крошили розовый лук, резали морковь, терли яблочко.
От дома к кухне, от кухни к умывальнику пересекали участок громкие призывы, отчетливо разделяясь на два слога с двумя ударениями и становясь от этого повелительными, почти угрожающими: «Ле-на! Ле-ва!»
Запах вишневки, запах елового дыма и как будто муравьиного спирта. Ящик стекольщика плывет над забором совершенно отдельно от его – стекольщика – позывных, грубо выпеваемых и лишившихся согласных.
Именно такая стилистика и приводила в бешенство Зиника: «Ну как, как в сотый раз описывать тот же закат и фарфоровый чайник? Нужно писать так, как никто не решается писать. Существует какой-то заговор: все хотят писать о чем-то таком, о чем прямо писать не принято, но находят обходной путь. Называют себя другим именем, пишут о мировых проблемах, хотя имеют в виду только личные отношения. Нужно писать плохо и напрямик. Точные слова носятся в воздухе, нужно только угадать момент, когда ты имеешь на них право».
Оранжевый абажур не висел, а как-то лепился к потолку в случайном месте, не по центру, что очень меня раздражало: я не эксцентрик и, сколько себя помню, в любом помещении машинально ищу геометрический центр.
К концу разговора я начинал засыпать, хотя зубы стучали от холода.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































