Текст книги "Это здесь"
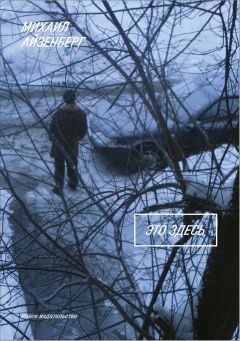
Автор книги: Михаил Айзенберг
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
5. Журфиксы
Основной состав
«Какие еще новые журфиксы, и так вся жизнь ушла на эти вторники-четверги». «Не ушла, а пришла», – уточняет Алена.
Я обогнал молодую пару как раз в тот момент, когда юноша говорил спутнице: «Смотри – как в фильме ужасов». Я оглянулся: он указывал на балкон ближайшего дома. Ничего ужасного я не увидел. Не увидел и ничего нового, потому что это был балкон той квартиры, где мы прожили семнадцать лет.
Вот по такому же высохшему дикому винограду Константинов и Коваль когда-то лезли из палисадника на наш балкон второго этажа с намерением порадовать хозяев неожиданным появлением. Как-то в тот раз обошлось без милиции, что поразительно.
Сюда и приходили гости, сначала на «четверги», потом на «понедельники», а «вторники» проходили уже более комфортно. Сидячих мест все равно никогда не хватало, что для хозяев было постоянным стрессом. Мне даже снилось иногда, что вот приходят гости, а сесть им некуда.
Наша кухня – при небольших размерах – была какая-то резиновая. Человек двенадцать помещалось без особого сопротивления, но бывало и больше – чем дальше, тем чаще.
Меню было однообразное: рисовый салат, гренки с сыром, жареные сосиски, если удавалось их купить, а нет, так поджаренная колбаса. Пили, как я теперь понимаю, немного. Два-три человека под сдержанное одобрение зала выставляли на стол принесенную бутылку водки, которая тогда стоила больше, чем хотелось бы. Портвейн приносить стеснялись, приносили сухое. О, это сухое! Только от перечисления марок желудок сводит привычная судорога. «Оно же кислое, кислое, – возмущался Леня Иоффе, – а все говорят: сухо-о-е!» Знающий все на свете Сабуров объяснял, что белое сухое вино очень нестойкое и его при перевозках закрепляют какой-то сернистой гадостью. Она-то и разъедает нам кишки. Иногда все кончалось уж совсем неожиданно и приходилось бежать – либо на Курский к таксистам, либо в ближайший ресторан «Урал». Тонкие дипломатические переговоры с швейцаром удавались мне только на высшем градусе вдохновения.
Случалось все же, что я отключался раньше ухода гостей, и тогда наутро справлялся у Алены: «Что Евгений – не буянил? Скандал был?» «Уже начинался, но я его погасила кротостью и притворной дуростью».
На отношения с соседями все это влияло не лучшим образом. Жившая под нами старушка тетя Соня звонила по телефону и предупреждала: «Не перестанете катать бутылки по полу – вызову милицию». Ее товарки, сбивавшиеся в кучу при нашем утреннем проходе, угрожающе указывали на нас пальцами и тоже грозили милицией. Но никто ни разу не вызвал. Мы жили среди ангелов.
Девушка Люба из квартиры напротив однажды что-то кричала скандальным голосом. Позже выяснилось, что она пишет стихи. А сейчас живет в Англии и работает в МВФ.
Длилось это – с перерывами – двадцать шесть лет. Основной состав – человек пятьдесят, но с частичной ротацией на каждом этапе. Заходили порой еще чьи-то приятели, а то и попутчики. В девяностые пошли уже целые делегации. Сколько всего? Грубая арифметика указывает какие-то пугающие цифры.
Вначале это было довольно расплывчатое объединение, вовсе не «тесный круг». Первое время «четверги» просто соединяли – почти механически – остатки нескольких прежних кружков, к тому времени уже распавшихся. Люди стали сходиться и как-то притираться друг к другу – при том что происходили из абсолютно разных «систем», и у тех были разные способы существования. Что, разумеется, проходило не без осложнений. «Новый человек принимается в штыки», – говорил Асаркан. Но как становилось интересно, когда действующие лица разных пьес начинали соединяться, да еще помимо тебя и в тебе не нуждаясь.
Четверть века я пытался наладить в домашних условиях какую-то «Бродячую собаку». Задача оказалась вполне утопической: я не мог заставить людей видеть то, что видел я.
Еще до «четвергов», году в семьдесят втором мы впервые оказались на моей кухне вчетвером: Сабуров, Зиник, Иван и я. Я ожидал, волнуясь, что вот сейчас они наконец-то покажут себя друг другу и поймут, какие они на самом деле. Но обсуждались только недавние события, а настоящий разговор все никак не начинался.
Иван неожиданно встал из-за стола и по своему обыкновению начал расхаживать взад-вперед, как маятник. Уже не помню, что его подтолкнуло, но заговорил он о Владимире Соловьеве: мерно и немного наставительно, как будто читал лекцию, объяснял, почему он его не любит, почему Соловьев не его философ. Евгений неодобрительно следил за ним из угла и молчал. Я с каждой секундой терял надежду.
Но Зиник присматривался к Ивану с интересом, потом заговорил – как бы по касательной, как он это умеет. Разговор завязался, и впоследствии они почти подружились.
Я всего лишь надеялся, что все друг другу понравятся. Иногда это удавалось сразу. Асаркан и Гройс через пару фраз нашли общую тему и весь вечер говорили про академика Орбели. «У него есть стиль», – значительно отозвался Гройс о новом знакомце.
Впервые пришедшего на «понедельник» Рубинштейна подвыпивший Коваль сначала разглядывал внимательно и с явным скепсисом, потом начал потихоньку задирать. Лева терпел и не отзывался, что Витю только раззадоривало. Вот Лева потянулся вилкой к маринованному помидору, а Витя прижал его своей вилкой: «Они не хотят, чтобы ты их ел». «Вот пусть они сами мне об этом и скажут», – хладнокровно заметил Лев, на чем пробное состязание и закончилось, оказавшись крайне непродолжительным.
Когда на кухне впервые появился Юрий Коваль, я по очереди представлял ему присутствующих. Но сообразительный Витя, опередив меня, разыграл маленькую сценку: вскочил с лавки и, молодцевато поклонившись, представился: «Коваль».
Но чаще бывало куда сложнее. После таких встреч-столкновений я всегда долго не мог уснуть и мысленно обращался к участникам с объяснениями и увещеваниями. «Вы совершенно не поняли Андрея, – втолковывал я кому-то. – Главное, что о нем нужно знать: это, во-первых, человек очень нервный; во-вторых, вполне одинокий; и в-третьих, настолько раздвоенный, что вынужден, чтобы не распасться, носить специальный панцирь-корсет. Об этом корсете вы и составили мнение по первому знакомству».
Стрелять фашистов
«Куда ты, Витя?» – спрашивали мы Коваля, которого всегда куда-то тянуло при определенном наполнении. «Иду фашистов стрелять», – объяснял Витя, уже не способный справиться с нахлынувшей жаждой приключений. Это была фигура речи: в семидесятые фашисты в открытую еще не расхаживали. Но уход в темноту и ночь все равно вызывал общую тревогу, и мы пытались Витю остановить. Это не удалось ни разу. Тревога была обоснованной: однажды Витя вернулся довольно быстро, но с окровавленной рукой: схватился за нож, приставленный кем-то к его животу.
Увлечение оказалось заразительным. Первым присоединился Константинов, и при его высоченном росте они составляли с Ковалем почти цирковую комическую парочку. Однажды вдвоем залегли в засаде в густой палисадник под нашими окнами. Засаду обнаружила вызванная жильцами милиция, и стрелки были отправлены в отделение. «Заподозрили педерастию», – сконфуженно объясняли они, появившись под утро. Еще долгое время это было предметом назойливых шуточек.
Да, Витя упрямый. И в подвыпившем состоянии обидчивый. Пригласил на обед, я отказался, он обиделся: «Сейчас буду ходить по квартире и бить хвостом об мебель, как этот… как раненый тигр. Всю мебель исхуячу». Обижается, когда мы под утро отказываемся поддерживать разговор и просимся спать. Разговор – это очень условно. Однажды часов пять скрежетал зубами, пел песни на несуществующих языках, а если начинал говорить, то по-английски или по-польски. Брал всякий раз новый кусок хлеба, отламывал кусочек, клал рядом. К утру около его тарелки образовалась целая груда таких кусков.
Прежде чем свалиться одетым в кровать, ухватил карандаш и нацарапал: «Миша! Есть Страшный Суд и он уже идет…» Что там дальше, мы не знаем. Великое письмо было уничтожено наутро.
После нашей поездки в Лондон восемьдесят девятого года они с Зиником затеяли переписку, но та быстро прервалась: Витины письма перестали доходить. Причина выяснилась только через двадцать с лишним лет. Оказывается, Витя писал свои послания от руки, симпатическими чернилами и с припиской: «прогладить утюгом». Ну, понятное дело: переписка с заграницей.
Его постоянный интерес к птицам явно неслучаен. В юности он и сам походил на небольшую лесную птичку – внимательную и быструю. Мы относились к нему тогда не совсем как к человеку, скорее как к маленькому божку.
Внешне тогдашний Витя несколько отличался от нынешнего В.С. и вел себя совершенно иначе. Он был очень сдержан, очень политизирован и даже несколько конспиративен (к тому были основания). Строгий юноша. Взгляд холодноватый, слегка отстраненный и слегка отстраняющий. А может, не слегка.
С Липским они прекрасно работали в паре; чувствовалась многолетняя слаженность, сыгранность. Один начинал, второй подхватывал, потом менялись ролями (персонажами). У обоих был зоркий охотничий глаз, нацеленный на все комическое: способность заметить неявный комизм в повороте разговора или в бытовой ситуации и немедленно его обыграть, на ходу превратив в импровизированный скетч. Шел непрерывный спектакль, а неожиданная роль зрителя – и только – никого как будто не угнетала. Наша импровизационная несостоятельность при этих двух профессионалах была слишком очевидной.
– Ты позванивай, – говорит Витюша, – тем более что жизнь сейчас – она похожа на «жизнь с приключениями».
О погоде
Погода с тех пор изменилась не сильно. В середине семидесятых первый снег выпал 11 ноября. Это был день рождения Липского, мы вышли ночью и увидели этот внезапно-белый тротуар с тонким слоем очень чистого снега.
Эта чистота взывала к поруганию. И мы очень тщательно и неторопливо вытоптали на проезжей части огромное слово «хуй». Особенно усердствовала Алена.
Техника релаксации
– А что вы делаете руками? – строго спросила массажистка. Ее удивила стабильная напряженность некоторых мышц.
– Да в сущности ничего, – смущенно признался я.
– Странно. Очень странно. Такое впечатление, что вы целыми днями держитесь за баранку.
Думаю, она угадала. Я действительно держал целыми днями какую-то баранку, какую-то дырку от бублика.
Я любил общие собрания в конторе: садился в последнем ряду и мгновенно засыпал. Женщины из инженерного отдела считали, что я владею какой-то особой техникой релаксации, и очень мной восхищались.
В какой-то момент эта жизнь так меня утомила, что я стал засыпать и посреди дружеских встреч – на четверть часа, полчаса, час. Проснусь – а разговор уже ушел в неведомую сторону, Иван и Цицерон кричат про Лермонтова. «Нет, ты скажи: почему Лермонтов – мучитель наш? Мучитель-то почему?» – «Потому что ясно, что великий поэт, а почему великий – неясно, а это мучительно». – «Да вовсе он не мучитель, это Пушкин – мучитель: ни его литературе, ни его литературной позе невозможно подражать – слишком велик. А Лермонтов – открыватель литературы под лозунгом „а дальше делай сам“. Он первый научил русских поэтов закатывать истерики».
Тут уже Иван ушел спать. Цицерон походил по комнате и неожиданно спросил: «Так ты понимаешь, что я уезжаю? Ты понимаешь это или нет?» «Нет, не понимаю и уже не надеюсь понять. Раньше что-то понимал, а теперь привык и уже не понимаю. Мишуту я проводил как в командировку. И это очень плохо, очень обидно для тебя, но что же делать? Я не верю, что ты уезжаешь, и когда уедешь, все равно не поверю». – «И я не верю. Не верю, что расстаюсь с теми, от кого уезжаю, и не верю, что встречусь с теми, к кому еду. Да ни к кому я и не еду. Глупо надеяться на тех, кто там. Вообще – глупо надеяться».
Вот тогда он и произнес ту триаду, которую я записал на стене: «Не верь. Не бойся. Не проси». Такое лагерное заклинание.
Рубинштейн однажды предложил мне сменить жанр: начать писать, например, пьесы. А Коваль однажды убеждал писать сюжетные стихи. Впрочем, это было поздней ночью, после того как ушли остальные гости. Я обещал, что завтра же попробую, а сам уже еле держался и подкреплял силы тайным каменным сном во время его части диалога. Но все тайное становится явным, и вот он с неохотой прощается в четыре утра, оставляя за собой право вернуться, если не найдет такси. Я бросаюсь в постель с подлой надеждой не услышать звонок. Звонок я действительно не услышал, но уже под утро мне мерещился сквозь сон окликающий меня голос за окном. Я не смог проснуться и горько об этом пожалел, когда обнаружил на полу маленький аккуратный камешек, а на стекле тонкую сетку трещин. Вечером позвонил Иван и признался, что это он звал меня утром, а не дозвавшись, стал бомбардировать окна. На вопрос, отчего он не воспользовался дверью, внятно ответить не смог.
Евгений начал читать, и я, чтобы лучше воспринималось, прикрыл глаза. Потом открыл их и огляделся: не подумал ли кто, что я уснул во время чтения. Видимо, они так и подумали, смотрят насмешливо. И что-то изменилось: все сидящие выглядят странно, отличаясь от привычного своего вида, как обычные часы от часов на картине Дали. А почему за окном светло? Холодея, взглянул на часы: пятый час.
«Разворачивается понемногу», – сказал Витя по телефону. Вообще, осторожный человек. Но я помню его лицо в тот вечер. А Евгений, которого уводила жена, хоть и бормотал: «Уводят, гады!», но так мягко, расплывчато. И забыл зонтик. А тот забыл взять книжку. А этот забыл отдать деньги. На один вечер все всё забыли. Этим я и оправдывал свою дурацкую жизнь.
На недавнем юбилее я сказал Ивану, что только лет семь назад меня покинула идея всех передружить. Иван смотрит на меня темным, каким-то сверлящим взглядом, настолько нестерпимым, что я все время отвожу глаза.
Высунуться в окошко
Разговор в редком составе (Леня Глезеров, Иван, я) под еще более редкое киндзмараули, придающее значительность каждому сказанному слову.
– А что вообще означает «подросток»? Не чувствуете вы здесь двусмысленности? Великого, так сказать, обмана?
– Я никогда не знал любви в значении тепла, ну или семьи, но и другая ее сторона мне неизвестна: вот эта боязнь обмануть и стремление разоблачить. Между мной и другим всегда была полоса гари, выражаясь литературно.
– Это важно было услышать, потому что те чувства подозреваются в исключительной национальной принадлежности.
– Да, я тоже взял под подозрение свои поиски братьев и сестер. Не есть ли этот колокол братства рудимент родового начала, о котором толкует нам Морозов?
– Для меня здесь существенно слово «колокол», потому что один, сам по себе я могу и заснуть.
Удивительно, как у нас с Леней иногда совпадают формулировки.
– По-моему, ситуация подростка – это когда жаждешь стать каждым, но в то же время и кем-то определенным: Ротшильдом, Асарканом. Поэтому и общение с этим кем-то корыстно: это способ перенять, вместить в себя – обмануть и присвоить. Такая плотоядная любовь.
– Да я не про любовь, она-то, понятно, что-то немыслимое. Я говорю скорее о желании любви, о стремлении к тому, чтобы любили тебя.
Так мы выясняли, что в этой теме от женской сути еврейства, а что годится для всех. Но так и не выяснили.
«Все-таки девушки как-то забивают наш тихий мужской разговор. Так мы и не поговорили». Но Глезеров меня не поддержал: «Не в этом дело. Не надо сваливать на других».
После очередной рюмки губы сами собой складываются в горькую усмешку. Ожесточение вперемешку с умильностью и расслабленное беспомощное смятение. Высунуться в окошко и произнести небольшую обличительную речь.
День рождения
Когда пришел следующий гость, мы с Улитиным уже допивали вторую бутылку. Евгений полупочтительно поклонился. «Вы знакомы?» – «А как же». Если знакомы, то вприглядку, где-то пересекались. У Зиника, где же еще.
Пошел какой-то натянутый разговор, я слышал рассеянно-ироничные интонации Павла Павловича, на чьей стороне уже была бутылка испанского вина.
– Вы не слышали, тут новый интересный прозаик объявился – Владимир Казаков.
– Наверняка хороший. Все Казаковы хорошие прозаики.
Подошли еще гости и топтались теперь в кухне, разглядывая странного человека, оживленно беседующего с незнакомыми людьми, а похоже, что с самим собой. Улитин внешне как будто соединял двух разных людей: голова от другого тела. Незаметная сейчас хромота вносила в его позу некоторую неестественность: сидел как-то неустойчиво, как в лодке. Чувствовалось, что ему тяжело менять положение, и он компенсировал это аффектированной жестикуляцией.
– А где же Санта-Клаус? Где тот американец с рыжей бородой?
Никакого американца не предполагалось, но Улитину он был нужен как разговорный ход. «Да, кстати!» – и он резко развернулся на скамейке к новому слушателю. Но тот, похоже, не считал, что вышло кстати. Новые гости сначала слушали с интересом, но интерес сменялся недоумением. О чем, собственно, речь? Кто эти санта-клаусы, американцы и другие персонажи, мелькающие в монологе, необъяснимо меняющем свое направление?
В воздухе поплыли неотчетливые фразы своего разговора. Кто-то вышел в комнату; кто-то попытался заговорить со мной. «Не трогай его, он слушает», – сказал Евгений – тихо, но выразительно. И еще тише: «Я мог бы сейчас так завестись, что никто бы и рта не раскрыл. Но тут, видишь ли, именинник стоит на страже».
Именинник только беспомощно оглядывался, стоя у плиты. Помощь не приходила; молчание тяжелело с каждой минутой. И даже на его старые испытанные анекдоты никакой реакции. «Этому пижону не прочтешь даже стихи Киплинга про капитанов». И пауза стала шириться как трещина во льду.
Я выскочил из кухни. В коридоре толпились девушки. «Мы устали», – сказала Таня, которая в таких случаях всегда солидарна с мужем. Быстро же они устали.
К приходу основной партии гостей антрекоты еще только начинали мокнуть в уксусе. Люди бродили взад-вперед, мешая проносу кухонного стола; допивали четвертую бутылку водки, таская компоненты салата из-под рук добровольных помощниц. Уже и вино пошло в ход, и все сидячие места заняты половиной ожидаемых гостей. Новые гости вваливались шумно и весело, совали в руки цветы, искали место. Ну все, кажется, расселись. Я тыкал вилкой в одну и ту же шпротину и не мог отвести от нее взгляд, как под гипнозом.
Вдруг подряд три звонка в дверь: Иван, Цицерон, Асаркан. Иван – сразу под крыло Улитина, Асаркан – в другой конец стола, где тут же возникает оживленный разговор.
– В «Комсомольской правде» отозваны четыре зарубежных корреспондента, – докладывает Асаркан, – один за смакование жизни миллионера Хьюза в репортаже о его смерти, два за валютные операции, а последний даже исключен из партии с формулировкой «за попытку измены Родине». Тот предложил свои услуги «Свободной Европе», а ему предложили – на первое время – должность курьера, он смылся обратно и заявил, что изучал неофашистов, но в консульстве уже все знали.
– Я считаю, что мемуарами Жукова советская публика обязана мне. Есть такая женщина, Анна Давыдовна Миркина, уговаривала меня написать обзор о советских театрах – для иностранных издательств. Я, естественно, отказался. А потом вышли мемуары Жукова с посвящением А.Д. Миркиной. То есть у нее со мной не вышло, так она к Жукову подкатилась. С ним вышло.
– Все его называют, как и следует, по имени-отчеству: Сергей Алексеевич, только еврейские мальчики, что крутятся около, – «отец Сергий».
– Бедные еврейские мальчики, со всех сторон им достается.
– А вы-то, Миша, что переживаете? Вы же не еврейский мальчик.
– А в чем отличие?
– Ну, они все… с бородами.
– Не надо, не надо спорить. Лучше выпьем за милых людей, собравшихся за этим столом.
– Это кто ж здесь милый?
– Ну, себя я не имею в виду.
Я смотрю на другой, улитинский, конец стола, там райское зрелище: П.П. говорит с Цицероном о Бахтине, с Ольгой – о Розанове. Иван и Дима, оба с сияющими глазами, с двух сторон вытягивают шеи, стараясь не пропустить ни слова.
Асаркан и Цицерон беседуют на балконе, я смотрю на них из комнаты. Асаркан отстаивает свою свободу – мол, что хочу, то и ворочу, а Цицерон говорит, что ему это только кажется, а на самом деле он делает все точь-в-точь по талмуду.
А ведь только что все было так плохо, так безнадежно.
Какую-то срединную часть праздника я все-таки просидел молча, как бы забытый всеми, на самом дне шумовой воронки. Несмотря на острое, почти болезненное одиночество, там было довольно уютно, как в лесном шалаше во время сильного дождя. За воротник все-таки подтекало, и в какой-то момент я ушел в кухню, принялся мыть посуду. Но меня скоро вернули: Улитин уходит.
Я вышел за ним на улицу. На фоне ссутулившейся фигуры светится яркая точка сигареты: ночная мишень. Темный контур внизу подкошен – нога подвернута назад. «Вы представляете, какая у них начнется жизнь, когда мы отсюда уйдем?» Кто «мы»? Я-то остаюсь.
В квартире действительно началась какая-то другая жизнь. «Я все понял, – кричит Алик Меламид, обводя глазами присутствующих, – теперь здесь главный человек – Ваня. Ваня, милый Ваня, слышишь: ножик точится? Сделай, Ваня, обрезанье – мне в Израиль хочется». «Ну да, обрезался – и концы в воду».
Как тень на стене промелькнул Алеша, последний гость. Лена снова и снова представляет его Евгению, Алеша терпит, а Евгений равнодушно кланяется, не замечая, что пластинку заело.
В коридоре Торшин неожиданно взял меня под локоть: «Скажи-ка, среди этих людей есть твои друзья?» Я окинул взглядом огромный, собранный из разных частей стол и разнообразно гудящее разговором собрание: «Да вот же мои друзья!» Он, кажется, не поверил, а я чувствовал, как все мои клеточки заполняет вещество любви. Я хотел быть сразу со всеми, во всех углах, говорить с каждым мужчиной, танцевать с каждой женщиной. Бегал из кухни в комнату и обратно через балкон, заглядывал через плечо и влезал в чужие разговоры. Мне казалось, что праздник наконец-то повернулся к нам лицом, удался как никогда, что мы в раю. Наконец-то мы дождались этой благодати. «Дитятко мое, – запела пластинка, – не плачь, не пужайся». На словах «я тебя не выдам» я уткнулся в подвернувшуюся макушку. И пока она подмокала, я чувствовал, как ширится круг около нас, сидящих на полу, как люди затихают и отходят ближе к стенам. Но образовавшийся круг уже не был пустым, его заполняло какое-то сияние, не доступное глазу.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































