Текст книги "Это здесь"
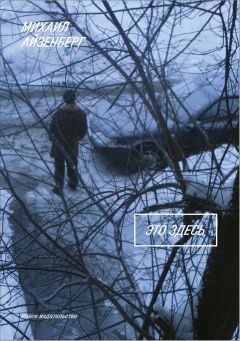
Автор книги: Михаил Айзенберг
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
«Вышка»
– Я на коленях, буквально на коленях умолял Зиника написать соц-артистский роман. Напиши, говорил, что угодно, пусть будет любая халтура, но надо это сделать сейчас, – сообщил мне недавно Алик Меламид, по своему обыкновению азартно блестя глазами и удивительно напоминая мудрого зайца.
Что-то вдруг пронеслось в сознании, как летучая мышь, какая-то тень воспоминания. Я спросил, когда это было.
– Точно в семьдесят четвертом году.
Так и есть! Часть вечеров на холодной веранде прошли тогда в литературных обсуждениях. Зиник уговаривал меня писать вдвоем авантюрно-социальный роман «Вышка», даже излагал придуманный им в общих чертах сюжет. Я отговаривался неумением. Смущал меня еще и этот сюжет: он как-то зашкаливал по части авантюрности и проваливался то в памфлет, то в абсурдистскую притчу. Я не понял тогда, что Зиник мысленно прикидывал разные варианты того самого соц-артистского романа. Меня он вербовал, вероятно, потому что и его не очень-то увлекала эта идея. Сам он писал тогда сложную аллюзивную прозу в духе Улитина и критические статьи в журнал «Театр», где с ним носились и даже посылали в командировки.
Четверги
Еще только входя в его квартиру, можно было понять, удается ли вечер. Слышишь ли оживленное многоголосье или различим только чей-то напряженный голос, заполняющий паузу. Что-то было в этом страхе пауз.
Открываешь дверь в комнату и – в первом случае – тебя сразу накрывает ровный пчелиный гул головокружительного разговора. Припекало сразу со всех сторон. Ах, если бы мои невидимые двойники сейчас заполнили комнату, приставив ухо к каждому из собеседников. Но я и без них слушал одновременно не меньше трех говорящих и только молил бога, чтоб и меня не втянули в разговор, не помешали слушать.
Или такой, к примеру, «четверг»: в комнате перебивают друг друга Улитин, Асаркан и Айхенвальд, но в придачу является Пашенков с двумя питерскими «княжнами», уже почти невменяемыми. Одна сразу принимается за странные пластические танцы, качаясь как змея и замирая; другая начинает путешествие по чужим коленям, не разбирая их владельцев и пытаясь по возможности раздеться. Меня бы хватил инфаркт еще в передней, а Зиник держится и весь вечер делает вид, что ничего особенного не происходит.
Зиник сидит в кресле, откинувшись, с рюмкой в руке. За последние годы он стал меньше ростом, теперь крупная голова с шевелюрой в плотных завитках и большие кисти рук принадлежат невысокой согнутой фигуре, а ширина корпуса заметна только в разворотах. Временами лицо попадает в чью-то тень, и тогда соотношение темного и светлого в нем меняется, как в негативе. Радужки обесцвечиваются и сияют ободками, остальное уходит в красноватый тон. Видеть это почему-то неловко. Как будто что-то разладилось на съемочной площадке, неправильно дали свет, игра идет впустую.
Но вот он улыбнулся, на лице опять появилось мальчишеское выражение. Тонкие углы губ поползли вверх, и вдоль скул наметились косые провалы, как будто он нарочно втягивает щеки.
Система защиты
Зиник обвинял меня в том, что я уклоняюсь от отъезда ссылками на общую ситуацию. А я упрекал его, что своим отъездом он уклоняется от общей ситуации. Сплошное уклонение. А не уклоняясь – к чему клониться? Есть какая-то междоусобица настроений и интересов – одно за другим, с пятого на десятое. Это и есть уклонение. Здесь и без больших событий все время что-то происходит, и все очень важно, потому что входит в твою жизнь. А там? Там может произойти много событий, но ничего не может случиться. Что бы ни произошло – ты за стеклом и смотришь сквозь это стекло. Зачем досматривать чужое кино? Все это тебя на самом деле не касается.
Я физически чувствовал эту замурованность. Невозможность вмешаться.
«А здесь не так?» – спрашивал Зиник (и не он один). Так, да не так. И знаешь, что это перетягивание каната ничем не кончится, но соревнователи уже пустили корни.
Пожалуй, я просто защищал свой угол. Это нельзя назвать решением, но я не жалею о нем, просто потому что пожалел бы о любом своем решении. Всякое волеизъявление я воспринимал как своеволие. Как возню в силках, которые от этого еще больше запутываются.
Зиник писал мне про мои «тимуровские сборы с хоровым пением», про неприличную тягу к коллективу. Но вот что я прочитал однажды в его письме, уже не мне адресованном: «Я все время пытаюсь объединить весь мир в одну веселую компанию и все время натыкаюсь на кривую брезгливую гримасу». Вот какой документ попал мне в руки. На его основе я мог бы совершенно иначе построить всю систему защиты, но было поздно: Зиник уже уехал.
В последний вечер, на «проводах» волна провожающих вынесла нас с Иваном в дальнюю комнату и прижала к старому креслу с высокой спинкой, украшенному резьбой. Дерево совсем посерело, торчали клочья ваты. «Гляди, Иван, это кресло Асаркана». – «А что с ним будет?» – «Не знаю, выкинут, наверное». Иван посмотрел на меня с удивлением и укором: «Ты что, разве можно делать такие вещи? Если ты пока не можешь его взять, я подержу у себя».
Я пошел договариваться. Нет, не имеет смысла, оно много лет стояло на балконе и все прогнило. Одна труха.
Одна труха. Вот и четверга больше не будет, никогда, никогда, никогда.
Выяснилось, что какие-то вещи я мог сказать только ему. А сейчас, когда их некому говорить, о них и думать не имеет смысла. Мысль уже не заходит в эти области. Какая-то «часть речи» перестает существовать. Какая-то часть жизни.
Мы выстраиваем свое пространство, непрочное как карточный домик. Стоит вытащить одну карту, и уже нет никакого пространства. Уезжая, люди увозят часть твоей жизни. Она больше не имеет смысла. Ее как бы и нет.
На цепочке
Зиник уезжал под песенку Анны Герман «Надежда – мой компас земной…», которая может показаться сейчас кратким сценарием всего последующего: «кажутся нелепыми обиды» и проч.
Его провожали с почетом, большой толпой. Странное наблюдалась соотношение: чем меньше чемоданов, тем больше провожающих. Зиник ехал с портфелем и гитарой, совершенно расстроенной. (И было от чего.)
Старое «Шереметьево», совершенно не приспособленное для таких толп и наспех перекроенное, чем-то напоминало новорожденную, еще не обжившуюся канцелярию. Таможня отделялась от нашего мира какими-то шкафами, двери нет, есть просто разрыв невысокой выгородки, перетянутый двойной длинной цепочкой. Пустота, закрытая на цепочку, очень символично. Таможню лихорадит: отъезжающим в Израиль не дают вывезти семейные ценности: иконы и родительские коврики ручной работы. Ожесточение растет. Отъезжающих выкликают по ночному списку: Хлысталов – первый, Мах – второй, Зальцман – третий. Гринберг-пятый приехал первым и, сверкая золотыми зубами, пытается влезть без очереди. У нашего суточного дежурства появился смысл: не пустить Гринберга.
После двух дней в аэропорту такая сумасшедшая легкость, что кажется – жизнь можно выбирать по электронному табло. И чем меньше выберешь, тем лучше. Мельканье лиц, бесконечные делегации. По лавкам спят на корзинах деревенские люди в страшных своих чулках, как на любом вокзале. Но это не вокзал, и это не просто деревенские люди, а приволжские немцы, они едут на свою историческую родину.
А вот Владимир Иванович Иванов, например, едет в ГДР, зачем-то прихватив с собой охотничье ружье со ста патронами, две иконы и чертову гибель валюты. (Это я незаметно для себя выучил наизусть образец таможенной декларации.) Отдельно от Иванова следует пакет для товарища Петрова, мужа товарища Петровой. Что-то есть в этой стилистике: «наркотики и средства для их употребления». Что ж это за средства для их употребления?
У меня, еще не очень привычного к проводам, было отвлекающее занятие: высматривать в толпе людей из конторы. Это оказалось так просто, что даже не интересно. Люди в простых костюмах с нехарактерными для этой толпы физиономиями прогуливались парочками и совершенно открыто прощупывали нас взглядами, как будто фотографировали. Кто-то заодно и фотографировал, но этих было труднее различить среди множества людей с фотоаппаратами. Отъезд Зиника, историческое событие.
Зиник, собственно, и есть муж товарища Петровой. Но товарищ Петрова с ним не едет, стоит в толпе провожающих и изо всех сил улыбается, изображая лицом, что ничего особенного не происходит. Ну, расстаемся. Ну, надолго. Возможно, навсегда.
Нет, что-то происходит. Началось какое-то хлопотливое, как бы деловое движение, все сошлись в круг, лихорадочно поглядывая на часы. Зиник нагнулся, взял портфель и гитару. Я не сразу понял, что это и есть «последнее прости», а когда понял, не хотел поверить. Человек в центре круга обвел всех глазами и кисло пробормотал какую-то заготовленную фразу: «Простите, если кого обидел».
Быстро отвернулся и вошел в ту дыру, канул туда, где до него уже не дотянуться, и эту видимую, осязаемую пустоту закрыл за собой на цепочку.
И почти тут же появился наверху, на «мостике». Никто этого не ожидал, мы еще топтались около прохода, пытаясь заглянуть в то запредельное пространство, куда нам не было доступа. Он увидел сверху, как все сорвались с места и слепо, толкая друг друга, бегут к нему – и Асаркан бежит впереди всех – не выдержал и закричал в набегающие запрокинутые лица: «Нина, приезжай! Приезжайте! Все приезжайте!» Голос сорвался, и он канул.
Еще мы видели из-за ограды, как в стеклянном переходе мелькнула сутулая фигура с гитарой, в плаще поверх бушлата.
Эти косматые, бурые такие бушлаты польского производства в те времена часто мелькали в толпе, и сердце всякий раз вздрагивало, бросаясь навстречу.
В Израиле тоже было кому встречать, и Слава Цукерман даже заснял все на пленку – с дальним прицелом, какой-то намечался фильм. С фильмом ничего, конечно, не получилось, но пленка осталась, потом потерялась и совсем недавно нашлась на чьем-то чердаке. Длится все минут пятнадцать: Зиник проходит таможню, заполняет анкеты, разговаривает с чиновниками. Впечатление это производит потрясающее. Среди новоприбывших в кепках и с тюками вдруг появляется герой какого-то французского фильма шестидесятых годов (пленка черно-белая), юноша-бунтарь. Ни капли советчины, никакой пришибленности; невероятное лицо, полное оживления и веселого любопытства.
Четверг на расстоянии
Крик с мостика так и остался единственным срывом за все долгие недели проводов и прощаний. Зиник спасался от них, сделавшись режиссером этого затянувшегося действия. Он ставил собственные проводы. Все нормально, жизнь продолжается. Зиник уезжает, и это хороший повод собраться.
Художественный дар проявлялся в нем еще и умением видеть в любом событии закрученный сюжет, а в реальном человеке – героя такого сюжета. Он давал жизни какое-то повышение, при котором случайный разговор оказывался еще и литературным событием. Так он смотрел на все, немного со стороны – со стороны литературы, и заражал других своим зрением, втягивал их в такую литературную жизнь, меня в том числе. Отдельной сюжетной линии у меня там не было, но я мог продолжать чужую.
Я это понял в один из последних дней, когда, сидя в его комнате, следил за разборкой архива. Зиник бегал по комнате и распределял, что кому останется. Пытался отобрать у меня – и разорвать – гранки своих статей, зато оставил мне сто пустых использованных конвертов. Зачем? Теперь я должен всю жизнь хранить сто пустых конвертов.
Он налаживал жизнь, в которой уже не будет участвовать. Я чувствовал, что этот долг он исполняет через силу и еле удерживается от резкостей. «Но заместителей не будет», – записал потом Улитин. Зиник, видимо, это тоже знал, и все как-то обошлось.
«Они оба считают друг друга своими улучшенными двойниками», – прочитал я на той же улитинской странице. Эту идею можно объяснить только слепой жаждой сходства. Конечно, ничего общего. Я помню, как Зиник прощался с дочкой. Мы вышли из их дома в общей куче родственников. Отец Зиника держался поодаль, искоса поглядывал на сына, с которым увидится завтра и, видимо, больше никогда. В его лице было застывшее, как бы окаменевшее удивление. Дочка увлеклась разговором с двоюродным братом и не очень-то хотела отвлекаться. Зиник помахал рукой, вся группа двинулась к метро, а мы завернули в ближайший винный отдел. Я представлял себя на его месте и боялся посмотреть ему в лицо.
– Это не мы ссоримся, – говорил Улитин, – это Зиник нас оттуда подзуживает.
Эпистолярный стиль Зиника действительно очень заразителен, у него есть своя форма диалога: пикировка. Беда в том, что главных людей его жизни можно было довести до такого состояния только оскорблениями.
Эмиграция – в том числе и контора «Рога и копыта». Когда затаил в душе какую-то обиду, а обидчика потом долго не видишь в лицо, его мысленный образ меняется: вырастают рога, отрастают копыта. Это беда переписки, но я даже завидовал умению Зиника писать такие отчаянно-провокационные письма. Он взвинчивался и взвинчивал. А я только смотрел недоуменно на новую пустыню, образующуюся прямо на глазах с какой-то кинематографической скоростью.
– Сейчас он все-таки не дома, а в гостях, ему просто некуда поставить машинку, – уговаривал меня Улитин. – Но скоро все образуется, и мы опять будем что-то получать и писать, как будто ничего не случилось. Ничего не случилось? Ха! Ну и ну!
Зиник уехал в январе 1975-го, а в апреле мы договорились обмениваться дайджестами его писем и открыток, но договор мало кто выполнял. Мы просто показывали друг другу полученные «почтовые отправления», с этого обычно и начиналась встреча.
Еще живя в Израиле, Зиник собирался написать пьесу «Два четверга», но ничего из этой затеи не вышло. И понятно почему: эту пьесу мы и так писали все вместе, не догадываясь об этом (или все-таки догадываясь?). Действие шло на разделенной пополам сцене: половина в Москве, вторая – в Иерусалиме, Лондоне и так далее. На нашей половине Саша Морозов снимал очки и возмущенно отодвигал от себя стопку недавних открыток: «Ничего не понял!» «Это не страшно, – успокаивал его Асаркан, – это так надо: входит в стилистику».
На какое-то – и довольно долгое – время основой жизни стала переписка, и новая иерархия строилась на том, кто прочитал больше писем. Нина, жена Зиника, была во главе, мы с Леной Шумиловой определенно делили второе место.
В какой-то момент Лена собрала все имеющиеся письма и перепечатала для общего ознакомления. И вдруг на что-то обиделась: «Ты попробуй, разложи все по датам – очень интересная картинка получается. В один и тот же день он пишет мрачное письмо Нине, веселое Асаркану, ядовитое тебе. А мы тут ахаем и переживаем: Зиник в депрессии, Зиник загибается!» Я разложил и ничего криминального не обнаружил. Разные письма, ну и что? После четырех страниц депрессивного текста действительно захочется вспомнить что-то веселое.
Сильнее всего действуют его письма к жене. В них он ходит, садится, встает, заламывает руки или улыбается. Больше подробностей, интонаций, живых картинок. Киноглаз ярче. Вот это и значит делить на там и тут; не две любви, а одна и та же любовь, неаккуратно разрезанная почтовыми ножницами.
Это вам не Москва
В утомительно ровном шуме глушилки образовался разрыв, и узнаваемый голос Зиника произнес: «Поминки по прошлому, жутковатый такой ностальгический вечерок». Мы разом поглядели друг на друга, и каждый увидел со стороны эту кухоньку с тусклым светом и четырех людей, склонившихся над приемником, страдальчески и безнадежно вслушивающихся. Потом разрывы участились, но уже пошел пересказ пьесы, которую Зиник смастерил из Козьмы Пруткова, с объяснениями режиссерских аллегорий, с писклявыми или плаксивыми голосами актеров в качестве иллюстрации. «Создатель русской театральной студии, – так его представил диктор, – поэт…» и еще кто-то, не расслышали – видимо, прозаик. Из идеологической части речи нам досталась только странная фраза «мы тоже в каком-то смысле потерянное поколение», а дальше про родину, которой нет, и про границу, которая есть рампа, и можно стоять по ту или другую сторону от нее. Пьеса в пересказе звучала так: «Князь и княгиня начинают вырывать друг у друга еду». Или: «Они выхватывают друг из-под друга стулья, идет борьба за стулья». Это точно про нас: это мы боремся за незанятые стулья.
Потом пришел Асаркан. Он сокрушался, что не сможет теперь заплатить за квартиру, потому что на отложенные пять рублей купил португальский портвейн за четыре пятьдесят. Портвейн мы немедленно распили. Вино приятное, много лучше «Айгешата», не говоря уже о «Солнцедаре», но с непривычки можно и перепутать.
«Закончили, закончили. Иерусалим разъединил. Это вам не Москва» – вот и все, что я услышал, когда очередь разговаривать с Зиником дошла и до меня. Глезерову повезло больше, он услышал слова «это самое». Кое-что было понятно из слов Нины, которая разговаривала первой: «Что ты мне пересказываешь свой вчерашний день, я для этого тебе звоню? Ты знаешь, сколько стоит этот разговор – сорок рублей, я тут всех разорила. Расскажи хотя бы, с кем ты спишь. Да? Ну а все-таки? Ничего особенного? Левка? А что Левка, Левке минус – он уехал в Тулу. Хотя, может, и не уехал, потому что вчера, когда мы возвращались с „четверга“, Асаркан посадил нас в милицейскую машину, я вылезла, а что с Левкой, неизвестно. Что? Да, у Миши „четверг“, а ты не понял? Ну и дурак».
Но самые интересные диалоги были вначале, когда Нина набрала номер, чтобы узнать, почему так долго не дают разговор. «Положите трубку», – строго сказал ей набранный номер. «Как же я буду с вами разговаривать, если положу трубку?» Все же положила, и телефон тотчас заверещал снова. На этот раз сказали: «Побудьте со мной на линии». «Хорошо, побуду».
Когда разговор кончился и все надолго замолчали, стало понятно, какая дикая стоит жара. «Особенно тяжко стоять в очереди, – заметила Нина, – потому что на тебя со всех сторон опираются. Я одной так и сказала: не обязательно ко мне так прижиматься». «Но ведь можно выйти и постоять сбоку». – «Ну да, а потом полчаса копаться локтем». «Это у них еще от тех очередей, – сказал Асаркан, – где если на миллиметр сдвинешься, обязательно кто-то влезет». «А ведь ты любишь стоять в очередях». – «Я? Обожаю». – «Нет, правда. Зиник, когда опаздывал на час, всегда говорил, что стоял с тобой в какой-нибудь очереди за батончиками». – «Ну если он мной прикрывал свои супружеские измены, я-то здесь при чем? Сегодня, чтоб не стоять в очереди, даже купил какие-то отвратительные конфеты „Мокко“. Они были внутри коричневые, и я подумал, что их шоколадность как-то заменит соевость». Заменит совесть?
Слово «толерантность» я впервые услышал (или расслышал) в телефонном разговоре Асаркана с Зиником, незадолго до отъезда первого. Зиник что-то диктовал: что делать, как действовать. Я обратил внимание и на незнакомое слово, и на изменение Сашиного тона, ставшего вдруг смущенным и увещевательным. Это было неожиданно.
– Мне казалось, – почти уговаривал Асаркан, – что я еду в мир, основанный на толерантности. Но именно толерантности нет сейчас в твоих словах и рекомендациях.
Последний заезд к Морозову был неудачным. Я умудрился разбить по дороге бутылку каберне, пить пришлось рислинг и противную гамзу. У Морозова болела голова, ритуальный дайджест по письмам Зиника он еле терпел и скоро его прервал: «Нет, но как вы относитесь к тому, что он оставил Нину одну?» Улитин ответил, что это ее решение. «Так вы считаете, что женщина должна ехать куда угодно?» – «Куда угодно. Если вы достаточно заморочите ей голову своей любовью к ней или ее любовью к вам. Я верю в любовь». – «А если бы ситуация была обратной? Если бы уехала она?» Улитин тоже начинал терять терпение: «Ничего не понимаю, какая ситуация? Зачем нам эти абстракции? Сейчас мы сидим здесь, и у нас такая ситуация, что мы можем решать только, выпить ли нам чаю или поехать домой. А придут другие вопросы, так мы и их будем решать, каждый как может. Каждый! И вы, и он, и она, и еще кто-то, не будем указывать пальцем кто!» И он ткнул пальцем в меня. «Но вы не думайте, что Зиник – ваш враг. Просто он не может не воевать, он так устроен. И мы смиряемся с этим из-за каких-то иных его достоинств».
– Теперь мы помолчим, а говорить будет Миша. Он должен нарассказать нам кучу всякой ерунды. Что вы молчите? Интересно, а как вы с Асарканом разговариваете? Вот Миша не понимает, что нужно писать всякую ерунду, и присылает мне только пики. Раз в год. Ему нужно, чтобы это были сплошь шедевры. В результате оттуда я получаю больше корреспонденции, чем у себя из-под бока.
– Вот и Зиник просит присылать ерунду, – вмешался Морозов, – а сам не присылает. А нам, может, тоже хочется подробностей, а домыслить мы и сами можем.
Вдруг оживилась водопроводная труба и приняла посильное участие в разговоре. Морозов выронил чашку, и кровавая лужа, вторая за сегодняшний день, растеклась по полу. Дальнейший монолог он слушал, закрыв лицо руками, потом ушел в другую комнату. Зря мы сегодня его потревожили.
«Обидно, что весь разговор шел на четвертого человека, которому не до того», – сказал Улитин, понуро стоя у лифта.
Потом уехала и Нина.
Мы встретились только через тринадцать лет после отъезда Зиника, почему-то в Югославии. Весной 1988-го раздался звонок Нины: «Я слышала, вы собираетесь в Югославию?» Я подтвердил. «Так вы что – не хотите, чтобы и мы туда приехали?» Голос у Нины был удивленный и сдержанно-обиженный. Боже, я даже не подумал об этом. Не знаю, как это объяснить. Железный занавес проходил в моем сознании очень извилисто, и для меня Англия и Югославия помещались в разных и несоединимых углах. Я что-то забормотал, пытаясь оправдаться. «Ладно, мы берем билеты», – смягчилась Нина.
Встретившись, мы пару мгновений стоим друг против друга, и я чувствую, как воспоминание со световой скоростью входит в их новый облик и уже неотделимо с ним соединяется. Зиник, правда, стал меньше ростом. Нина похудела.
Молчание прервала Нина: «Привет! Так я тщательно готовилась к этой встрече, а вчера, как назло, выскочила лихорадка на губе». Зиник молчит и время от времени дотрагивается до моего рукава, проверяя реальность присутствия.
Вечером отправились на маленькую городскую площадь и расположились в том углу, где церковь почти касается городской стены. Открыли привезенную ими бутылку «Вдовы Клико».
– Видишь, – сказал Зиник, – невозможное все-таки сбылось.
Оранжевое закатное солнце освещало его лицо, и оно теряло четкость очертаний. Что-то с его лицом происходило.
Нина подозрительно наблюдала за нами:
– Надеюсь, вы не собираетесь здесь рыдать?
«И теперь представь, что ты должен навсегда остаться в Югославии», – говорит Зиник.
Первая фраза, которую я услышал от Нины при следующей встрече: «Ну что? Что-то мы стали слишком часто видеться».
Когда она смеется, ее лицо как бы осыпается смехом. Осыпается его обычное холодноватое выражение; брови удивленно ползут вверх; на глаза набегают легкие слезы, которые она смахивает тыльной стороной руки.
«Мы тебя обожаем», – говорю я ей. «Ох, это очень по-московски: сказать человеку „я тебя обожаю“, а через минуту отвернуться и перестать о нем думать».
«Хамская забывчивость, – говорит Зиник и, взглянув на побледневшего Валеру, поясняет: – Не твоя именно хамская забывчивость. Хамская забывчивость человека вообще».
Заключается она, как можно понять, в том, что с середины семидесятых мы как будто стояли на галерке, наблюдая заграничную сцену, и простояли так кто пять, кто семь, а кто и все десять лет. Но постепенно наше внимание стали привлекать другие вещи, мы отвернулись и потихоньку занялись собственной жизнью. Это и была «хамская забывчивость».
Я его провожаю, идем пешком, он говорит, что все ужасно и нет от этого ужаса защиты нигде, даже в Англии. «Ты не представляешь, что они говорят, что они думают».
– И все же я не верю, что это продлится долго. Это же чистое зло, ничего там нет другого, только зло. Это моя старая идея: у зла нет силы для собственного существования, оно берет силу со стороны, питается сопротивлением. Зло нужно огораживать.
В день его приезда мы договорились о встрече в «Маяке», новом Митином заведении. Я пришел на минуту раньше и смотрел сверху, как он, еще не видя меня, поднимается по длинной лестнице в распахнутом черном пальто. Седой. И я сразу, пока мы еще не встретились глазами, его обнял. Я очень боялся, что первым его взглядом будет тот, хорошо мне знакомый – отчужденный и настороженный, – после которого уже не обнимешь и не поговоришь.
Но все обошлось. Он изменился за те три с половиной года, что мы не виделись. Не скажу, что стал спокойнее, но как бы смиреннее. Общались мы на редкость хорошо, уже и не вспомню, когда нам удавалось так хорошо разговаривать: без обхода острых углов, без тяжелых пауз.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































