Текст книги "Кофемолка"
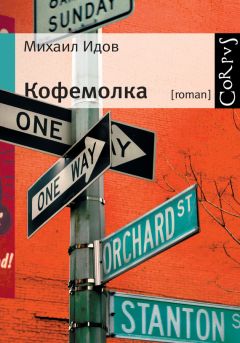
Автор книги: Михаил Идов
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Я не успел напрячься, как Ави обернулся ко мне и полуизвинительно осклабился:
– Я вам больше скажу. Могу предложить бесплатную консультацию. У меня один родственник содержит очень, очень успешное кафе неподалеку. Хотите к нему заглянуть?
– С удовольствием.
Экспедиция состоялась на следующий же день. Я пришел с “молескином”, Нина с “роллифлексом”. Она только что сформулировала идею для новой серии фотографий Нижнего Ист-Сайда под условным названием “Нижний Восток”. Серия планировалась портретная, что для Нины было большим личным прорывом. Она решила составить целую галерею из местных предпринимателей, чередуя “старых” и “новых”, – сапожник бок о бок со, скажем, продавцом экологически чистых фаллоимитаторов.
Фланировать по Фуллертону с Ави было все равно что гарцевать по Дикому Западу в компании знаменитого бандита. Лавочники либо подобострастно здоровались, либо молча глазели, либо смывались от греха подальше. По манере, в которой каждый из них реагировал на появление хозяина, можно было легко вычислить финансовое благополучие его предприятия. Я безуспешно попытался представить себе, каково это – владеть таким кусищем объективной действительности; достаточным количеством зданий в ряд, чтобы те составили немалую часть чьего-то частного мира, декорацию, на которой денно и нощно разыгрывались сценки из сотен жизней. Иметь полный контроль над этой декорацией, способность превратить чей-то любимый книжный в прачечную и обратно. Поменять вид из окна, ландшафт, линию горизонта. Эта власть казалась мне равносильной дару гипнотизера – такой же ключик к отдельным отсекам чужих умов. Разве ваша любимая книга занимает больше жилплощади в вашем мозгу, чем память о квартале, в котором вы выросли? И в таком случае не является ли владение этой жилплощадью, по массовости и массе эмоционального эффекта, равноценным написанию “Холодного дома” или там “Атлант расправил плечи”?
“Каса кава”, та самая кофейня, чей модус операнди нам, по мнению Ави, стоило скопировать, занимала первый этаж бруталистского бетонного параллелепипеда неподалеку от Нью-Йоркского университета. (Ави, разумеется, владел зданием.) Внутри было так же тоскливо. Кафе оказалось калькой со “Старбакс” – подделкой лишь чуть менее наглой, чем “Джинсы Левиса”. В глазах рябило от псевдоитальянских плакатов и грифельных досок, рекламирующих “помол дня”. Судя по запаху, большинство дней в особом фаворе был кофе с ореховым сиропом. Выпечка состояла из пары мумифицированных рогаликов. Единственной оригинальной деталью был работающий газетный киоск, примостившийся в дальнем углу.
– Вот посмотрите, – сказал Ави, жестикулируя. – Ярон здесь уже десять лет ничего не меняет. Даже краску на стенах – там-сям подмажет, и все. Гороховая, всегда гороховая. Совершенство не улучшишь, а?
Совершенство? Я нашел это заведение удручающе ординарным, но дюжинную очередь у прилавка было не проигнорировать. Мы могли только мечтать о подобном обороте.
Мы заняли столик у окна; Нина и я угнездились в одном кресле напротив Ави. За спиной Сосны студент и студентка ожесточенно целовались на просиженном диванчике. Их забытые чашки с кофе стояли, дымясь, щека к щеке.
– Главное, – сказал Ави, – это помнить, что американцы… Секундочку, вы американцы или нет?
– Мы нью-йоркцы, – сказал я.
– Отлично, – сказал Ави. – Значит, не обидитесь. А обидитесь – мне пофиг. – Он всосал щеки и поцеловал воздух. – Ну что, готовы?
Сосна явно собирался пуститься в хорошо отрепетированный монолог. Я с треском раскрыл новый блокнот.
– Готовы.
– Начнем с хороших новостей. Маржа на кофе около тысячи процентов. Нужно быть полным шлемазлом, чтобы потратить больше двадцати центов оптом на одну порцию эспрессо. Плюс! Кофе – товар кризисоупорный.
– Какой?
– Кризисоупорный. Как алкоголь. Чем глубже в жопе, извините, экономика, тем больше люди его пьют. Научный факт. Так что, если бы вы продавали только кофе, вы бы в замке жили через год. В замке!
Ави выдержал театральную паузу, пригладил свою кефирного цвета гриву и озорно уставился на меня и Нину по очереди. Как обычно, взгляд, направленный на Нину, продлился на секунду дольше. Пока его стеклянный глаз честно смотрел ей в лицо, живой прогулялся вниз до ее компактного бюста.
– Плохие новости, друзья мои, – это то, что американцы не любят кофе. Повторяю: они не любят кофе. Они терпеть не могут его вкус. А любят они теплое молоко. Только сами себе в этом не признаются, поэтому факт этот приходится маскировать. Вот здесь-то и появляетесь вы. Ваша задача – оригинальным способом убедить лоха, хлебающего теплое молоко, что он взрослый и культурный человек.
Ави махнул рукой в сторону споро двигающейся очереди у прилавка.
– Запомните, – продолжил он. – Если вы имеете дело с американцами… а иметь дело вы будете именно с ними, даже в Нью-Йорке… то ваш бизнес – продажа молока. Ваша маржа будет подниматься и падать с ценами на молоко. С кофе все элементарно: это как вино, только без бутылок и этикеток. Есть, может, сотни две придурков, которые различают сорта и все такое. Остальным просто нужны основной вкус и бодрящий эффект. Но не слушайте меня, послушайте Ярона. Ярончик! Поди сюда.
Ярон, насколько я понял, и был хозяином. Он заметил Ави минутой раньше и терпеливо торчал поблизости, дожидаясь, пока богатый кузен завершит свою орацию. Ярон выглядел точь-в-точь как Ави, только помоложе, покороче, покруглее и с рыжей бородой, похожей на клубок медной проволоки. В отличие от Ави он носил ермолку.
– Познакомься, Нина и Марк. Ярончик, как зарабатывают на кофе?
– Молоко, – сказал Ярон с уверенностью пророка.
– Правильно. Как еще?
– Не пережигай зерна, промывай машину раз в день, и три доллара за фунт дадут лучший товар, чем какой-нибудь “Блю маунтин”, который лохи покупают за сорок.
Нина сделала снимок; Ави зыркнул в моно. Я заглянул себе в блокнот и обнаружил, что написал, разваливающимся почерком, “молоко/промыв/$3 фунт/ неблюмаунтин”.
– Кстати, хотите кофе? – спросил Ярон, продолжая нависать над нами.
– Ты же знаешь, – обвиняющим тоном сказал Ави. – Язва, язва, язва.
– Да, если можно, – сказала Нина.
– Так вот, короче… самая гениальная идея “Старбакс”, – снова затянул Ави, уходя в шепот на слове “Старбакс”, – была назвать продавцов баристами. Вы тоже давайте клеймите, так сказать, все вокруг. Пусть у всего будет отдельное название. Задача – создать свой мир со своими правилами. Возьмите вот хоть это заведение…
– У нас напитки трех размеров: “мини”, “миди” и “макси”, – подхватил Ярон. – А ребят зовут “кофеистами”. Сам придумал.
– Потрясающе, – сказала Нина.
– Я смотрю, вы тут носик морщите, – сказал Ави, внезапно развернувшись всем торсом от Ярона к Нине. Я ничего подобного не заметил. – Вам хочется чего-нибудь поутонченнее. Каппу-мокка-чита-дрита. Понятно. Ярон, расскажи им.
Ярон кивнул несколько раз подряд.
– То, что я вам сейчас скажу, – произнес он наконец не без торжественности, обозначая пухлыми ладонями, что включает нас обоих в слово “вам”, – это самое важное, что вы в жизни услышите. Это золотое правило. Применимо к кафе, ресторанам, большим, маленьким, утонченным, утолщенным. Так и запиши, мальчик: Золотое Правило.
Я прохладно улыбнулся. Нина подняла свой древний двухглазый “роллифлекс” и сделала еще один снимок.
– Уж поведайте нам, – сказала она.
Он поведал. Я законспектировал его лекцию, не слушая, и разобрался в собственных каракулях уже вечером, дома, со стаканом “Балвени” в качестве лупы. Золотое Правило заключалось в следующем: аренда помещения должна занимать не больше четверти оборота. Еще одна четверть отводится на зарплаты, и 35 процентов на товар. Оставшиеся 15 процентов составляют хозяйскую маржу. (Эта формула не учитывала капитальные расходы на ремонт и оборудование – их хозяин должен был постепенно выплачивать из собственной прибыли.) Наше помещение на Фуллертон обойдется нам в 5000 долларов в месяц; это означает, что наш месячный оборот должен быть не меньше 20 000, а на кофе и продукты должно уходить не больше 7000. Если Нина и я справимся и с тем и с другим, подсчитывал я вслух, нам будет доставаться 3000 долларов в месяц, эквивалент 60 рецензий в “Киркусе”. Сама по себе эта сумма меня не беспокоила.
– Тебя эта сумма беспокоит? – спросил я Нину.
– Меня не беспокоит.
– Меня тоже не беспокоит. – Она меня слегка беспокоила. – Что Ави, Ярон и им подобные не понимают, – продолжил я, – это что мы идем в дело не ради денег… погоди, это я перегнул… не только ради денег. Что мы не будем гнаться за прибылью за счет духовного благополучия. У этих людей нет понятия… понятия…
– Морального удовлетворения от физического труда, – любезно подсказала Нина.
– Даже не этого. Понятия… созидательного начала предпринимательства. Того, как витрина преображает улицу. Формирует психологический ландшафт города. Я как раз над этим сегодня размышлял.
– Родной, я не уверена, что одно кафе так влияет на город, – сказала Нина.
– Ну, ты понимаешь, о чем я.
Нина улыбнулась и медленно провела узкой ладонью по моей щеке, против щетины.
– Прямо не верится, Марк. Не верится, что мы это делаем.
– Точно.
Я в очередной раз на мгновение перенесся в день нашей провалившейся распродажи Нининых платьев: часы тягостного ожидания, постыдное учащение пульса при приближении потенциальных покупателей, бессмысленная ярость, когда те не замедляли шаг. Затем я посмотрел на сияющую Нину и засиял в ответ. Все будет нормально! В конце концов, если человек вроде Ави, практически черная дыра в плане обаяния, мог владеть и управлять двадцатью восемью домами, если бородач-бормотун вроде Ярона мог с выгодой содержать гороховый пункт раздачи орехового сиропа в течение десяти лет и без малейших изменений, то мы уж точно сумеем удержать на плаву заведение в шестьсот квадратных футов[25]25
56 квадратных метров.
[Закрыть] – особенно если сделать его, от половиц до потолка, честным отражением нашего безупречного, но скромного вкуса.
Риск был невелик. Мы были молоды. Нас было двое; ее логика охлаждала мою порывистость, мой задор нивелировал ее робость. Нам была прекрасно знакома странная и специфическая клика, на которую мы собирались работать, весь этот класс постклассовых эпикуров, в тот момент задававший тон беседам в приличных манхэттенских гостиных – неофиты-гурманы, галерейщики с лейками, поварята с докторатами, дизайнеры, прозревшие от чтения Поллана и Шлоссера[26]26
Майкл Поллан (Michael Pollan) и Эрик Шлоссер (Eric Schlosser) – авторы книг о культуре еды и индустриально-пищевом комплексе “Дилемма всеядного” (The Omnivore’s Dilemma) и “Страна быстрой еды” (Fast Food Nation). В то время как Шлоссер навсегда отвратил сотни тысяч читателей от “Макдональдса” (включая, чего уж скрывать, и меня), влияние Поллана оказалось уже, но глубже: под воздействием его книги десятки городских профессионалов ушли “в народ” и стали фермерами.
[Закрыть], панк-рокеры, скучающие по меню своего последнего европейского турне, собственно европейцы, – потому что мы сами являлись гордыми его представителями; само осознание того, что этот круг существует, могло прийти только изнутри этого круга. Никакой предприимчивый чужак не всучил бы нашему племени неоновый тренировочный костюм. Мы бы сами свой спряли-сшили, спасибо, – по антикварным лекалам, на экологически чистой фабрике, руками гастарбайтеров с медицинской страховкой и беспроцентными ссудами на высшее образование – и заставили бы весь мир встать в очередь за покупкой. Или нет. Мы тут искусством занимаемся, черт подери. В обособленности – весь смысл этого бизнеса. Вот оно, наше ООО: Особо Обособленные Особы.
Мини, миди, макси. Тоже мне. Наши покупатели – иными словами, мы – для такой ерунды слишком умны.
Мы подписали договор аренды на десять лет двадцатого апреля 2007 года. Нина выторговала у Ави бесплатный май; в первую же его декаду бывшая сосисочная вокруг нас стала сдавать позиции будущей кофейне. Большинство перемен были связаны с появлением Орена, мастерового родом из Хайфы, которого порекомендовал нам сам Сосна. (Вообще, как я обнаружил, почти все люди, связанные с недвижимостью Нижнего Ист-Сайда – владельцы, инспекторы, маклеры, архитекторы, строители, – в какой-то момент эмигрировали из Израиля. Они держались вместе, связанные земляческими узами, которых я прежде в своем народе не наблюдал, – израильством, полностью отделенным от еврейства как такового. Филип Рот мечтал о еврее, не привязанном к истории, культуре, религии – “просто еврей, как стакан или яблоко”. Эти ребята его мечту воплотили. В любом случае их определение “своего” не включало меня.)
Орен был невысок, с косматыми бровями, забранной в полуседой хвост шевелюрой и отталкивающей привычкой одеваться на работу так, как будто сразу оттуда он направлялся на рейв середины девяностых годов. Каким-то образом к нему не приставало ни соринки. Каждое слово, шаг и жест Орена излучали непоколебимую уверенность в себе. Спорить с ним было невозможно – не трудно, не утомительно, а невозможно в самом прямом смысле слова. Если что-то сказанное вами приземлялось под малейшим углом к его собственной стройной диаграмме мира, он просто смотрел на вас с испуганной жалостью и продолжал. “Выкинь, – говорил он, указывая на старинный кассовый аппарат, опошленный будочной наклейкой. – Мусор. Оставь, – он пинал прибитую к стене скамью. – Хорошее дерево. Дуб. Они покрасили дуб. Отциклюй, налачь, красиво. А это нужно? Реши и скажи”. Английский Орена был безупречен, но я ни разу не услышал от него предложения длиннее трех слов.
Пока мы с Ниной обменивались взглядами, Орен прошелся по комнате, как мультипликационный смерч. Все, что он предлагал выкинуть, действительно кидалось: у входа быстро выросла гора ненужных вещей. Эксперимента ради я решил спасти латунное бра в форме рога изобилия.
– Эй, Орен, – сказал я. – Может, эта штука пригодится в кафе? Дешевка, но мне нравится.
– Ошибаешься, – отрезал Орен, вырвал лампу у меня из рук, взвесил ее на ладони, подбросил и отфутболил на вершину мусорного кургана. Я, кажется, начинал понимать некоторые детали израильской внешней политики, которые прежде от меня ускользали.
Бригада Орена состояла из четырех смешливых пареньков, двух поляков и двух доминиканцев. Они были исключительно жизнерадостной командой, постоянно трепались о барышнях и поддевали друг друга по национальному признаку. Кшиштоф и Владислав доминировали в беседе, Диего и Пепе – в выборе музыки: работа шла под разбитной ритм реггетона, чудовищного жанра латиноамериканской музыки, которому в Нью-Йорке только что посвятили целую FM-радиостанцию. Реггетон не имел ничего общего ни с регги, ни, собственно, с тоном. На мой слух он звучал как рэп поверх этакой тяжелой польки, бум-чака-бум-ча. Так что, возможно, и поляки в нем что-то находили.
Я очень хотел им всем понравиться. Наблюдая, как четыре человека ползают на карачках, укладывая для меня кафель, в комбинезонах, так равномерно и обильно заляпанных, что они приобрели фактуру жести, я стыдился своих льняных брюк, своих сандалий. Моя одежда казалась мне колониальной. Роль пана заказчика была для меня нова, и странно было думать, что наш благородный путь в мир физического труда – лучше быть волом – начался с найма волов поувалистее. Я решил, что Диего, Кшиштоф, Пепе и Владислав должны видеть во мне равного, даже если это означало, что я буду делать и говорить все, что они теоретически могли бы от меня хотеть. Это желание переросло в нервный тик, странный, натянутый, асексуальный флирт. Я стал, выражаясь по-ленински, политической проституткой. Я накупил простой, недорогой одежды, которую носил на стройку, – рваные джинсы “Фэйк Лондон”, стоившие мне две рецензии в “Киркусе” на закрытой распродаже, и стопку графитовых футболок из “Американ Аппарел”. Я начал принуждать себя читать новости спорта и вскоре заучил достаточно фактов, чтобы со знанием дела поддакивать мужской беседе. Выяснилось, что у “Янкиз” выдался крайне неудачный сезон, что “Метс”, наоборот, превзошли все ожидания и что открывалась реальная перспектива чего-то под названием “сабвейный чемпионат”[27]27
“Сабвейный чемпионат” – тот редкий случай, когда обе бейсбольные команды Нью-Йорка выходят в финал и фанаты могут курсировать со стадиона “Янкиз” на стадион “Метс” и обратно на метро (сабвее).
[Закрыть]. Также оказалось, что в бейсболе есть больше чем один человек по имени Эрнандес.
Еще я пытался вовлечь Кшиштофа и Влада в разговоры на панславянские темы – и был встречен стеклянными взглядами. Их не интересовали ни пакт Молотова – Риббентропа, ни актриса Барбара Брыльска, ни даже их невоспетый соотечественник Георг Кольшицкий. Более того, бригада напрягалась каждый раз, когда я пытался встрять в беседу. Возможно, они думали, что я прощупывал почву для того, чтобы урезать им плату.
Наш ремонтный бюджет составлял 58 тысяч долларов – все, что осталось от оговоренного ранее капиталовложения ста тысяч после того, как Ави угостился шестимесячным залогом, а наш инвестиционный фонд оштрафовал нас на 12 тысяч за преждевременное изъятие. (Мы с Ниной совершенно забыли, что деньги были вложены на шесть лет как минимум, чтобы максимизировать ежемесячные дивиденды.) Подобной суммы не хватило бы на настоящего архитектора, так что мы распланировали интерьер сами. Я не горжусь этим фактом, но за те шесть недель, что занял ремонт, Орену зачастую приходилось работать с салфеток.
Бывшая “Будка” имела необычный план – при взгляде сверху он напоминал змею, проглотившую сперва игральную кость, а затем кубик Рубика. Помещение начиналось с короткой, узкой прихожей, которую теснило парадное по другую сторону хлипкой стенки, затем расширялось в квадратный обеденный зал, сужалось снова, чуть раздавалось в районе кухнетки и, наконец, заострялось до треугольного коридорчика, косо упирающегося в дверь туалета. Задача состояла в том, чтобы заманить посетителей глубже бутылочного горлышка. Мы решили в меру сил открыть фасад, что означало застекленные створчатые двери вместо витрины. Стены основного помещения было решено обшить темным дубом от пола до цоколя на уровне глаз; выше комнату перепоясывала полоса рельефных обоев с египетскими мотивами, а за ним эстафету перехватывала многослойная масса винтажных плакатов до потолка. Заказанная по Интернету антикварная витрина для тортов за четыре тысячи долларов, с охлаждением и латунной отделкой, – похожая на ту, что Нина видела в ресторане “Паяр”, только еще лучше, – ехала из Брюсселя. Я задумывался, не заказать ли у портного по соседству форменные жилеты для официантов (серые, елочкой, с перламутровыми пуговицами, возможно даже из винтажной шерсти, в дань уважения истории района), но в отсутствие официантов эта идея, пожалуй, слегка опережала свое время.
Придумывание наименований всему и вся, с другой стороны, ничего не стоило, и мы развлекались этим изо дня в день. “Лилипут, человек, Гулливер”, – внезапно провозглашала Нина, и мне требовалась пара секунд, чтобы понять, что речь идет о размерах стаканчиков.
– Не правильнее ли будет “Лилипут, Гулливер, Бробдингнег”? Гулливер был человеческого роста.
– Хорошо, тогда маленькие будут “Роман”, а большие “Орсон”.
– А? Извини, милая, не понимаю.
– Разве не ясно? Роман Полански, – Нина провела ладонью в метре с лишним от пола, – и Орсон Уэллс. – Теперь она раскинула руки, будто обнимая баобаб. – Нет? Не нравится? Ну вооот…
– Да ради бога. Только назови мне среднего режиссера.
– Посредственного – пожалуйста. Вим Вендерс! Джим Джармуш!
– Цыц! По-моему, он живет в этом квартале.
Не менее животрепещущим вопросом, чем то, как назвать наши чашки и стаканы, был вопрос, что в них наливать. Мы твердо решили не отставать от Грабалов и не успокаиваться, пока не разыщем сам платонический идеал венского кофе. Наш венский кофе должен был заставить нью-йоркцев моментально отречься от своего неотесанного итальянского кузена. Сладкий, глубокий, сложный, избегший французских пневматических унижений, коронованный шелковистой пеной, налитый в прозрачный стакан для оптимальной демонстрации постепенного взаимопроникновения слоев, поданный с крохотной шоколадкой в качестве кокетливой льготы и глотком сельтерской в качестве благоразумного прицепа и хитро скрывающий потенцию двух обычных эспрессо посреди всех этих финтифлюшек. (Привыкнув рифмовать горечь с достижением, наша пуританская нация думает, что чем сильнее зерна поджарены, тем крепче кофе; на деле же кофеин лишен вкуса и запаха, и чрезмерная обработка, наоборот, выжаривает его из зерен.) Ни один из дисконтных оптовиков, рекомендованных Яроном, не отвечал нашим запросам. Большинство из них носили неприятные имена типа “Кобрикс” и телефонные коды штата Нью-Джерси.
Пару недель спустя, получив по почте достаточно бесплатного кофе на пробу, чтобы накачать трех или четырех Нин на год бессонницы, мы сошлись на двух финалистах: “Кофефан” и “Йозеф Цайдль”. У “Цайдля”, австрийской фирмы на втором столетии беспрерывной деятельности, было серьезное реноме – ее товар продрал заплывшие глаза не одному Габсбургу и продлил не один генеральский совет в Первую мировую. Сам кофе был великолепен. Цвет зерен варьировался от дубленой телячьей кожи до карамели; каурая пенка опоясывала чашечку эспрессо, и легчайшие золотистые пузырьки толпились на поверхности свежезаваренного кофе. Единственную потенциальную проблему представляла старинная эмблема “Цайдля”, изображающая негритенка в феске.
Разумеется, рассуждал я, такие вещи вполне соответствовали европейской традиции продавать кофе, подчеркивая его экзотическое происхождение. На большинстве старых плакатов он рекламировался при помощи картин караванов, львов, кальянов и прочего. И все-таки… негритенок в феске. С другой стороны, убеждал себя я, не является ли моя рефлекторная паника по поводу расизма стилизованных изображений сама по себе родом расизма? Универмаги до сих пор забиты “Тетей Джемаймой” и “Дядей Беном”, не говоря уже об индейской деве, двусмысленно лелеющей толстый початок маиса[28]28
“Тетя Джемайма” и “Дядя Бен” – популярные марки соответственно сладкого сиропа и риса, чьи логотипы изображают услужливых темнокожих типажей; индейская скво рекламирует маргарин “Страна озер”.
[Закрыть]. В мире логотипов карта традиции обычно кроет смены режима и этикета: крылатые серп и молот все еще служили эмблемой “Аэрофлота” спустя пятнадцать лет после того, как рабочий и колхозница разошлись своими путями в казино и бордель. И тем не менее. Негритенок в феске.
Бостонский “Кофефан”, наоборот, культивировал донельзя современный имидж, дизайнерски-панибратский и экологически озабоченный. Они ответили на первый же наш телефонный звонок, как будто слыхали о нас тысячу раз, и предложили отличную программу бесплатного лизинга оборудования, по которой подписавшим контракт клиентам доставалось все от кофемолок и кофеварок до чугунных чайничков попугайных расцветок. Если “Цайдль” продавал себя как “Бентли”, то “Кофефан” продавал себя как “Смарт”. Их представитель, Кельвин, прикатил к будущему кафе на мотороллере. Кельвин был смесью хипстера с металлистом – подвид, восходящий, кажется, к Генри Роллинсу: на нем были очки в роговой оправе, килограмм ключей на велосипедной цепи и защитного цвета шорты, открывавшие взгляду татуированные лодыжки. Я тут же опознал в нем басиста “между группами”, коим он и оказался – он даже знал Вика – и что трогательнейшим образом не мешало ему быть настоящим экспертом по кофе с потрясающим чувством вкуса. Не прекращая болтать о том, как, по его мнению, группа “Фолк Имплоужн” была лучшим рупором для “сопливой сентиментальности” лидера Лу Барлоу, чем его предыдущий проект “Дайнозор Джуниор”, Кельвин вытащил из почтальонской сумки ручную мельницу, горстку кофейных зерен и поршневый кофейник. Он преподнес нам свой личный бленд – наполовину Коста-Рика, наполовину Гватемала, – походя наказав искать нотки “обугленной вишни” в первом и обозвав второй “цедристым”. Каким-то чудом я поймал бледное эхо обоих вкусов в своей чашке.
Это повлекло за собой небольшое откровение. Как только ваши вкусовые рецепторы настраиваются на подобные детали, информации, которую они способны впитать, нет конца. Обнаружив вишню и цедру, я нашел, или нафантазировал, в своем кофе следующую череду вкусов: гвоздику, горячий асфальт, горький шоколад, каменный уголь, спирт, подсолнечное масло, канифоль, анис, медную монетку, войлок (скорее фактура, нежели вкус), пемзу, бараний жир, белый перец, чернозем, сахарную вату, кардамон и дерьмо.
– Тебе воды принести? – спросила Нина.
Когда я допил воду, Кельвин уже вернулся к разговору о возрождении некоего музыкального жанра под названием “умный металл” на примере группы “Мастодонт”. Как вы уже знаете, я способен поддержать пять минут любой беседы. Поговорили о “Мастодонте”.
– Ну так что думаете? – спросил наконец Кельвин. – Готовы стать кофефанами? Я думаю, да.
– Я думаю, мы подумаем, – отрезал я. – Не надо нас прессовать.
– Разве ж это прессинг, – сказал Кельвин. – Вот это прессинг. – Он произвел на свет бурый пакетик с надписью “Фуллертон-стрит, 158, венский особый” и протянул его Нине. – Пейте и плачьте. Покедова. – Двумя секундами позже его мотороллер трясся по булыжнику в сторону Стэнтон-стрит.
Как вскоре выяснилось, Кельвин был мастером не только прямого маркетинга, но и партизанских тактик. Через час после его визита я обнаружил наклейку “Кофефана” (волнистый карандашный рисунок в стиле Р. Крамба, на котором Кинг-Конг или Снежный Человек опустошал в свою пасть дымящийся кофейник) на бачке в нашем туалете и еще две на фонарном столбе у дома.
Визит представителя “Йозефа Цайдля” мы назначили на вечер того же дня. Стерлинг оказался, как вы и ожидаете, полной противоположностью Кельвина: мурлыкающий англосакс средних лет, одетый в стиле, который могут себе позволить только настоящие англосаксы: розовый пуловер, небесно-голубые брюки и мокасины с кисточками. Подобный наряд смотрится только при наличии очень светлых волос и очень красной физиономии; ни с тем ни с другим у Стерлинга проблем не было. Он одобрительно покудахтал над “Ранчилио”, провозгласил: “Пусть товар говорит сам за себя”, заварил нам несколько наперсточных порций разных сортов и удобно, как кот, устроился на диване, сложив руки и переплетя розовые пальцы на фоне розового кашемира.
Товар действительно говорил сам за себя. Фирменный сорт “Цайдля” “Штатгальтер” на вкус был сама квинтэссенция Вены. Первый же глоток, и меня закрутил туннель ностальгии, теплая тьма с тлеющим вдали ночником нашего номера “для новобрачных”. Похоже, что Нина переживала те же чувства. Она сама слегка порозовела.
– Вот оно, – произнес я. – Европа в кофейной чашке.
– Точно, – согласилась Нина. – Привкус католицизма и абсента с долгим фрейдистским послевкусием и нотками Третьего рейха.
Стерлинг нервно осмотрелся по сторонам.
– Извините, – успокоил его я. – Она имеет в виду, что мы согласны.
– Подожди, – прошептала Нина и повернулась к Стерлингу. – Большое спасибо. Мы сообщим вам о нашем решении максимум к завтрашнему дню.
Представитель понял намек. Он встал, поцеловал руку Нине, пожал мою, раздал нам обоим по роскошной брошюре на шершавой веленевой бумаге и вышел вон.
– Зачем кокетничать? – спросил я. – Я же знаю, что этот кофе понравился тебе больше всех остальных. Я не видел тебя такой довольной с нашего медового месяца.
– Как-то я пока не уверена, – ответила Нина, допивая. – Сейчас объясню.
Она собралась с мыслями и аргументировала свою нерешительность. Ей казалось, что этот выбор между двумя поставщиками с приблизительно одинаковыми ценами, но совершенно разными имиджами предопределит сам дух кафе. Выберем ли мы припанкованного “Кофефана”, всего из себя органически-зеленого и торгующего напрямую с фермерами? Или царственного “Цайдля”, чей кофе скорее всего был выращен и высушен африканскими первоклашками в кандалах?
– Мне кажется, это надуманная дихотомия, – парировал я. – Как ты упомянула, в цене разницы нет. Настоящий выбор – между “Цайдлем” и “Кобриксом”. А так это просто два маркетинговых плана.
– Иначе говоря, “Макинтош” против “Виндоус”, – провозгласила Нина театральным тоном “в сторону”, зная, что меня это проймет, и победила: разговор тут же сошел с рельс. Мы не приняли решения ни в тот день, ни в течение следующей недели. После чего мы остановились на “Цайдле”, потому что я был прав. (Но на всякий случай решили не называть наши напитки “шварцер” и “браунер”, от греха подальше.) Кельвин выслушал печальное известие как настоящий боец, затем бомбанул наш квартал целым рулоном наклеек.
Ситуация с выбором выпечки была гораздо проще: выбора не было. Вначале мы заигрывали с идеей самообеспечения, вдохновившись книгой “Классическое искусство венской кондитерской” некоей Кристин Берль, с которой нам было явно по пути. “Выпечка – это искусство, чьи загадочные пропорции и правила роднят его более всего с музыкальной композицией”, – писала она в предисловии. “Для меня в этом также присутствует элемент прустианства – постоянный поиск, воссоздание и переосмысление детских воспоминаний в процессе приготовления каждого десерта”. Проведя два месяца по локоть в тесте, я начал понимать, почему даже самые виртуозные шеф-повара самых великих ресторанов редко преуспевают в выпечке. Те же самые качества, которые делают тебя хорошим поваром – умение работать “на глазок” и импровизировать замены ингредиентов, – делают тебя ужасным кондитером: смысл этой профессии в филигранной имплементации существующих постулатов, а не в написании новых. (Как однажды выразилась Нина, повар живет по системе общего права, а кондитер – гражданского.)
Ни малейших способностей к этому у нас не обнаружилось. Нина тяжело и нервно корпела над каждым противнем и получала тяжесть в ответ: безвоздушное безе, бетонный рулет. От результатов моих опытов разило скорее дадаизмом, чем прустианством. Я запек лопатку в кекс.
В конце концов мы сдались и решили закупать выпечку на стороне – и тут же столкнулись с новой проблемой: отсутствие венских кондитеров в городе было неожиданно абсолютным. Да, на Пятой авеню стояло прекрасное кафе “Сабарски”, с его бесстыжим тортом “добош” (увенчанные карамелью слои ванильного бисквита, перемежающиеся с кофейно-сливочным кремом) и мастерскими “линцерами”, но они не работали оптом и уж точно не поделились бы с какими-то выскочками из Нижнего Манхэттена, которые вознамерились их, можно сказать, скопировать. Практически все мелкие пекарни из тех, что мы могли себе позволить, застряли на прижившейся франко-итальянской формуле, штампуя птифуры-переростки и килограммовые канноли, когда им явно было бы сподручнее лепить рогалики да коржики. Единственное “венское” заведение, найденное Ниной в Нью-Джерси, имело такое же отношение к Австрии, как к Австралии. Оно афишировало свою венскую утонченность, наваливая в каждую чашку кофе взбитые сливки из баллончика. Сама мысль, что кто-то может не увидеть разницу между этим и тем, что собирались делать мы, вгоняла нас в ужас.
– Почему бы нам не спросить Оливера? – предложила Нина. – Того самого, из “Мишлена”? У него должны быть контакты.
В данном случае “нам” означало “тебе”. Я позвонил Блюцу и узнал, что он и Оливер только что и с изрядным скандалом разошлись.
– Извини, что я так не вовремя, – сказал я. – Но мне очень нужен его номер.
– Ты за это заплатишь, – ответил Блюц. – Две рецензии. К понедельнику.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































