Текст книги "Кофемолка"
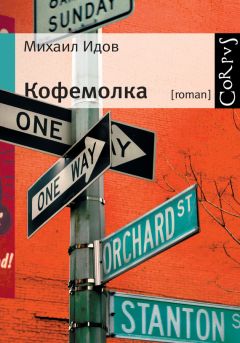
Автор книги: Михаил Идов
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Ох. Ты же знаешь, как страшно я занят с кафе.
– Две рецензии.
– По рукам.
Блюц продиктовал ненавистные цифры, и минутой позже я разговаривал по телефону с его бывшим.
– Вам будет приятно услышать, что заложенное вами семя принесло плоды, – не вполне удачно выразился я. – Мы с Ниной открываем свое кафе.
– Ага, – сказал Оливер.
– Аутентичное венское, как мы с вами обсуждали.
– Так. Ага.
– Мы ищем хорошего кондитера, пекущего пирожные “захер” и прочее.
– А-а, – с облегчением произнес он. – Я знаю отличного человека. Лучшего в городе. Правда, француз. Заведовал в свое время десертами в “Ле Кот Баск”. Его зовут Эркюль Бенуа. У него свое местечко в Дамбо, зовется “Шапокляк”.
– Бенуа, – повторил я, записывая. – Шапо-чего?
– Это такая складная шляпа. Единственная проблема с ним… ну, сами увидите. И по-английски он не очень.
– Минуточку. Проблема в его английском, или английский отдельная проблема и есть какая-то еще?
Оливер усмехнулся.
– Сами увидите. Дайте мне знать, как все пройдет.
– Непременно. Надеемся увидеть вас в нашем… – но он уже повесил трубку.
– Интересная наводка, – сказал я Нине. – Отличный кондитер, француз, по-английски не говорит, и что-то еще с ним не так.
– Не страшно, – пожала плечами Нина. – Ты же говоришь по-французски.
По-французски я не говорю. Но, как любой читатель журнала “Нью-Йоркер”, слетавший в Париж пару раз на пару дней, утверждаю, что свободно на нем общаюсь. В колледже, путем титанических усилий и тотальной концентрации, я даже продрался через один номер “Кайе дю Синема”, руководствуясь по большей части латинскими корнями, которыми усыпана претенциозная кинокритика на любом языке. Но по большей части я просто сидел на скамейке с открытым журналом, повернутым под неудобным углом – чтобы лучше было видно девушкам, – и изучал каре Анны Кариной. Самой длинной фразой, когда-либо произнесенной мною на языке Вольтера, была “Je ne sais pas pourqoui tout le monde pense que je suis Americain”[29]29
Я не знаю, почему все принимать меня за американца (искаж. фр.).
[Закрыть], негодующе брошенная (в три приема) официанту в “Кафе де Флор”. И все же: пятерка за усердие. В моем резюме французский значится как “разговорный”; если работодателю понадобится, я всегда смогу записаться на пару курсов.
Теперь наступило время расплачиваться за свое позерство. Перспектива деловой встречи с великолепным Эркюлем была не то что страшна, а буквально невообразима. В моем представлении мы общались на английских субтитрах.
Аристократ-кондитер расположил свою штаб-квартиру в незаметном тупичке посреди Дамбо[30]30
Аббревиатура от Down Under Manhattan Bridge Overpass, “Под Манхэттенским мостом”.
[Закрыть], постиндустриального района на бруклинском берегу Ист-Ривер. Когда-то здесь стояли, среди всего прочего, склады кофе, и по улицам все еще вилась атавистическая узкоколейка, проложенная для разгрузки корабельных трюмов, – два рельса в никуда, стертые вровень с булыжником.
Последний раз я был в Дамбо лет десять назад, на открытии нелегальной галереи в сквоттерском лофте с шеренгой портативных туалетов в коридоре. Девелопер Дэвид Валентас сделал тогда гениальный ход, практически бесплатно предоставив пустующие склады в полное распоряжение бедным художникам, пока усилиями тех район не вошел в моду; вслед за чем началась вторая стадия – из лабиринта улиц теперь поднимались как минимум два сорокоэтажных кондоминиума, и перед каждым вторым складом стоял швейцар. Самый завораживающий аспект Дамбо, впрочем, остался таким, как я его помнил. Это была изменчивая панорама самого моста, кусками возникающего и пропадающего в проемах между зданиями, бесцеремонно калибрующего все вокруг под свой масштаб. По сравнению с его стальными пилонами даже новые кондо смотрелись неуверенно.
Поиски Эркюлевой пекарни заняли дольше ожидаемого. Мы с Ниной развлекались, придумывая новые расшифровки названию района: “Дороговизна Адреса Маскирует Бруклинские Окрестности”, например. Наконец мы завернули за правильный угол и увидели “Шапокляк” – бывший гараж с цветочными горшками под каждым из двух окон и небольшой ажурной лестницей литого чугуна, ведущей к главному входу.
– До чего чудесное заведение, – прощебетала Нина тоном Одри Хепберн. По воскресеньям “Шапокляк” открывалась в десять. Я посмотрел на часы – 9:45 – и слегка стушевался, увидев небольшую толпу дамбовцев, топчущихся перед лестницей. Там были архетипичный банкир в воскресном наряде из расстегнутой рубашки “оксфорд” поверх студенческой майки университета похуже, пара пенсионеров в занимательных шляпах (на нем – канотье, на ней – клош) и молодая мамаша с коляской “Макларен 5000”, в которой восседал младенец такого ангельского вида, что он выглядел как реклама самой коляски.
Мы присоединились к сборищу. Все тайком кидали взгляды на дверь. Внутри кто-то мыл окна; белая тряпка лениво двигалась за нарисованным на окне логотипом-цилиндром. Ожидание было по-детски волнительным, как в ночь перед Рождеством. За исключением богатого младенца, который играл в жмурки с Ниной из глубин своего транспортного средства, каждый из нас избегал чужих взглядов и делал вид, что не пытается протиснуться вперед и не наблюдает ревностно за дверной задвижкой. Очередь не складывалась; стесняясь столь рабской привязанности к croissant aux amandes[31]31
Миндальному круассану (фр.).
[Закрыть], люди то и дело прикидывались, что внезапно вспомнили о каком-то важном деле, совершали пару уверенных шагов в сторону, затем разворачивались и плелись назад. В результате, если не ошибаюсь, получался хороший пример броуновского движения. По крайней мере у нас с Ниной имелась уважительная причина тратить здесь время, которое с бо́льшим толком можно было бы провести в воскресных перинах. Мы открывали свое собственное культовое кафе.
Я позволил себе мимолетную фантазию, в которой я был Эркюлем. Я щурился, сквозь свежевымытую витрину “Кольшицкого”, сквозь сияние мыльных подтеков, на толпу снаружи. Усмехаясь умоляющему надлому их бровей, я вытирал руки чистым кухонным полотенцем. Наконец я открывал дверь (долгий скрип… учащенное биение сердец) ровно настолько, чтобы просунуть голову. “Немного терпения, господа, еще не время. Судя по аромату, линцеры сегодня на редкость удались. Если хотите, Люсиль примет ваши заказы, пока вы ждете”. Люсиль? Да какая разница. Николетта. Одри.
Я только начал воображать Одри в конкретных деталях, когда звякнула щеколда и Эркюль во всем своем перемазанном вареньем великолепии пинком распахнул дверь пекарни. В руках у него покачивалось желтое помойное ведро, чье содержимое он тут же бесцеремонно выплеснул на ступеньки. Мамаша едва успела отдернуть коляску. Поток серой воды нарисовал в воздухе дельфина и врезался в булыжник, разлетевшись во все стороны. Слаксы банкира приняли на себя не меньше дюжины темных пятен. Мы с Ниной переглянулись.
– Бонжур, Эркюль! – выкрикнула мужская половина пожилой четы. Пекарь опустил ведро с бессловесным, но при этом отчетливо франкоязычным рыком. И захлопнул за собой дверь.
Люди переминались с ноги на ногу.
– Его мадленки – само совершенство, – сказала женская половина пожилой четы молодой матери.
– Ох, я знаю. Я знаю.
В 10:10 Эркюль появился во второй раз.
– Ждите, ждите, – приказал он, произнеся это слово с ударением на “е”. – Кто из вас Марк Шарф?
Я поднял руку, едва не падая от облегчения: он говорил по-английски.
Окружающие обернулись и уставились на меня в открытую. Эркюль нетерпеливым жестом поманил меня внутрь (“Все остальные – ждитЕ”). Мне пришлось показать на Нину пальцем и сказать “она со мной”. Мы поднялись по ступенькам, замаранные собственной исключительностью, преследуемые завистливым шепотком. Никто из фанатов внизу не осмелился спросить, когда придет их черед. Эркюль сам великодушно поделился этой информацией.
– ДесЯть минют, – пролаял он через мое плечо, пока я протискивался мимо его взопревшего тела в кондитерскую.
– Надеюсь, я вас не задерживаю, – произнес я, проходя.
– А-а, эти людИ, – Эркюль ловко пожал одним плечом. – К шорту этих американсев. Не осенят (“оценят”, догадался я) хороший торт, даже если он их ужалит в зад.
Я огляделся, впитывая ауру кондитерской в воскресное утро, за считанные минуты до открытия. Стулья были подняты. Свежевымытый кафельный пол сох в лучах солнца, каждая плитка отдельно – от краев к центру. Запах хлорки смешивался с легко узнаваемым ароматом масла и теста: в духовке пеклась порция круассанов.
Свет был полупритушен, а флуоресцентные трубки в охлажденных витринах выключены. Пирожные, выстроенные рядами, как северокорейские солдаты в день рожденья Дорогого Вождя, выглядели серо и скучно. Эркюль проследил за моим взглядом и щелкнул выключателем; витрины загудели, моргнули и зажглись, как новогодняя елка.
– Боже мой, – ахнула Нина.
Все цвета заиграли сразу. Нежно-розовая глазурь фрагонаровских оттенков на клубничных пирожных сияла через всю комнату. Глянцевые шоколадные купола, наоборот, гнули и поглощали свет наподобие черных дыр. Крохотные флажки листового золота трепетали на пирожных “опера”. Каждый фруктовый ломтик на каждой тарталетке был подобран, нарезан и расположен с точностью, достойной фламандского натюрморта. Одни переливы желтого между персиком и абрикосом можно было изучать часами.
Кроме самого себя, с его комплекцией тяжеловеса, Эркюль умудрился спрятать с глаз долой все напоминавшее о труде – печи, напольные миксеры, даже кассу; все, что могло разрушить магию момента. Все подгоревшее, кособокое, опавшее (в случае суфле) исчезало, прежде чем публика могла его увидеть или унюхать. Только настойчивое дрожание пола выдавало координаты настоящей баталии – в подвале.
Есть пословица: никто не хочет видеть, как делается колбаса. Та же аксиома применима и к выпечке. Идея пирожного как личного приза разбивается вдребезги при виде противня с плоской слоистой массой, которую потом разрежут на сорок четыре порции. Это девальвирует иллюзию. Хочется, чтобы каждое “опера” было создано специально для вас, от гофрированой бумажки до золотого листочка.
Эркюль решил, что пол достаточно высох, и начал расставлять стулья. Я робко попытался помочь.
– Садись, – приказал Эркюль и толкнул в нашу сторону два стула. Мы повиновались. – О’кей. У нас пять минют. Хорошо. Оливье рассказал мне о вас. Вы хотите открыть Вьен-кафе, правильно?
– Да, безусловно.
– Почему Вьен? Почему не Пари?
К этому вопросу я готов не был. Мне еще ни разу не приходилось пускаться в разглагольствования по поводу превосходства венского кофе над французским перед парижанином.
– Потому что я не француз, – наконец выдавил я, ожидая неминуемого “Так вы австриец?”
– А-а, – кивнул Эркюль. – Хорошо. Хорошо.
Я понятия не имел, каким образом ему так удавалось превращать взрослых людей в трепещущих écoliers[32]32
Школьников (фр.).
[Закрыть]. Пожалуй, секрет крылся в наполнявшем комнату запахе круассанов. Эркюль полностью завладел моим носом и слюнными железами, из-за чего казалось, что ему подчинено и все остальное. Я на секунду задумался, на что похожа его личная жизнь: должно быть, постоянные лиазоны с дамбовскими сластолюбицами, непременно вершащиеся в облаках муки и сахарной пудры.
– В первую очередь нам понадобятся пирожные “захер”, – начал я, произнося это название на гордо заученный немецкий лад.
“Захер” был королем венских пирожных: плотный шоколадный бисквит под шоколадной же глазурью и проложенный посередине единственным, изысканно кислым слоем абрикосового джема. В случае “захера” кольцо взбитых сливок вокруг пирожного являлось не фривольностью, а необходимостью: он был специально создан для увенчания завитушкой густого шлага (взбитых сливок) в последнюю секунду перед подачей. Нагой “захер” был бы слишком сух и недостаточно сладок. В этом скрывался главный тест на венскую аутентичность: неверно сделанный “захер” являл собой плебейское, жирное шоколадное пирожное. Но я верил в Эркюля.
– Сакер? – кондитер выглядел крайне удивленным.
– Да.
– Понятно, – Эркюль встал и с силой вытер руки о передник, очищая их для прощального рукопожатия. – Вы сюда пришли шуткИ шутить.
– Дорогой, – вмешалась Нина. – Мне кажется… что ему кажется… что мы просим его продать нам сахар.
– Нет, нет, нет! – в панике завопил я. – Не сахар. Non sucre. Sucre non. Jamais. “Захер”. Пирожное “захер”. Comme à Vienne. Chocolat. Oui[33]33
Нет сахар. Сахар нет. Никогда. Как в Вене. Шоколад. Да? (искаж. фр.).
[Закрыть]?
Я скосил глаза на Нину. До этого момента я еще цеплялся за безумную надежду, что она не заметит моего ясельного французского. Моя свободно говорящая по-португальски малайско-китайско-американская жена вернула мой взгляд, подняв брови столь высоко, что они пропали под челкой.
И все же сработало.
– А-а, “саше”! – воскликнул Эркюль.
– Да, “захер”.
– “Саше”.
– Да.
Снаружи раздался плач младенца.
– ЖдитЕ, – сказал Эркюль и поднялся. Я думал, что он наконец откроет двери, но вместо этого он подошел к кассе (спрятанной, как я только что понял, за гигантской корзиной багетов), открыл ее с мелодичным звоном и вынул оттуда листок бумаги.
– Я оптом не продаю, – произнес он, глядя в шпаргалку. – Но Оливье друг, а вы друг друга. – Ему в голову пришла новая мысль. – Вы голюбой?
– Нет.
– А он голюбой, вы знали? Так. Вот мои рассенки для друзьей. Ан доллар двадцать пять сантов за круассан. Ан доллар пятьдесят сантов за пэн а шоколя. Труа доллар сорок сантов за пирожное. Donс[34]34
Итого (фр.).
[Закрыть], я могу сделать “саше” за труа доллар семьдесят пять сантов, из-за спесзаказ.
– Это близко к верхнему пределу разумного, – сказала Нина, открыв свою записную книжку. Большинство серьезных ресторанов брали по восемь-девять долларов за десерт. Мы были всего лишь маленьким кафе, но “захер” на хорошем фарфоре, с присыпанным шоколадной пудрой свежим шлагом, вполне мог потянуть на шесть долларов. Donс, $2,25 чистой прибыли.
Я также решил, что имя Эркюля – это бесплатная реклама. Если небольшая элегантная табличка “Выпечка от “Шапокляк” в витрине привлечет к нам какую-то долю его фанатов, дело того стоит. Вдобавок ко всему, непереносимый характер Эркюля почему-то действовал на меня как вызов.
– Très bien[35]35
Очень хорошо (фр.).
[Закрыть], – подытожил я. – Вы берете отдельную плату за доставку?
Эркюль скривился на меня через прилавок, как будто я попросил его печь мои пирожные с сахарином и маргарином.
– Доставку, – повторил он, сильно прищурившись. – Мы не доставку. Я не “Писса Ат”.
– Извините, я не хотел сказать, что…
– Придешь, возьмешь, платИшь, идешь, – он сопровождал каждый слог громким хлопком по прилавку. – Если мало, вернешься и возьмешь снова.
– Ну ладно.
– Вы знаешь, какое это одолжение? – Тон оскорбленного достоинства удавался Эркюлю безупречно. – Послушай. Я хошу помошь. Молодой шеловек, нашинает Вьен-кафе. Я думаю, о’кей. Глюпый, но я не говорю глюпый. Я говорю, помогу. А он говорит – доставку. Где вы живешь?
– В Верхнем Вест-Сайде.
– Хорошо. Остановись по пути, легко. Сколько “саше” вам надо?
– Мы бы хотели начать с десяти в день.
– Есть. Все. Это – вам, – он потянулся в витрину и грубо сунул нам в руки по теплому, почти дышащему “пари-бресту”. Мой был покрыт тончайше нарезанным миндалем, полупрозрачным и держащимся на поверхности будто по волшебству; миндалинки выглядели готовыми вспорхнуть всей стайкой и улететь. Затем Эркюль запихнул прейскурант обратно в кассу, водрузил свой зад на закряхтевший прилавок, с неожиданной ловкостью перекинул ноги на другую сторону и направился к двери. Я надкусил и снова восхитился разницей между брутальными манерами этого человека и деликатностью его творений.
– А сейшас, – провозгласил Эркюль, отмыкая замок, – я делаю настоящие деньги!
Мы встали, шагнули в сторону выхода и чуть не были растоптаны ворвавшимися в пекарню людьми. За это время толпа увеличилась человек до пятнадцати и еще больше изголодалась.
Я оглянулся на прилавок и заметил что-то, а вернее кого-то, не замеченного мною ранее: за кассой стояла коллега Эркюля, невысокая девушка в пластмассовых очках а-ля шестидесятые и полосатой рубашке с закатанными рукавами. Должно быть, она только что поднялась сюда из подвала. Я помахал ей, но она уже доставала из витрины что-то хрупко-розовое, украшенное кружевным шоколадным ирокезом, и с хирургической точностью опускала в крохотную коробочку, и наливала кофе, и отсчитывала сдачу, и отчитывала кого-то по телефону, прижатому к уху плечом, и улыбалась следующему покупателю, а Эркюль уже кричал на нее: “Проснись, сплюшка!” Мы увернулись от несущейся на нас коляски и вышли.
Блюц сдержал свою угрозу: книги пришли по почте на той же неделе, обе – дебюты. Одна оказалась романом редактора литературного журнала о буднях литературного журнала, другая – романом вьетнамки из Мичигана о том, каково расти вьетнамкой в Мичигане. Это все, что мне требовалось, чтобы заново убедиться в правильности нашего с Ниной жизненного выбора.
По сравнению с “Цайдлем” и “Шапокляк” отношения со всеми остальными поставщиками выстроились легко, как во сне. Овощи мы постановили брать на фермерском рынке, мясные продукты – у “Д’Артаньяна”, хлеб – из “Бальтазара”, а газировку – у малоизвестной компании из Вермонта под названием “Унну”. Это якобы индейское словечко распаковывалось в лозунг “Утоли Неутоляемое Неустанным Утолением”. Ценовая политика нам тоже далась без труда. Мы просто оценили все основные кофейные напитки на 25 центов дешевле их эквивалента в “Старбаксе”. Цены на наши более эзотерические венские напитки – айншпеннер (эспрессо со шлагом в бокале) и меланж (не то очень влажный капучино, не то очень пенный латте) – мы установили более экстравагантные. Равновесия ради мы подрядились продавать обычный кофе всего за доллар, включая налог. У людей должна быть возможность зайти куда угодно и получить чашку кофе за один бакс.
Найм барист, которых мы решили, но так и не смогли без хихиканья называть кофемейстерами, сначала казался делом столь же несложным. Я написал объявление на сайт “Список Крейга” (“Изысканное, но не помпезное венское кафе ищет сотрудников, Нижний Ист-Сайд, Нью-Йорк”), и час спустя у меня в почтовом ящике было сорок сообщений от кандидатов. К некоторым прилагались профессиональные фотопортреты. Пара даже включала в себя интимные физические параметры.
– Найми красивую, – посоветовал Орен, разглядывая у меня через плечо портрет Зильке, немецкой блондинки. Она была запечатлена в обнимку с могучим стволом дуба. Ее пальцы ласкали грубую кору, намекая на иные тактильные удовольствия. Орен мельком огляделся, проверив, нет ли поблизости Нины. Нины не было. – Сам понимаешь. Себя надо баловать.
– А?
– Ты ж пашешь, да?
Я не был уверен, шутит он или нет. Во время этого разговора только один из нас держал в руках дрель. Другой разглядывал фотографии девушек.
– Ну да.
– Пашешь. Вложил много денег. Надо себя баловать, – Орен указал на любительницу природы дрелью; метафора, которой не допустил бы даже самый рассеянный автор, если бы это было метафорой. – Для того и работаем, а?
Проигнорировать его совет, если честно, было непросто. Процентное соотношение мужчин и женщин среди кандидатов было пятнадцать к одному. Типичное резюме девушки подчеркивало оптимизм, коммуникабельность и уживчивый характер и намекало на актерские амбиции. Типичное резюме юноши начиналось с фразы “Вы можете знать меня как автора “Настольной книги панархиста”, сборника, осмысляющего и оспаривающего наследие Ги Дебора методами неоформалистской поэзии” и сочилось отвращением к работе.
Мы с Ниной просматривали эти портреты в довольно озорном настроении. Процесс напоминал совместное чтение объявлений об интимном знакомстве. Отсеяв безумцев, тупиц, трогательно неквалифицированных и гротескно претенциозных, мы выбрали дюжину финалистов и пригласили их всех на собеседование в один и тот же день, с интервалами в 30 минут.
– Ты поговоришь с ними? – спросила Нина. – У меня не получится. Я боюсь войти в роль женщины-дракона[36]36
Стереотип злой, властной азиатки, распространенный в США.
[Закрыть].
– Меня эта перспектива вообще-то тоже не особенно радует, – признался я.
– По-по-пожа-а-алуйста.
– Я еще никогда не платил людям зарплату из своего кармана. В этом есть какой-то нездоровый подтекст.
– Марк, лапа. Мы не коммуну тут устраиваем. В какой-то момент кому-то придется взять на себя ответственность, – Нина замерла и с удивлением повторила одними губами последнюю фразу. – Боже мой, ты только меня послушай!
В конце концов я отправил ее в “Шапокляк” за пробной порцией эркюлевских творений и провел собеседования сам. Тридцатиминутные интервалы оказались слишком короткими. Опоздавшие сталкивались с рано прибывшими. Задержки накапливались и умножались, как в перегруженном аэропорту. День телескопировал.
Найм любых подчиненных представляет из себя отчасти ролевую игру, отчасти флирт, но в основном напоминает решение трехмерной головоломки. Один перспективный кандидат мог работать только вечерами по будням. Его заместительница была безупречна во всех отношениях, но каждую вторую субботу посвящала урокам виндсерфинга. Ее и. о., живший на два берега, появлялся в городе первую и третью недели каждого незимнего месяца. (Его работа на западном побережье? Свой собственный чайный салон. Еще одно свидетельство того, что Лос-Анджелес – антитерра Нью-Йорка.) Яэль, фотомодель с лавандовыми венами, не могла работать в дни высокой концентрации аллергенной пыльцы; Джером, безработный дизайнер скейтов, требовал выходной в день каждого матча баскетбольной команды “Никс”. Жизнь всех этих людей была куда более захватывающей и в то же время гораздо более регламентированной, чем наша. В детективах, когда подозреваемый не моргнув глазом сообщает, что он делал в пятницу три недели назад, я считал это издержкой плохого сюжета или признанием вины – невиновные таких деталей не помнят, не правда ли? – но кандидаты в кофемейстеры оказались еще более продвинутым племенем, чем эти памятливые злодеи. Они спокойно могли сказать, где будут в пятницу через три месяца.
К шести вечера нашей главной надеждой оказалась Зия, чернокожая девушка с ирокезом, только что невероятным образом завершившая год работы официанткой в крохотном ресторане в Провансе. Мужчины на Зию не столько заглядывались, сколько бросали все и шли за ней, как за гаммельнским крысоловом; когда она вошла в полудостроенное кафе, за ней последовали два молодых человека и велосипед. (Один, сориентировавшись, попытался устроиться на работу.) Я так хотел нанять Зию, что начал комплексовать насчет немодной музыки в моем айподе – как назло, позорно зависшем на Моби, – и насчет того, не оскорбит ли ее цайдлевский мальчик в феске. Увы, Зия и сама знала, что лучше нее нам никого не найти. Она не соглашалась ни на какое твердое расписание и вскоре бесстыдно стравливала нас с уже предложившим ей работу кафе “Гавана” в надежде оркестрировать аукцион. Она даже заставила менеджера “Гаваны” позвонить мне и попробовать набросать соглашение о взаимовыгодном разделе Зии; переговоры быстро зашли в тупик на взрывоопасном вопросе, кому она достанется по выходным.
Я бродил по залу с мобильным телефоном, увертываясь от поляков и произнося фразы вроде “Я уже отдал ее тебе на воскресенья и праздники, субботы обсуждению не подлежат!” мужчине, которого не видел никогда, о женщине, которую знал десять минут, когда позвонила Нина. Я извинился и перешел на вторую линию.
– Приветик, – сказала Нина, брызжа весельем. – Я нашла нам работника. Ее зовут Рада, и круче ее не бы-ва-ет.
– Рада? Это еще что за… откуда ты… как ты ее… Мы же еще не видели, как она работает.
– Видели-видели, – таинственно ответила Нина. – Жди. Будем минут через десять. – Она бросила что-то кому-то рядом, девичий голос затараторил в ответ, и Нина рассмеялась. В полном конфузе я переключился обратно на гаванца, который к тому времени повесил трубку, и получил полное ухо гудков. Я уныло отпустил Зию и долго глядел ей вслед.
Жена приехала через десять минут, как обещала, с коробкой пирожных и свеженанятой работницей. Я заметил, что они прибыли на такси, хотя весь смысл упражнения был в проверке, возможно ли перевозить выпечку “Шапокляк” в метро в час пик. Рада оказалась ниже и тоньше Нины, что с людьми бывает нечасто, и носила приталенную полосатую рубашку и очки “кошачий глаз” в красной пластмассовой оправе. Она выглядела ужасно знакомой.
– Рада, – сказала Рада. – Приятно вас снова видеть.
– О боже, – вырвалось у меня в ответ. – Вы работаете в “Шапокляк”, да?
– Уже нет, – ответила Нина. – Мы ее переманили. – И обе снова захихикали.
– Нина. Пошли поговорим. – Я утащил ее в недокухню, где Пепе и Владислав шпаклевали прорехи в кафеле какими-то резиновыми соплями, и принялся шепотом орать про предательство.
– Шшш, – прервала Нина. – Все в порядке. Эркюль не знает. Она ему позвонит и скажет, что ушла.
– А если узнает? Он же обязательно когда-нибудь сюда зайдет. За чеком или еще за чем.
– И что?
– И что? И мы потеряем единственный приличный “захер” в городе, еще даже не открывшись. Ты же знаешь, какой он…
– Ой, не говори! – подхватила Рада, по-хозяйски заруливая к нам. – Он Телец. Типичный Телец. Они все такие. О, здравствуйте, ребята, – пропела она, помахав рабочим.
– Здрасте, – сказал Влад, потянул носом и сплюнул в раковину.
– Дрась, – еще отрывистее поздоровался Пепе. В помещении, в котором еле умещалось два человека, теперь стояло пятеро.
– А сигареты-то, – поделилась Рада с Ниной, судя по всему продолжая список жалоб на Эркюля, начатый еще в такси. – Прикинь, он фильтры отрывает! Ты куришь? А йогой занимаешься? На вид так да. Я еще йогу преподаю.
– Я все больше пилатес, – ответила Нина. – И то нечасто.
– Пилатес – фигня, – авторитетно заявила Рада. – Там все так. – Она развела руки в пародии на ленивые потягушки. Владислав присел. – А в йоге вот так.
Она показала. Я оставил Нину собирать осколки разлетевшегося блюда, Раду перевязывать руку Владу, а Пепе вытирать капли крови с кафеля и пошел смотреть нового Пак Чхан-Ука в кинотеатре “Саншайн”.
У Рады были достоинства и кроме ее необъяснимого и мгновенного взаимопонимания с Ниной. Она взбивала прекрасную пену. Она обожала иранское кино, средневековую музыку, черепах, эсперанто, пейотль, Славоя Жижека, Судан, нэцке и Клайва Оуэна. У нее была своеобразная походка, свой способ передвижения в тесных помещениях, этакое перетекание с места на место, временами напоминавшее замедленный танец; на йоге, наверное, научилась. Наконец – и это самое главное – я абсолютно не находил ее привлекательной.
К девятому июня наш интерьер был готов. Орен закончил работу ровно на день раньше срока – это был его фирменный трюк. В полном восторге я пообещал сводить всю бригаду в бар следующим вечером; предложение было воспринято без энтузиазма.
Мы превратили почти весь фасад в раздвижные французские двери. На каждой из четырех панелей было написано “Mittel European Kaffee House”[37]37
“Среднеевропейская кофейня” (нем., англ.).
[Закрыть] прозрачными буквами – точнее, пробелами в форме букв – на матовом стекле. Этого пятидесятипроцентного раствора немецкого и английского я немного стыдился (если Mittel, то почему не Europa##isches, если Kaffee, то почему не Haus?). Помимо маскировки факта, что мы так и не придумали себе названия, эта надпись служила еще и реверансом в сторону низшего обшего знаменателя, подарком плебсу; от нее несло тем же покровительственным филистерством, с каким дизайнеры переворачивают “R” в “России” или придают английскому слову тевтонский флер, прокомпостировав его где попало умлаутом. Но она делала свое дело. Вечерами мы открывали жалюзи, впускали июньскую жару, и кафе светилось угольком в центре темного квартала. Город проникал в зал, и зал в ответ захватывал кусок улицы; между столиками можно было запарковать мотороллер. По правде говоря, это бы нас только обрадовало.
Грубо сбитые книжные полки вкривь и вкось опоясывали зал в четыре ряда, образуя спираль, доходящую почти до потолка. Мы собирались постепенно завалить их всяким полуантикварным хламом – слепыми оперными биноклями, немыми транзисторными приемниками. Пока они были уставлены вакуумными упаковками “Штатгальтера” и зелеными рядами газировки “Унну”. Стадо псевдо-тонетовских стульев разбрелось по два-три среди пяти мраморных столиков с тяжелыми чугунными подставками. Туго набитый красный кожаный диван, способный усадить четверых, делил зал надвое и придавал ему ощущение обжитой гостиной, усиленное заботливо нагнувшейся над ним лампой в послевоенном стиле. Со своими жирными складками, простроченными рядами латунных кнопок, диван напоминал перезрелый помидор на ножках. Вдоль задней стены зала стоял прилавок из крашеной сосны (дуба не хватило), примостившись впритык к витрине с пирожными. По совету Ави от входа к прилавку вела прямая линия без препятствий. Чтобы содержимое витрины смотрелось еще аппетитнее, я надел на ее флуоресцентный свет розовый фильтр. Он сообщал пирожным почти порнографический лоск.
За прилавком возвышался пьес де резистанс нашего кафе, его резон д’этр и сине ква нон, его алтарь, его реактор: огромная, на три крана, эспрессо-машина “Ранчилио класс 10”, моргающая кобальтово-синим, с армией греющихся чашек на крыше. Справа от “Ранчилио”, поскромнее габаритами, но не ценой, стояла кофеварка “Кловер”; слева – термос “Фетко Лаксус” и, сосланные в угол в наказание за сравнительно неказистый вид, две кофемолки “Малькёниг” – “Гватемала Ф” для простого кофе и “К60 Твин” для эспрессо. С тыла все эти машины подпирал высокий задник из того же матового стекла, что во французских дверях, обозначающий границу публичного пространства. Далее спрятанный нами за занавесью из золотистых бусин коридорчик вел в туалет и в нелепый закоулок, где пряталась кухнетка.
Кафе не было безупречно чистым, что меня радовало. Мы старались избежать частой ошибки: некоторые новые заведения смотрятся настолько с иголочки, что их не хочется марать своим присутствием. Законченный интерьер смахивал на чуть сдувшееся кафе “Грабал” с кивками в сторону CBGB[38]38
Знаменитый рок-клуб, где начинались карьеры The Ramones и The Police, в последние годы жизни превратившийся большей частью в центр торговли собственным логотипом.
[Закрыть] – по плакату “Токинг хэдс” на каждую репродукцию Игона Шиле. Дабы подчеркнуть отсутствие претензий, мы с Ниной наклеили эти плакаты сами, как можно неряшливей: чем больше морщин, пузырей, темных пятен и оторванных уголков, тем лучше.
Мы стояли без движения за прилавком, локоть к локтю, купаясь в теплой простоте построенного нами мирка. Да, получилось хорошо. Возможно, даже очень хорошо. Мы не могли судить объективно: в конце концов, это был макет нашей двойной фантазии в натуральную величину, содержимое двух голов, вывалившееся в действительность. Наше изначальное видение претерпело несколько изменений – одни из-за бюджета (крашеная сосна), другие из-за особенностей места (мы не могли поднять потолок, не оставив без жилища Хорхе, велокурьера в квартире 2А). Но даже компромиссы и полумеры мне нравились. Они демонстрировали, что мы не слишком зациклены на внешней стороне дела.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































