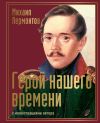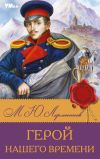Текст книги "Лермонтов и его женщины: украинка, черкешенка, шведка…"

Автор книги: Михаил Казовский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Скоро выбраться к Нечволодовым у Лермонтова не вышло: на другой день он участвовал в армейской джигитовке, регулярно проводимой в полку, дабы поддержать уровень кавалерийского мастерства, а потом Безобразов пригласил его вместе поохотиться на лисиц и зайцев – то-то было весело! По вечерам играли в карты, пили вино и рассказывали воинские байки. Иногда Лермонтова просили почитать стихи. А 7 ноября в Караагаче появился Александр Одоевский[24]24
Одоевский Александр Иванович (1802 – 1839) – князь, русский поэт, декабрист. После 7 лет каторги и 3 лет поселения в Сибири, в 1837 г. был определен рядовым в Кавказский корпус, с 7 ноября 1837 г. – в Нижегородский драгунский полк. Умер от лихорадки, находясь в действующей армии на берегу Черного моря.
[Закрыть] – тут уж вовсе стало не до отставного подполковника и его жены!
Александр Иванович был пригож лицом и немного напоминал Лермонтову отца: выше среднего роста, сократовский лоб, синие печальные глаза с поволокой. Вместе с друзьями он был 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, после его арестовали и заключили в Петропавловку. По суду он получил пятнадцать лет каторжных работ, отбыл семь, а затем по указу императора оказался рядовым на Кавказе. Выглядело дико: он, 35-летний мужчина, дворянин – без званий, а мальчишка Лермонтов, на 12 лет моложе – офицер, корнет и с двумя слугами!
Познакомились они еще в Ставрополе, подружились, обнаружив взаимную симпатию, и вот теперь увиделись снова.
– Как там поживает гостиничка Найтаки? – спросил Михаил. – Много наших осталось?
– Да почти все разъехались по своим частям, – ответил Одоевский. – А гостиничка – что ж? Беззаботная, шумная, пахнет пирогами с капустой. И клопы кровожаднее волков.
Посмеялись.
– Я, должно быть, скоро ее увижу. Жду приказа из Петербурга.
У приезжего глаза стали грустные.
– Вам везет, мон ами[25]25
Мой друг (фр.).
[Закрыть]. Мне России вовек не увидеть.
– Полно огорчаться, Александр Иванович! Мы за вас будем хлопотать.
– Хлопотать, конечно, нелишне, но при жизни Николая Павловича снисхождения мне не выйдет.
– Не зарекайтесь. Бог милостив, и его величество иногда не чужд сантиментов.
Одоевский поморщился.
– Это дурно, если в стране человеческие жизни зачастую зависят не от закона и не от суда, а от мстительных или сентиментальных чувств одного человека.
– Се Россия, батенька.
– В том-то все и дело. В Англии и Франции конституция – в порядке вещей. А у нас за призыв принять конституцию либо вешают, либо ссылают, либо отдают в солдаты.
Чтобы переменить тему, Лермонтов сказал:
– А хотите, я замолвлю за вас словечко перед Безобразовым, и он включит вас в команду ремонтеров? Вместе съездим за карабахскими скакунами?
У Одоевского заблестели глаза.
– Ну, конечно, замолвите. Буду только рад.
– Значит, договорились.
Безобразов вначале сомневался, не хотел пускать ссыльного в далекое путешествие – вдруг сбежит, а ему отвечать. Да и Лермонтов не имел у начальства репутации законопослушного человека, но тот, резвясь, предложил:
– А изволь, Сергей Дмитриевич, спросить совета у карт.
– Это как же, Михаил Юрьевич?
– Коли вытянется красная – мы с Одоевским едем. Коли черная – остаемся в полку.
– Ты никак фаталист, голубчик? – усмехнулся полковник.
– Есть немного.
Перетасовали колоду. Командир нижегородских драгун поводил над нею ладонью, делая магические пассы, а затем молниеносно выудил из середки червового короля.
– Красная, красная! – хлопнул в ладоши обрадованный поэт. – Мы победили!
– Что ж, сдаюсь, – проворчал Безобразов. – Но имей в виду: на поездку не больше десяти дней. Чтоб к двадцатому ноября были в Караагаче.
– Слово офицера! Ждите нас к двадцатому!
Отряд был вполне внушителен – четверо офицеров, десять рядовых и пятнадцать казаков для сопровождения. Сзади тащили легкую пушку. Карабах, конечно, не Дагестан и не Чечня, где лютуют отряды Шамиля, тут преобладали христиане армяне, но и здесь надлежало ухо держать востро. Зазеваешься – угодишь в аркан джигита, на веревке отведут в Кубу́ или Шемаху и определят в рабство.
Выехали затемно. А когда красновато-оранжевое, робкое солнце встало из-за гор, уже переправились через Алазани. Предстояло закупить двадцать лошадей (если поторговаться, может, двадцать две) на базаре в Шуше, а для этого преодолеть около 300 верст. Значит, примерно два дня пути.
Командиром ремонтеров был майор Федотов. Года три назад он едва не попал под суд за жестокость при ведении операции в одном из аулов: запер женщин, стариков и детей в хлеву и спалил заживо. Оправдывался тем, что чеченцы незадолго до этого налетели на русский обоз, в котором к нему ехали жена и ребенок, и всех убили. Император, рассмотрев доклады командиров Федотова, начертал резолюцию: «Отстранить от активных боевых действий и перевести тем же званием в Нижегородский драгунский полк». Так майор оказался в Караагаче.
Федотов почти ни с кем не дружил. Только иногда заходил к Безобразову и выкуривал молча трубочку-другую. Всех увеселений, в том числе спектаклей, проводимых в части, избегал. Но зато не пропускал ни одну службу в церкви. Многие, кто видел его во время молитв, утверждали, что Федотов плакал. По своей погибшей родне? Или же по душам, невинно убиенным в ауле? Кто знает!
На марше Федотов вскоре приказал:
– Степка, запевай!
Лихой казачок из сопровождения, славившийся своим голосом, звонко затянул:
Пыль клубится по дороге
Тонкой длинной полосой,
Из Червленой по тревоге
Скачет полк наш Гребенской.
Скачет, мчится, словно буря,
К Гудермесу поскакал,
Где Гази-мулла с ордою
Нас коварно поджидал.
Далее в песне говорилось об одной из схваток пятилетней давности: 500 казаков попали в засаду и потеряли 155 человек, но русские отбили атаку и рассеяли тысячное войско первого имама Дагестана и Чечни Гази Магомета. Заканчивалась песня куплетом:
Полк примчался к переправе,
Что за Тереком была.
Там кричали нам солдаты:
«Честь и слава вам, ура!»
И вся ремонтерская команда дружно подхватила:
Там кричали нам солдаты:
«Честь и слава вам, ура!»
Настроение сразу поднялось. Пели и другие известные песни: «Генерал Ермолов на Кавказе», «Я вечор, моя мила́я, во гостях был у тебя». Лермонтов с улыбкой подтягивал, радостно ощущая себя частью этого великого братства – воинов России, смелых, ловких, непобедимых. Ради таких мгновений стоило жить. Тут, в долине, верхом, в окружении соратников, с боевыми песнями на устах, жизнь казалась праведной, истинной, наполненной высшим смыслом, а салонные интрижки и любовные страсти выглядели мелкими, ничего не значащими, даже смехотворными.
На привал остановились возле горной речки Курмухчай. Ели обжигающую язык кашу с бараниной, дули на ложки, сухари размачивали в воде. Сидя рядом с Одоевским, Лермонтов спросил:
– Хорошо, не правда ли?
Тот взглянул невесело.
– Да чего ж хорошего, милостивый государь?
– Жизнь. Природа. Настроение.
– Жизнь не может быть хороша в принципе, ибо завершается смертью. Да, Кавказ красив, но природа России мне милее. А настроение скверное от плохих предчувствий. Так что ваши восторги, сударь, разделяю с трудом.
– Вы ужасный меланхолик.
– Так от безысходности. Собственной судьбы и судьбы России. Главное – от полнейшей невозможности изменить ни то, ни другое.
Михаил покачал головой, отрицая.
– Нет, напрасно, напрасно! Пушкин говорил: «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье». А капля камень точит!
– Камень оказался слишком крепок.
– Но зато капель много!
К вечеру добрались до города Шеки, одного из древнейших на Кавказе. Комендант определил всех на постой в нижний караван-сарай: в каждой комнате офицеры разместились по двое, рядовые же по четыре человека. Лермонтов оказался в номере с Федотовым. Тот достал из баула полотенце.
– Я пойду сполоснусь на речку. Не хотите составить мне компанию?
– Отчего же, извольте. Ледяная вода очень освежает.
Речка Гурджана оказалась быстрой, вода закипала у камней, разбиваясь в брызги. Но нагретый за день берег не успел остыть, и сидеть на валунах, раздеваясь, было приятно. Оба офицера остались в исподнем и, зябко ступая босыми ногами, охая и фыркая, пошли к потоку. Первым решился Федотов. Проревев нечто нечленораздельное, он окунулся с головой, вынырнул и прокряхтел:
– М-м, нечистая сила!.. До чего ж холодна!.. Ну, смелей, корнет, вам понравится.
Лермонтов ухватился за высокий, выступающий из воды камень, чтоб не быть снесенным течением, выдохнул и бултыхнулся в волны. Выскочил, как ужаленный, вытаращив глаза.
– Ух! Ых! Брр!
Оба захохотали. Долго находиться в такой обжигающей воде было опасно. Скользя на камнях, побежали на берег и стали растираться полотенцами.
У Федотова в руках откуда-то появилась фляга.
– А теперь выпейте, Михаил Юрьевич. Чтоб не простудиться.
– Это что?
– Знамо дело: водка.
Огненная жидкость сразу же согрела изнутри. Но оказавшись в пустом желудке, закружила голову.
– Ох, и крепка! – перевел дыхание корнет.
– Зато живительна, – отозвался майор, тоже прикладываясь к фляге.
Федотов предложил зайти в чайхану, расположенную в верхнем караван-сарае. Лермонтов смутился.
– Не могу, Константин Петрович, деньги оставил в нумере.
– А, пустое, корнет: я вас угощаю.
Приглашение, при всегдашней нелюдимости майора, дорогого стоило, и Михаил согласился. Чайхана была шумная, беззаботно-говорливая, как и все чайханы на свете, здесь коротали время после оголтелого базарного дня торгаши и мастеровые. При виде двух русских офицеров все замолчали и уставились на вошедших. Подбежавший чайханщик, кланяясь, предложил сесть за чистый стол. Перебросился несколькими репликами с Федотовым по-тюркски и торопливо побежал за едой и питьем.
– Хорошо вы освоили их язык, – с удивлением заметил Лермонтов.
– Жизнь заставила. Коли надо допрашивать пленных, хочешь не хочешь – освоишь.
– Не могли бы вы дать мне несколько уроков?
– Почему нет? Только не взыщите: я бываю нетерпелив, коли собеседник за мной не поспевает.
– Постараюсь поспевать.
Ели манты (как положено на Востоке, руками), зелень, пили зеленый чай. Конечно, не удержались, и Федотов тайком, чтобы не смущать местных, по пиалкам разлил из фляги остатки водки; выпили, не чокаясь.
Лермонтов полюбопытствовал:
– Сколько лет вы служите на Кавказе, Константин Петрович?
Тот, смахнув с усов крошки, ответил не сразу:
– Уж двенадцать скоро. Начинал с Ермоловым, продолжал с Паскевичем, Вельяминовым, а теперь вот с Розеном. Лучшие годы положил.
– Не жалеете?
– Как вам сказать, Михаил Юрьевич? Прежде не жалел, даже несмотря на мои потери, потому как верил, что России это необходимо. А в последнее время…
– Разочаровались?
У майора скорбно поджались губы.
– Просто устал. Думаю об отставке. В тридцать два года для мужчины еще не все потеряно, жизнь начать сначала не поздно. Есть у меня именьице в Новгородской губернии – там сейчас сестра распоряжается. К ней бы и поехал. – Он помолчал и добавил: – Или в монастырь…
– Да с чего бы это? – удивился Михаил.
– Праведности хочется. Чистоты. Покоя. Грешник – не тот, кто грешил, грешник – тот, кто грешил и не раскаялся.
Дав на чай чайханщику, возвращались в свой караван-сарай уже в темноте. До номера их провожал коридорный с фонарем, и ему тоже пришлось дать на чай. Лермонтов хотел по привычке выставить сапоги за дверь, чтобы их почистили, но Федотов предостерег: тут Кавказ, могут и украсть. Разбирали кровати при зажженной свече.
– Вы читаете перед сном? – спросил майор.
– Да, обычно. Но сегодня увольте. Мочи нет – спать хочу.
– Тогда спокойной ночи. Я же почитаю с полчасика. Привык. Книги Ветхого Завета умиротворяют. Завтра трудный день: за Курой, бывает, налетают банды Шамиля. Нам же непременно надо дойти до вечера до Агдама, а еще лучше, если повезет, до самой Шуши.
Но Лермонтов уже не слышал его, провалившись в сон.
8Самый опасный участок был между Евлахом и Агдамом: здесь, на Карабахской равнине, конница Шамиля часто нападала на обозы. За Агдамом, на отрогах Карабахского хребта, столкновений практически не случалось. Ехали с опаской, ружья и пистолеты наготове. Переправа через Куру длилась долго, мост оказался непрочным и с военной точки зрения уязвимым. Первыми перебрались восемь казаков, между ними – ремонтеры, а затем остальные казаки. Остановку сделали в Барде, где, согласно легенде, вещий Олег, ходивший против хазар, был укушен змеей и умер. Древности – мавзолеи и старые мечети – располагались в центре городка, но осматривать их было некогда. Наскоро перекусили, накормили-напоили лошадей, немного полежали в тени на травке и в начале третьего пополудни опять двинулись.
Речка Хачинай выглядела несерьезной – узкая и неглубокая, хоть и быстрая. Но в тот момент, когда отряд растянулся, переезжая вброд, в воздухе засвистели пули. Казаки открыли ответный огонь, развернули пушку, сделали два выстрела. Горцы ретировались. В результате у русских оказалось двое раненых: молодой казачок в плечо – легко, а Федотов в ногу – и довольно опасно, пуля застряла глубоко. Осмотрев рану, Одоевский (он когда-то начинал учиться на медика, но бросил) побоялся самостоятельно делать операцию, без необходимых для этого инструментов, только наложил жгут от кровотечения.
К Агдаму подъехали в половине шестого вечера. Командиром гарнизона был полковник Вревский – молодой, но, похоже, сильно пьющий человек с глупыми глазами. Он сказал, что пулю из раны мог бы извлечь доктор Фокс, но сегодня утром его похитили горцы и погоня не дала результатов. Есть еще местный брадобрей Камаль, практикующий врачевание, но ему вряд ли можно доверять.
– Наплевать, ведите Камаля, – прорычал Федотов, скрежеща зубами от боли. – Так и так помирать, ну а вдруг он вылечит?
Побежали за брадобреем. Он предстал перед ремонтерами – турок в феске и шальварах, с иссиня-черными от щетины щеками и глазами навыкате. Но по-русски говорил бойко.
Осмотрев рану, посерьезнел.
– Водка есть?
Вревский распорядился, живо принесли целую бутыль. Брадобрей налил два стакана: первый дал Федотову, а из второго сполоснул руки и остатками протер нож, заменявший ему скальпель. Опустился на колени перед раненым (тот лежал на скамье), приказал держать больного за руки и ноги, произнес какие-то молитвенные слова и приступил к операции.
Водка – не наркоз, хоть и облегчает страдания, но не слишком. Мужественный майор не кричал, не ругался, лишь слегка постанывал и от боли плакал: слезы катились градом. Наконец Камаль извлек пулю, взвесил на ладони, оценил со знанием дела.
– Вай-вай, этот ядрышко можно на медведь охота!
Он начал зашивать рану. Тут Федотов потерял сознание, и пришлось хлестать его по щекам, чтобы привести в чувство.
Брадобрей со вздохом встал с колен, попросил полотенце и воды. Все повеселели, стали благодарить турка. Он застенчиво тер ладони, красные от крови, и отшучивался устало:
– Вай, какой спасибо, делал, что уметь.
Вревский протянул ему пять рублей. Но Камаль отказался.
– Нет, зачем обидеть, я за помощь денег не брать. Приходи – стричься, бриться – деньги приноси. А такой помощь бесплатно.
– Ну, хоть водки выпей.
– Нет, Коран запрещает водка.
– В Коране только о вине говорится. А про водку ни слова.
– Нет, нельзя, это очень грех.
– А по-нашему, грех не выпить за здоровье больного. Или ты не уважаешь русских офицеров?
Турок кланялся и беспомощно обводил всех глазами.
– Очень уважать, потому что Россия – сильный страна. Очень уважать. Только пить нельзя.
– Ну, чуть-чуть, только два глотка. Ты не можешь, Камаль, не выпить. Ну, не будь свиньей.
– Нет, я не свинья. Я молиться в мечеть и не свинья.
– Вот и выпей, а потом замоли грех в мечети. Или ты не друг нам больше.
Турок кряхтел, сопел, но потом все же согласился. Попросил, чтоб налили чуть-чуть, и сразу начал причитать, что налили много. Офицеры сдвинули кружки за выздоровление раненого и дружно выпили, в том числе и турок. Он сморщился, скривился, часто задышал.
– На, заешь огурцом, сразу полегчает.
Вревский принялся уговаривать Камаля выпить по второй, но несчастный брадобрей схватил нож и, прощаясь на ходу, выбежал из горницы. Все рассмеялись.
Федотова спрашивали, как его самочувствие. Тот ворчал с трудом:
– Ничего, ничего… завтра будет видно…
На другой день он проснулся бодрый, говоря, что рана почти не болит и, наверное, завтра можно будет ехать. А подчиненным разрешил отдохнуть, осмотреть Агдам.
Лермонтов и Одоевский отправились на прогулку. Собственно, смотреть особенно было нечего: старая мечеть и руины дворца хана Панаха Али – груды белого камня (прежде это было самое высокое здание города, получившего название именно по дворцу: «агдам» по-тюркски означает «белая крыша»; но время и землетрясение уничтожили этот памятник).
– Представляете: когда-то здесь кипела жизнь, – говорил Михаил, проходя между развалин и поддавая носком сапога мелкие светлые камушки, – бегали покорные слуги, угощая своего повелителя, был сераль с десятком красавиц одалисок, били фонтаны, слух ублажала музыка. Сто лет прошло – никого и ничего не осталось. Люди умерли, стены рухнули, фонтаны высохли. Тишина, безмолвие! Так и мы уйдем. Так и наши страсти будут выглядеть глупыми через сотню лет.
Александр Иванович после паузы ответил:
– Я поэтому не люблю ходить по кладбищам. Сразу возникают мысли о бренном. Смотришь на могилы – все эти люди радовались свету, теплу, вкусным пище и питью, хорошей музыке. Учились, влюблялись, женились, изменяли… И что в итоге? Ничего, кучка праха, бугорок земли. Был ли смысл в их жизни? Есть ли смысл в нашей жизни?
Михаил скривился.
– Думаю, что нет. Или, может, этот смысл нам неведом. Знает только Бог. Для чего-то же Он создал наше мироздание, поселил человека в нем. Был какой-то замысел! Все в природе устроено разумно, значит, замысел есть и тут.
– Не уверен, совсем не уверен. Мир Божественный – мир иной. Ведь не зря существует выражение: «Перейти в лучший мир». Потому что там – Бог. Мир земной – порождение демонов. Здесь – болезни, хаос и муки, там – порядок, справедливость, спасение. Здесь все имеет начало и конец, там – вечность и бессмертие. Мы живем в аду. И желаем смерти как избавления.
Лермонтов присел на обломок камня и поднял на Одоевского глаза.
– Получается, по-вашему, что не надо бояться смерти?
Декабрист грустно улыбнулся.
– Смерти не бояться нельзя, все живое боится смерти. Только человек как носитель Божественного начала – разума – может осознать, что за смертью – новая жизнь. Просто переход жизни в иные формы. Тело боится – разум успокаивает.
– Тем не менее никто умирать не хочет. И самоубийство считается тяжким грехом.
– Только Бог решает, когда чей час. – Одоевский сел напротив. – И потом, для того, чтоб покончить с собой, вовсе необязательно принимать яд, резать вены или выбрасываться из окна. Рисковать на войне и участвовать в дуэлях – тоже род самоубийства, но без греха.
Между развалин росла трава, пробивались кустарники. Новая жизнь заменяла старую, словно подтверждая слова Одоевского.
– У меня табак кончился, – обнаружил Михаил, распуская тесемки на кисете. – Надобно сходить в лавку. Заодно куплю карандаш и бумагу – хочется запечатлеть виды Агдама.
– Что ж, пойдемте вместе.
В гарнизонной крепости Вревский угощал офицеров, рядовым тоже кое-что доставалось с барского стола. Пили за удачу в лошадиных торгах, за здоровье раненого Федотова, за успехи Лермонтова на литературном поприще. Командир гарнизона поднял рюмку за здравие государя императора. А когда все присоединились, вдруг спросил:
– Вы, Одоевский, что, не пьете?
Александр Иванович сухо проговорил:
– Мне достаточно, я и так уже перебрал.
– Но за государя нельзя не выпить.
– Вот и пейте, сударь. Я мысленно к вам присоединяюсь.
– Этак не годится, – на полковника напал нетрезвый кураж. – Вас, бунтовщика и крамольника, столько лет воспитывали в Сибири, а теперь и на Кавказе, но учение, как видно, не пошло впрок. Я обязан сообщить, кому следует.
– Воля ваша. Я доносов никаких не страшусь. Более того: чем раньше меня повесят, тем лучше. Повидаюсь с повешенными друзьями на небесах.
Глупые глаза Вревского совсем поглупели. В ярости он сказал:
– До дуэли с вами я не унижусь, ибо драться полковнику с рядовым не пристало. Но начальству вашему будет доложено.
– Нет необходимости, – неожиданно вмешался Федотов. – Я его начальство. И считаю, что солдат Одоевский перед вами не провинился.
– Как не провинился? – повернул к нему голову командир гарнизона. – Он отказался выпить за здоровье государя!
– Разве? – удивился лицо Константин Петрович. – Я не помню.
Он обратился к присутствующим:
– Или кто-то помнит?
Офицеры и рядовые, опустив глаза, хранили молчание.
– Видите, полковник: никто не помнит. Можете писать, что угодно, но свидетелей нет.
Вревский встал, пробурчал: «Крамола! Вы, майор, ответите!» – и решительно вышел.
– Так! Попались! – произнес Лермонтов.
– Ой, да будет вам! – отмахнулся Федотов. – Знаю я подобных людишек. Выпил рюмку, а куража на целое ведро. Протрезвеет и успокоится. Лучше поговорим о том, как нам завтра быть. Я, скорее всего, сесть верхом не смогу. Стало быть, поеду в повозке. Это замедлит наше продвижение к цели, но пути, слава богу, нам осталось всего ничего – меньше тридцати верст. Через три часа, если без приключений, будем уже в Шуше.
– Говорят, здесь места спокойные.
– На Кавказе нигде не спокойно, но с армянами, естественно, лучше…
Утром встали ни свет ни заря, добудиться Вревского не смогли и повозку наняли собственными силами. Выехали в пять, двигаясь плотной группой, окружив со всех сторон раненого начальника. Видимо, Федотову лучше не сделалось: он полулежал бледный, морщась от каждого ухаба на дороге. Но от предложения Одоевского осмотреть рану и сменить повязку отказался: мол, в Шуше найдем настоящего доктора.
Городок оказался очень милым, чистым и ухоженным. Тюркская его часть находилась в низине, над которой высились башни мечети Говхар-ага. А в нагорной части жили армяне, и над крышами их домов возвышался ребристый конус храма с крестом. Древняя крепость называлась Панах-абад (то есть построенная тем самым Панахом Али), сложенная из серого камня, с зубчатыми стенами. В круглых башнях зияли бойницы. По смотровой площадке самой крупной из башен, под навесом от солнца и дождя, методично вышагивал караульный с ружьем. На базарной площади шли торги, все кругом шумело, кричало, лаяло, блеяло, двигались повозки, кони, ослы, верблюды, пахло сеном, жаренным на мангале мясом, конской мочой. В крепости ремонтеров встретил комендант Вартанов, добродушный армянин лет сорока пяти. Он разохался, узнав о ранении Федотова, и сообщил, что у них есть прекрасный доктор, только что прибывший из Агдама, по фамилии Фокс. Лермонтов удивился.
– Так его же похитили горцы!
– Точно так, похитили. Привезли к себе и заставили лечить своего командира: «Вылечишь – отпустим да еще наградим, а не вылечишь – убьем».
– Значит, вылечил?
– Конечно! Он просто творит чудеса. На второй день поднял больного с койки. И ему подарили кольцо с бриллиантом. Но в Агдам возвращаться не хочет, говорит, Вревский негодяй и пропойца, хуже инквизитора.
– Что ж, велите доктора позвать.
Алексей Андреевич Фокс, по отцу – англичанин, а по матери русский, оказался кругленьким сдобным человечком, лысоватым, в очках, с хитрыми глазками и белыми мягкими ладошками. Их он беспрестанно потирал друг о друга. А когда размотал кровавые бинты на Федотове, по комнате разнесся тошнотворный запах гноя. Кое-кто закрыл нос платком. Доктор жестко попросил:
– Господа, соблаговолите выйти отсюда. Вы мешаете мне работать.
Лишь Одоевскому он позволил остаться: тот сказал, что учился на медицинском и готов ассистировать.
Все ждали за дверями больше получаса, а затем набросились на вышедшего Фокса: что и как? Тот ответил прямо, потирая ладони:
– Ситуация нехорошая. Брадобрей сделал операцию грамотно, но, как видно, не сумел обеззаразить рану полностью. Нам пришлось ее снова вскрыть и прижечь как следует. Если нагноение будет продолжаться и завтра, ногу придется ампутировать.
– Неужели?!
– Это крайняя мера, на которую мы пойдем, чтобы сохранить ему жизнь. Но посмотрим, как пройдут день и ночь. Нам же остается только молиться.
Лермонтов и Одоевский собрались «на разведку» на базар. Декабрист по дороге восхищался мастерством доктора – золотые руки, тонкая работа, гений медицины.
– Он бы мог иметь богатую практику в Петербурге или Москве, – продолжил Александр Иванович, – так ведь нет. Добровольно поехал на Кавказ, подвергается опасности и спасает людей. Что за человек, право слово!
– Мало ли подвижников на Руси, – заключил Михаил.
– В том-то все и дело, что мало.
На базаре отыскали торговцев лошадьми и посмотрели их товар, приценились. Наибольшее впечатление произвел жеребец Эльмас из табуна так называемого «ханского завода» – высота в холке сорок вершков (около 140 сантиметров), шея мускулистая, грудь глубокая и широкая, ноги и копыта короткие, но крепкие, лоб высокий, глубоко посаженные глаза. Эта порода называлась по-местному «кеглян».
– Вы нигде такой больше не найти, – убеждал торговец-татарин с жидкой бородкой. – Чистокровный джинс-сарыляр. Род ведет от отборный хорезмский аргамак. Посмотри, хозяин, где шея, где кадык. А? Только у аргамак есть такой. Волос тонкий и мягкий, как шелк. Золотистая масть. И у нас весь табун не худшей.
– А почем? – спросил Одоевский.
– Двести рубль, – не моргнув глазом, ответил хитрец.
– Эк, куда хватил! За такие деньги в России двух приличных жеребцов купить можно.
Но торговец презрительно поморщился.
– Э-э, Россия! Разве там есть такой красавец?
– Сто пятьдесят, – назвал Лермонтов цену.
– Обижаешь, хозяин. Разорить меня хочешь?
– Коль по сто пятьдесят, мы возьмем двадцать. И на круг выйдет три тысячи. Разве плохо?
– Три тысяч – хорошо. Но когда по двести – выйти четыре тысяч. Еще лучше.
– Ну, как знаешь. Мы пойдем искать других продавцов.
– Стой! Стой! – испугался татарин. – Сто девяносто.
– Сто шестьдесят – и точка.
– Вай, зачем точка? Надо торговаться побольшей.
– Торг окончен. Красная цена – сто шестьдесят.
– Дай хотя бы сто семьдесят.
– Ни за что.
Продавец нахмурился.
– Должен говорить с мой хозяин. Завтра приходи.
– Хорошо, придем. Только, чур, Эльмаса никому без нас не продавай.
– Нет, нет, Эльмас – для вас.
– Стихами заговорил, каналья! – засмеялся Лермонтов. – Завтра мы придем вчетвером и, Бог даст, с нашим командиром. Коль уговоримся, то поедем отбирать скакунов к вам в табун.
Приложив ладони к груди, коневод кланялся, уверяя в своем почтении.
Удалившись, друзья продолжили обсуждать карабахских лошадей и решили, что могла бы выгореть неплохая сделка. Возвратившись в крепость, рассказали о своих впечатлениях. Но майор слушал как-то отрешенно. Наконец промолвил:
– Нет, по сто шестьдесят многовато.
– Он за меньшее не отдаст.
– Свет клином на нем не сошелся.
– Может, и сошелся. Экземпляр выдающийся, правду говорим.
– Ну, посмотрим завтра.
Пообедав, друзья отправились на прогулку. Лермонтов рисовал (по его словам – «снимал виды») крепость, мечеть, уличные лавочки. Вечером играли с офицерами в карты, пили местное вино (хуже кахетинского), слушали истории об амурных похождениях служащих гарнизона. Те особенно хвалили жрицу любви по имени Мириам.
– Что, армянка?
– Нет, еврейка. Мы такой груди вовек не видали.
– Что берет?
– Рубль за час. Два рубля за ночь. Но в гондоне.
– А без гондона?
– Как договоритесь, но не меньше трех…
Утренний осмотр доктором Фоксом дал неплохие результаты: нового нагноения не случилось, жара не было, у больного появился аппетит. А поев, сказал, что хотел бы со всеми ехать на базар.
– Я бы не советовал, – счел своим долгом предупредить медик. – Даже сидя в повозке, вы не сможете уберечь рану от толчков и вибрации. А для заживления нужен полный покой.
– Ерунда, забинтуйте ногу потуже – и все в порядке.
– Можно и потуже, но тогда ранение не будет дышать. А приток воздуха очень важен для вентиляции: чем быстрее подсохнет, тем лучше.
– Понимаю, но потерплю несколько часов. А когда уладим главные дела, отлежусь два дня перед обратной дорогой.
– Ох, рискуете вы, Константин Петрович.
– Тот не драгун, кто не рискует.
Рассудили так: на базар Федотов поедет, сам посмотрит Эльмаса и решит вопрос о цене. А затем офицеры отправятся в табун отбирать других лошадей без него.
Утро было прохладное, дул студеный ветер, впервые природа давала понять: начался ноябрь и не за горами зима. Командир сидел в небольшой повозке, завернувшись в шинель; был он бледен, но бодр. На базаре нашли вчерашнего продавца, тот приветливо кланялся, говорил, что его хозяин рад служить русским офицерам и готов уступить еще пять рублей и назначить цену в сто шестьдесят пять за голову. Ничего не ответив, майор попросил помочь ему сойти с таратайки. Опираясь на здоровую ногу, поддерживаемый под мышки с двух сторон, запрыгал к Эльмасу. Осмотрел коня со всей тщательностью и остался весьма доволен. Обернулся к татарину.
– Коли остальные не хуже, я готов купить двадцать одного, но по сто шестьдесят два с полтиной.
Неожиданно татарин выдвинул встречное предложение:
– Будь по-твоему, господин, сто шестьдесят два с полтина. Но купи тогда двадцать три.
На лице Федотова отразилось сомнение: он считал деньги. Наконец определился:
– Двадцать двух куплю, но по сто шестьдесят одному рублю.
– Вай, совсем меня разорить хочешь. Мой хозяин меня убить. Ладно, господин, только для тебе: двадцать две по сто шестьдесят одному с полтина.
Рассмеявшись, майор кивнул.
– Черт с тобой, уболтал, мерзавец. Дайте ему задаток в тысячу рублей. Остальные – после завершения сделки. С Богом, господа, отправляйтесь в табун. Я поеду обратно в крепость… – Помолчав, добавил: – Прошу остаться со мной корнета Лермонтова. У меня до вас будет дело, Михаил Юрьевич.
– Слушаюсь, господин майор.
Возвращались молча. А потом, когда оказались в комнате вдвоем, Федотов произнес:
– Дни мои сочтены. До Караагача я не доберусь.
Лермонтов вздрогнул.
– Константин Петрович, вы поправитесь!
– Дайте сказать. Мне вчера во сне явились жена с доченькой… Ждут меня на небе. Вот и хорошо, я измучился от разлуки с ними и хочу скорее соединиться. Мы теперь составим с вами завещание и потом заверим у коменданта. Схо́дите в армянскую церковь, позовете батюшку, чтобы исповедал меня и соборовал. А когда окажетесь в Петербурге, отдадите завещание моему духоприказчику – я вам расскажу, как его найти. Уж не откажите в любезности, Михаил Юрьевич.
– Константин Петрович, сделаю все по вашему желанию. Но уверен: доктор Фокс вам не даст покинуть этот мир.
– Ах, уймитесь, право. Мне лучше знать. – Он откинулся на подушки и закрыл глаза.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?