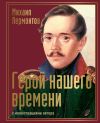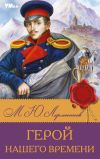Текст книги "Лермонтов и его женщины: украинка, черкешенка, шведка…"

Автор книги: Михаил Казовский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава третья
1Накануне отъезда Лермонтов навестил Федотова: тот уже самостоятельно ходил, рана затянулась и болела несильно. Выпили по стаканчику. Константин Петрович попросил завещание его не выбрасывать: если до Петербурга дойдет известие о его смерти, то пустить в дело. Если, паче чаяния, он заслужит помилование и вернется в Россию, заберет документ сам. Михаил обещал.
В тот же вечер отъезжающий дал своим однополчанам-офицерам прощальный ужин. Шампанское и вино лились рекой, было много здравиц, напутствий, пели песни, поэт читал старые и новые стихи и по просьбе Безобразова – «Бородино». Говорил, что его пребывание на Кавказе было хоть и кратким, но незабываемым, он увозит с собой массу впечатлений, возвращается домой другим человеком. В довершение вечера сели расписать пульку, и виновник торжества выиграл пятнадцать рублей. Дойдя до своих покоев, рухнул на постель как подкошенный. Андрей Иванович стаскивал сапоги уже со спящего.
Наутро он разбудил Лермонтова ровно в пять, чтобы ехать вместе с почтой, отправляющейся в Тифлис. Голова у поэта была чугунная, координация слабая, так что он предпочел сесть в повозку, а не верхом.
Проводить его в предрассветных сумерках вышел лишь Одоевский – он вчера на пирушке не был и стоял на ногах твердо. Пожелал приятелю счастья, новых успехов на литературной стезе. Михаил пожелал ему того же. Александр Иванович с горечью бросил:
– Да какое мое счастье! Разве что скорее получить пулю в сердце.
– Что вы такое говорите?
– Мне-то милости от государя не видать. Так зачем продлевать мученья? Лучше сразу избавиться от всего.
– Крепитесь, дружище. Христос терпел и нам велел.
– Разве я похож на Христа?
Обнялись и расцеловались по-братски. Каждый словно чувствовал: больше им никогда не встретиться.
Вскоре почтовый караван выехал из расположения Нижегородского драгунского полка. Лермонтов переживал прощание с другом недолго – хмель и сонливость взяли свое. Он сидел в повозке, то и дело задремывая, а проснулся окончательно на привале после переезда речки Иори. Неожиданно пошел снег, он почти не таял, будто слоем ваты покрыв спины лошадей и фуражки военных. Михаил сел на Баламута, ощутил свежесть ветра, бившего в лицо, с удовольствием вспомнил приключение в Царских Колодцах, черные глаза Кати Нечволодовой. Ах, как хорошо все сложилось. Любовное приключение – и никаких обязательств. Словно в сказке о Колобке: я от бабушки ушел, я от Сушковой ушел, я от Нечволодовой ушел, а уж от Майко Орбелиани и подавно уйду! Но увидеться с ней в Тифлисе хотелось. Как говорится, чтобы лишний раз пощекотать себе нервы…
Город встретил слякотью от растаявшего снега, злой холодной Курой, колокольным звоном храма Сиони. Конь скользил подковами на обледенелых булыжниках. Дом Ахвердова на Садовой выглядел безжизненно. Вышедший сторож в бараньей шапке и солдатской шинели без знаков отличия, проговорил с грузинским акцентом:
– Барин нет, никого нет, все давно уехал.
– А когда будут?
– Ничего не сказал, когда ехал.
– И записки для меня не оставил?
– Да, записка есть. Для Лермонтов. Ты Лермонтов?
– Лермонтов, Лермонтов. Быстро неси, болван.
Сторож проворчал:
– Вай, зачем болван? Я почем знать – Лермонтов, не Лермонтов?
Михаил развернул бумагу и прочел на французском:
«Мой любезный братец! Думал, что увидимся при твоем отъезде с Кавказа, но, как говорится, офицер предполагает, а начальство располагает: послан в Кизляр с особым поручением и вернусь не раньше декабря. Ничего, Бог даст, в Петербурге свидимся: я надеюсь заслужить отпуск по весне и приехать навестить мачеху и сестрицу. То-то погуляем! Кстати, ты знаешь, наш дружок, поручик Николаев, под следствием: он приревновал мамзель Вийо к одному нашему гусару и убил обоих. Ахах! Не узреть и не попробовать нам больше ее прелестей!.. Не грусти: думаю, на наш век мамзелей хватит. Остаюсь твоим любящим братцем Е. А.».
Усмехнувшись, Михаил сложил листок и подумал:
– Тоже болван. Ну, уехал – отчего не позволить мне пожить у него? В доме офицеров будет слишком шумно. Если только Чавчавадзе уже в Тбилиси.
Он помахал рукой Никанору и Андрею Ивановичу.
– Едем по соседству, на Андреевскую!
Домик Чавчавадзе был довольно мал: за железной оградой, одноэтажный, без балконов и особых изысков. Узкие высокие окна. Палисадник под ними.
Лермонтов позвонил в колокольчик. Из дверей появился чинный лакей с огромными бакенбардами.
– Что, любезнейший, дома ли князья?
– Дома, точно так, но велели говорить, что не принимают.
– Доложи, сделай одолжение, что приехал Лермонтов.
– Как, прошу прощения?
– Корнет Лермонтов, из драгун.
– Точно так, сей момент доложу.
Он ушел, но вскоре вернулся.
– Вам изволили разрешить… милости прошу, Михаил Юрьевич.
– Благодарствую.
Вышел сам Александр Гарсеванович в домашней тужурке и уютной домашней обуви на меху. Распростер объятия.
– Я безмерно счастлив опять вас видеть! Вот уж поговорим как следует!
Гость попросился на постой на две-три ночи перед отъездом в Россию. Князь закивал.
– Конечно, конечно! Это большая честь для нас.
– Обещаю вести себя смирно и не нарушать покоя вашей обители.
– Ах, к чему подобные реверансы?
За обедом встретились со всей семьей: три сестры и оба родителя (брат Давид вновь уехал в Петербург). Маленькая Софико ела точно взрослая, правда, не ножом и вилкой, а ложкой. Нина Александровна, как всегда в черном, выглядела усталой и, даже, болезненной. Зато Като с интересом внимала рассказу поэта о его поездке в Шушу. Мама Саломея только восклицала: «О, мой Бог! Ужасы какие!»
После десерта Чавчавадзе сказал:
– Ну-с, дадим сегодня гостю отдохнуть с дороги. А завтра с утра сходим в бани и обсудим, чем занять его свободное время.
– Нина Александровна обещала мне посещение могилы Грибоедова.
– Да, я не забыла, – отозвалась вдова. – Очень тронута, что и вы не забыли.
Лермонтов удалился в отведенную ему комнату и стал раздеваться. В это время в дверь робко постучали. Михаил ответил:
– Юн моман, пардон![31]31
Один момент, извините (фр.).
[Закрыть] – и накинул на сорочку халат.
На пороге стояла улыбающаяся Като. Ласково сказала:
– Миль пардон[32]32
Тысяча извинений (фр.).
[Закрыть], что мешаю отдыхать. Просто мне было поручено передать вам письмо, если вы заедете.
– От кого?
– Сами догадайтесь. – Она протянула маленький, пахнущий духами конверт. Пока Михаил вертел его в руках, скрылась со словами:
– Все, до завтра, Мишель: миссию я выполнила и могу удалиться со спокойной душой.
– Да, мерси, мерси…
Сел на стул около окошка, оторвал заклейку. Прочитал по-французски:
«Дорогой друг! Я, по настоянию моих близких, предварительно согласилась на брак с князем Б***. Но одно Ваше слово – и венчанию этому не быть. Жду от Вас решения. Помню все. М.О.».
Он оторопело провел рукой по лбу. Вот незадача! Былые свидания с Майко представлялись ему теперь очень далекими и почти нереальными. Столько событий потом произошло: и поездка с командой ремонтеров, и неожиданная близость с Катей, и печальное расставание с Одоевским… А Майко не забыла и ждала. Что же ей ответить?
2На могилу Грибоедова отправились вдвоем с Ниной Александровной и со слугой-грузином из княжеского дома: в одной руке он нес букет свежесрезанных чайных роз, а в другой – кожаную сумку. Шли пешком, поднимались вначале по крутой вымощенной улочке с чахлыми одинокими деревцами на тротуарах, а затем по тропинке в гору. На горе еще издали была видна приземистая грузинская церковка, сложенная из белого камня, – невысокая, без купола, с треугольной покатой крышей. Слева от нее можно было заметить узкую башню-звонницу с небольшим колоколом. Вблизи открылось, что церковка стоит на площадке, огражденной спереди кованой решеткой с балясинами. Основание храма и площадки – каменные, справа и слева сбегают две каменные лестницы, посредине – ниша со склепом. Вход был закрыт решеткой-воротами. За воротами и покоился Грибоедов.
Нина Александровна извлекла из сумки ключ, отперла висячий замок.
Лермонтов, освоившись в полумраке, разглядел каменное надгробие. Сверху было распятие, сзади которого на коленях стояла бронзовая плачущая женщина, в скорби своей приникшая к основанию креста. То ли Дева Мария, оплакивающая Сына, то ли Нина Грибоедова, оплакивающая мужа. Слева на камне – золотом высеченные слова: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!» Это было очень трогательно, в этом было столько чувства, непосредственности, открытости, точно Нина начала говорить официальные, правильные, пафосные слова о бессмертии и памяти русской, а потом сорвалась на обычный, искренний язык одинокой любящей женщины. Потрясенный Михаил почувствовал, что из глаз его потекли слезы. Он устыдился их, торопливо вытер со щек указательным пальцем.
Между тем вдова, опустившись на колени, возложила к могиле цветы и приникла виском к холодному камню. Провела ладонью по барельефу. Что-то при этом проговорила беззвучно. Потом, повернув к корнету лицо, тихо сказала:
– Время придет, и рядом упокоят меня. Будем вместе в вечности. – Помолчав, добавила: – Потому что единство тел мимолетно. Превращается в тлен. А единство душ бесконечно. Ибо богоравно.
Лермонтов опустился на колени рядом с ней и, перекрестившись, поклонился праху великого человека. Подумал: а будет ли у него такая могила? Будет ли у него такая вдова? Будет ли у него загробное счастье?
Нина Александровна поднялась и, позвав слугу, что-то достала из сумки. Встала вновь на колени рядом с Михаилом и произнесла:
– Здесь, на святом для меня и моей семьи месте, я хочу подарить вам кинжал из коллекции Александра Сергеевича Грибоедова. Был куплен им во Владикавказе. Муж его любил и ценил. Надеюсь, что там, на небе, он будет рад видеть вас владельцем этой реликвии.
– О, благодарю.
Он взял торжественно, вытащил из ножен и поцеловал сверкнувший клинок. Разглядел на стали надпись по-персидски.
– Что здесь начертано?
– В переводе Саши: «Умирая – воскресай».
– «Умирая – воскресай». Лучший девиз для воина.
– И не только воина. Умирая телом, воскресай душой.
Лермонтов взял ее руку и поцеловал. Оба на коленях снова перекрестились и склонились перед распятием…
Позже, у себя в комнате, Михаил, взволнованный увиденным, услышанным, пережитым, глядя на кинжал Грибоедова, походил взад-вперед от окна к двери и обратно, затем быстро сел за стол и почти без помарок написал:
Люблю тебя, булатный мой кинжал,
Товарищ светлый и холодный.
Задумчивый грузин на месть тебя ковал,
На грозный бой точил черкес свободный.
Лилейная рука тебя мне поднесла
В знак памяти, в минуту расставанья,
И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла,
Но светлая слеза – жемчужина страданья.
И черные глаза, остановясь на мне,
Исполнены таинственной печали,
Как сталь твоя при трепетном огне,
То вдруг тускнели, то сверкали.
Ты дан мне в спутники, любви залог немой,
И страннику в тебе пример не бесполезный:
Да, я не изменюсь и буду тверд душой,
Как ты, как ты, мой друг железный.
Бросив перо, он повалился на кровать и, закрыв глаза, прошептал:
– У меня есть кинжал Грибоедова. Я теперь преемник если не Пушкина, то Грибоедова точно. Я докажу всем, что это так.
Сел, тряхнул головой, рассмеялся:
– Вы еще лизать мне сапоги будете. Все, все! Мерзавцы…
3Вечером в доме Чавчавадзе собрались близкие и друзья: барон Розен, князь Бебутов[33]33
Бебутов Василий Осипович (1791 – 1858) – князь, российский генерал, герой кавказских походов и Крымской войны.
[Закрыть] с супругой, полковник Дадиани[34]34
Дадиани Давид Леванович (1813 – 1853) – владетельный князь (мтавар) Мегрелии, в 1837 г. полковник, с 1845 г. генерал-майор.
[Закрыть], сестры Орбелиани (Майко и Майя) и их родственник – молодой поэт Николай Бараташвили[35]35
Бараташвили Николай (Николоз) Мелитонович (1817 – 1845) – выдающийся грузинский поэт-романтик.
[Закрыть]. После легкого ужина дамы музицировали, пели романсы, а поэты читали стихи на русском и грузинском. Лермонтов, по многочисленным просьбам, декламировал «Бородино». Вскоре старшее поколение удалилось за карточный стол, а молодежь села кружком около камина.
Самым именитым был жених Като – Давид Дадиани, сын правителя Мегрелии Левана V: худощавый, лощеный, с маленькими усиками. Говорил он мало, словно каждое его слово дорого стоило, и, как правило, по-французски.
Самым скромным выглядел Бараташвили, хотя по титулу тоже князь, но отнюдь не владетельный и совсем не богатый, – не имея средств к существованию, он работал чиновником Экспедиции суда и расправы. И писал лирические стихи на грузинском. Все они были посвящены некоей N, но по ряду признаков многие догадывались, что N – Като Чавчавадзе.
Сестры Чавчавадзе сидели рядышком: Нина Александровна – в черном глухом, Екатерина – в светло-сиреневом платье и с открытой шеей, на которую было надето жемчужное ожерелье.
Сестры Орбелиани на ее фоне смотрелись скромно: в сером и коричневом платьях, отделанных кружевами, простые прически с лентами; украшениями служили только серьги и броши.
Пили кофе и болтали на разные темы. Дадиани спросил Лермонтова:
– С легким ли сердцем вы покидаете Кавказ?
Тот ответил:
– Нет. Я, конечно, рад вернуться домой, но, с другой стороны, буду по Кавказу скучать. Здесь останется частица моей души.
– А сюжеты кавказские с собой повезете? – улыбнулась Като.
Михаил весело кивнул.
– Целый мешок сюжетов! Было бы только время сесть за письменный стол! Я иногда думаю об отставке.
– И о женитьбе тоже? – приставала младшая Чавчавадзе.
– О женитьбе пока не думаю.
Он глянул на Майко и отвел глаза.
– Отчего так?
– Чтобы сделаться главой семейства, надобно иметь прочные позиции в обществе. Не метаться, как я, с одного поприща на другое. Обрести статус. Может, к тридцати годам и созрею. Пушкин вот женился в тридцать один.
Дадиани поморщился.
– Пушкин женился поздно и неудачно. По вине его жены все и случилось: не смогла понять, что живет с гением. И что с гениями надо себя вести осмотрительно. Нина Александровна знает: ведь ее Грибоедов – гений.
Старшая Чавчавадзе не согласилась.
– Понимаете, Дато, гений гениален в чем-то одном. Скажем, в духовной сфере. А во всех других проявлениях вполне зауряден. Может пить, играть, волочиться за дамами, даже сплетничать, драться на дуэлях. Точно Сын Божий: внешне – человек, а по сути – Бог.
Майя Орбелиани задумчиво сказала:
– Значит, гений, как и Сын Божий, должен мученически погибнуть за всех людей?
– Как и Грибоедов.
– Пушкин, раненый, говорят, сильно страдал…
– Может ли гений умереть без страданий? Кто из гениев дожил до глубокой старости?
– Леонардо да Винчи.
– Вольтер.
– Гете.
Повернувшись к Бараташвили, Екатерина ввернула:
– Ну а вы, Николоз, готовы ли страдальчески умереть?
Молодой человек смутился, покраснел, как рак, и пробормотал:
– Да при чем тут я? Я не гений.
– Вы хотите дожить до старости?
– Кто не хочет! Каждый нормальный человек хочет.
– Я не хочу, – объявил Лермонтов с вызовом.
Все озадаченно уставились на него.
– Потому что считаете себя гением? – хмыкнул Дадиани.
Михаил ответил серьезно:
– Гений, не гений – это решать другим. И Богу. Я про другое: старость не дает озарений. Все озарения случаются только в юности. Реже – в зрелом возрасте. Значит, умирать надо не позже сорока, сорока пяти.
Неожиданно заговорила Майко:
– Как – жениться в тридцать и умереть в сорок? Не успев вырастить детей?
– Дети гению не нужны, – холодно отрезал поэт.
– Отчего ж? Вот у Пушкина – четверо детей.
– Говорят, что трое, – заметила Като, – младшая не его, а весьма высокопоставленной особы… В этом – подоплека дуэли…
– Ну не станем повторять досужие слухи, – упрекнула ее Нино.
– У Вольтера не было детей. И у Леонардо да Винчи.
– А у Гете были.
– Что это доказывает?
– Ровным счетом ничего.
Поэт упрямо повторил:
– Я хотел бы умереть в тридцать три.
– Как Христос? – тут же съехидничал Дадиани.
Майко вздохнула.
– Час от часу не легче: сначала в сорок, сорок пять, теперь уже в тридцать три. Я не понимаю.
– Гения понять трудно, – продолжал подшучивать владетельный князь.
Лермонтов поднялся с перекошенным от гнева лицом.
– Издеваться изволите? – впился он в Дадиани глазами. – Я не потерплю.
Тот воздел руки к потолку.
– Полно, дорогой. Я назвал вас гением – разве это издевка? Это признание вашего таланта.
– Вы прекрасно понимаете: я не про слова, а про интонацию. Интонация была оскорбительной.
– Да помилуйте – в мыслях не держал.
Михаил произнес зловеще:
– Я прошу у вас удовлетворения.
Дамы всполошились, стали убеждать мужчин прекратить их нелепую ссору, говорили, что поэт неправильно понял князя. Но тот настаивал:
– Я прошу у него удовлетворения. Или извинения.
Нина Александровна попросила с надрывом:
– Извинитесь, Дато, умоляю вас!
Князь тоже уперся.
– Да за что я должен извиняться? Никаких оскорблений не было. Он вообразил невесть что.
– Хорошо, пусть и не было, он вообразил. А вы извинитесь тем не менее. Чтобы не сделаться вторым Дантесом.
Лермонтов отреагировал.
– Отчего вы думаете, что он меня убьет? Может, я его?
– Этого еще не хватало! Мало было трагедий у нас в семье?
Екатерина присоединилась.
– Дато, в самом деле – что вам стоит принести извинения? Это моя личная просьба.
У Давида брови съехались на переносице и образовали складку, говорящую о крайнем неудовольствии.
– Если вы любите меня! – с вызовом сказала Като. – Если хотите счастья со мной!
Николай Бараташвили отвернулся и закрыл лицо руками: он дрожал, словно от озноба.
Помрачнев еще больше, князь проговорил:
– Хорошо, извольте.
Он поднялся.
– Михаил Юрьевич, я прошу меня извинить, если ненароком задел ваше самолюбие. Мне делить с вами нечего.
Лермонтов смягчился.
– Извинение принимается. Больше не сержусь.
– И пожмите друг другу руки, – предложила Майко.
– Совершенно верно: в знак примирения, – поддержала ее сестра.
После некоторой внутренней борьбы оба спорщика обменялись рукопожатием.
Все посидели какое-то время молча, чувствуя неловкость. Обстановку разрядила Като, взяв Давида под руку: «Мне необходимо сказать вам несколько слов…» Они ушли. Затем увела младшую Орбелиани Нина Александровна: «Майя, ты хотела посмотреть на мое рукоделие – с удовольствием покажу». – «Можно мне с вами?» – вызвался Бараташвили. «Разумеется, Николоз, пойдемте».
Лермонтов сидел напротив Майко. Понял, что оставили их нарочно. Он был взвинчен после ссоры, а теперь еще это испытание! Девушка, поняв его состояние, ласково сказала:
– Вы, оказывается, такой задира, Мишель.
Тот скривился.
– Он первый начал.
– Вот: типичные слова забияки.
– Никому не позволю надо мной глумиться.
– Разве было глумление? Вы действительно гений.
– И вы туда же?
– Все, молчу, молчу. – Сложенным веером она провела по его руке. И спросила вполголоса: – Вы читали мою записку?
– Да.
– Очень жаль.
У Михаила вытянулось лицо.
– Это отчего же?
– Оттого что была тогда крайне взволнована. А теперь спокойна. И могу сказать совершенно здраво: ни за князя, ни за вас замуж я не пойду.
– Вы его не любите?
– Конечно, нет. Мне его навязывают родные. Но для брака по расчету я не настолько стара.
– И меня не любите?
Девушка помедлила, опустив глаза.
– Вас люблю. – Снова помолчала. – Так по крайней мере мне кажется.
– Коли любите, почему замуж не хотите?
– Потому что вы этого не хотите. Зачем разыгрывать пошлую пиеску? Я навязываться не стану. И освобождаю вас от каких бы то ни было объяснений.
– Очень мило с вашей стороны. – Он поерзал на стуле. – Если честно, я и сам не знаю, чего хочу. Настроения у меня меняются, семь пятниц на неделе. То хочу стать художником, то поэтом. То продолжить карьеру военного, то уйти в отставку. То скакать на лошади, то пустить себе пулю в лоб! То хочу жениться, то остаться холостяком. Да, вы правы, что с таким сумасбродом, как я, вряд ли можно свить семейное гнездышко. – Он взял ее за руку. – Милая Майко! Вы такая чистая, светлая душой, образ ваш прекрасен. Питать вас несбыточными надеждами было бы преступно с моей стороны. Да, я не спорю: вы мне нравитесь. Очень, очень сильно. Но для брака пока не готов. Видно, на роду так написано. Господи, да вы плачете?
Девушка достала из рукава платочек, промокнула слезы.
– Нет, не смотрите на меня, это так – случайно. Мы отлично поняли друг друга. В словах ваших – только правда. То, что возникло тогда в Цинандали, мы напрасно приняли за серьезные чувства.
– Я вас никогда не забуду, Майко.
– Я вас тоже не забуду, Мишель.
– Я желаю вам найти свое счастье.
– Я вам того же, дорогой.
Появился хозяин дома – Александр Чавчавадзе. Улыбнувшись, спросил:
– Не скучаете, дети мои?
Майко покачала головой.
– Нет, разговариваем на разные темы.
– Предлагаю отметить мой выигрыш: князь и барон проиграли мне по двести рублей.
– О, прилично! Поздравляю вас, князь.
Вечер закончился долгим чаепитием. Лермонтов и радовался тому, что, согласно своей шутке, «от Орбелиани и подавно ушел», и грустил отчего-то. Может, оттого, что в который раз упустил свое счастье?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?