Текст книги "Язык и время"
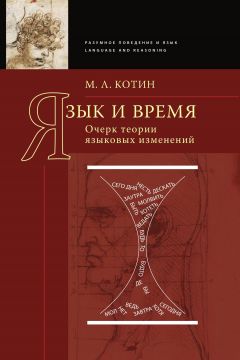
Автор книги: Михаил Котин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Ниже будет показано, что такой подход, несмотря на верность постановки общей задачи теории языкознания, неправомерно сужает сферу применения теоретических постулатов до логически устанавливаемых «порождающих схем». Простым доказательством неоправданности такого теоретического редукционизма является, в частности, наличие скрытых, подобно глубинным синтаксическим структурам, механизмов категоризации и правил номинации при возникновении и развитии языковых знаков на уровне словаря, в частности правил мотивации, демотивации и ремотивации, а также грамматикализации в результате так называемого реанализа (англ. re-analysis) – по своей сути метонимической процедуры, универсальной для всех языков (ср. Lehmann 1985; 2000, Hopper/Traugott 1993, Heine 1993, Heine/Kuteva 2002, Bybee 1985, Diewald 1997 и др.). Характерно, что эти механизмы в отличие от логических порождающих правил синтаксиса выходят за рамки синхронического исследования языка, и их установление возможно исключительно в исторической (диахронической) перспективе. К сожалению, для постсоссюровской структуралистически ориентированной лингвистики сама постановка вопроса о том, что хотя бы какая-то часть языка не поддаётся теоретическому осмыслению исключительно на синхронном уровне, является почти «еретической» в отношении существующей «синхронической догмы». Исторический аспект языка, согласно этому представлению, является объектом самостоятельного изучения, которое методологически и теоретически не пересекается с исследованием языка как системы знаков на данном «синхронном срезе». В «Курсе общей лингвистики», изданном учениками де Соссюра Балли и Сешэ на основе прослушанных ими лекций учёного в Женевском университете, когда самого Соссюра уже не было в живых, имеется очень короткая, но весьма характерная глава под названием «Возможна ли панхроническая точка зрения?», где поставленный в её заголовке вопрос получает однозначно отрицательный ответ. Невозможно, согласно этой логике, никакое совмещение синхронического и диахронического метода при изучении конкретных языковых феноменов, каждый из которых может исследоваться только либо синхронически, либо диахронически. Никакого интегрального решения данная дихотомия не предусматривает в отличие от описанной выше дихотомии языка (lаngue) и речи (parole), интегрированных в понятии языковой способности (langage).
Аргументированной и всесторонней критике данная дихотомия, вернее, её абсолютизация, подверглась в замечательном труде румынского языковеда Эугенио Косериу «Синхрония, диахрония и история» (ср. Coseriu 1958), где вводится категориальный (понятийный) интеграл, вполне соотносимый с langage в рассмотренной выше дихотомии иного уровня. Этим интегралом является понятие «история», которое в применении к языку совершенно справедливо считается центральным. История для языка, согласно Косериу, представляет собой интегральную, сущностную его характеристику. Язык – прежде всего исторический феномен, причём исторический фактор его бытования присущ как синхроническому, так и диахроническому измерению лингвистики. Это можно сравнить с человеческим организмом, изучаемым медиками и физиологами, каждый этап жизни которого является результатом прожитого до этого этапа времени. «Синхронное» состояние организма человека необходимо соотнести с этиологией, так как без этого оценить его в полной мере невозможно. Одновременно такая оценка позволяет не только верно поставить диагноз, но и с большей или меньшей степенью вероятности прогнозировать будущее развитие. Косериу определяет человеческий язык как накапливаемое индивидуумами и языковым сообществом в целом знание. При этом средством накопления лингвистического знания является коммуникация на данном языке. Фактор времени определяет историчность языка безотносительно к причинам тех или иных конкретных изменений, которые происходят в его звуковом составе, словоформах, лексических значениях и грамматических функциях языковых единиц и синтаксических конструкций, порядке слов в предложении и т. д. Время, в котором живёт язык, вернее, в котором живут, сменяя друг друга, поколения его носителей, является абсолютным фактором, обусловливающим его динамику и делающим неотвратимыми языковые изменения.
Приведём здесь несколько грубое и не вполне точное, но весьма иллюстративное сравнение. Смерть каждого конкретного человека вызвана теми или иными причинами, но даже если представить себе, что все причины естественной смерти, то есть все те заболевания, от которых умирают люди, будут когда-то устранены благодаря прогрессу в медицине, это не будет означать, что устранённым окажется сам феномен смерти как таковой. Учёные-физиологи и генетики говорят в этом случае о том, что, когда человек не будет больше умирать от болезней, он будет «умирать от смерти». Известны эксперименты, проводившиеся на мышах, которые были поделены на экспериментальную и контрольную группы. Контрольная группа жила без генно-инженерного вмешательства и поражалась обычными свойственными мышам болезнями, от которых каждая отдельная особь раньше или позже умирала. Вторая группа получала инъекции препаратов, максимально, в пределе практически до нуля, сокращавшие факторы риска любых заболеваний, в том числе генетически обусловленное старение организма. Мыши этой группы были несравненно активнее своих сверстников из контрольной группы, причём активность эта сохранялась в течение всей их жизни, которая, однако, хоть и длилась несколько дольше и не была отягощена болезнями и немощами, обусловленными старением, рано или поздно прекращалась. Можно сказать, что, несмотря на преклонный мышиный возраст, они умирали во цвете лет. Но – умирали. Бессмертие невозможно, пока присутствует фактор времени. Невозможна и неизменность: рождение, рост и умирание являются общей судьбой всего живого, что подвластно времени. Не всегда так быстро и заметно, но меняется также и неживая материя. Можно сказать поэтому, что изменчивость является абсолютным и непреложным маркером категории времени. Приведённый во Введении пример с вымышленным инсийским языком говорит о том же, только в отношении интересующего нас предмета – естественного человеческого языка.
Вернёмся теперь к вопросу о том, как лучше представлять себе язык – в качестве независимой от конкретных носителей автономной саморазвивающейся системы или в качестве привязанных к сменяющимся поколениям «идеальных носителей» мозговых файлов, содержащих весь объём лингвистической информации, передающейся mutatis mutandis от поколения к поколению. Если подходить к языку как к историческому феномену, оказывается, что это, в общем, безразлично. Важнейшим являются здесь два фактора: фактор развития, по необходимости включающий изменение, и фактор автономности, обусловливающий размещение исследуемого феномена в некоем «идеальном», а следовательно, меж– или надындивидуальном пространстве. Русский язык, например, является не языком какого-то конкретного его носителя, но языком живущего в наше время абстрактного индивидуума, владеющего им в полном объёме и получившего его в наследство от своих, столь же виртуальных, как он сам, предков. Такое представление о русском (как, естественно, и любом другом) языке не исключает, а, напротив, подразумевает его отождествление с автономной саморазвивающейся системой, то есть антропоцентрический подход к языку (при условии его перевода в необходимую для построения адекватной теории абстрактную плоскость) вполне конгениален подходу органическому.
Здесь, конечно, возникает большое число возражений, которые критики представленной выше концепции языка обычно считают достаточными для объявления её несостоятельной. Дело в том, что в действительности мы имеем дело с продуктами речевой деятельности (текстами большего или меньшего объёма), устными или письменными, которые привязаны к вполне конкретным авторам, являющимся носителями языка. Во второй половине ХХ в. в рамках появившейся тогда лингвистики текста как новой отрасли языкознания прозвучал призыв к «онтологизации» языкознания как науки a posteriori, единственным реальным предметом которой являются именно тексты как материальная форма реализованной речи (ср. Hartmann 1971: 15). В действительности, вместо «онтологизации», теория языка достигла здесь, при всех несомненных заслугах лингвистики текста, высочайшего уровня «деонтологизации» объекта исследования, поскольку любой текст является лишь продуктом реализованной языковой способности его эмитента и зависит от целого ряда факторов, не имеющих ни малейшего отношения к свойствам языка. Онтологическая «вторичность» конкретных текстов, в общем, не требует дополнительных объяснений. Вместе с тем понятно, что любая возможность хотя бы иллюзорной эмпирической фиксации объекта исследования для учёного оказывается зачастую приоритетной задачей. Определение языка как совокупности существующих на нём текстов имеет поэтому целый ряд преимуществ, выводя предмет языковедческого анализа из сферы спекулятивной теории в область эмпирически несомненных объектов. При этом формально отсутствуют препятствия для рассмотрения языка в качестве исторического феномена, правда, при условии наличия текстов, составленных в разные эпохи его развития.
Тем не менее «текстовый» подход к языку в смысле онтологизации естественного языка через тексты как материальное воплощение языкового кода приводит в конечном итоге к отказу от теории языка в том смысле, в котором мы вообще понимаем теорию любого явления, то есть начисто лишает язык (как совокупность текстов) того уровня абстракции, при котором возможно построение какой бы то ни было теории. Чтобы лингвистика могла претендовать на статус науки, необходимо, чтобы она имела не только «описательную», но прежде всего «объяснительную адекватность» (Хомский). Если мы не в состоянии предложить объяснения причин и механизмов бытования того или иного феномена и заведомо, на стадии определения данного феномена, ограничиваем возможность его изучения простым описанием и (или) классификацией его составных частей, мы nolens volens находимся на донаучной стадии его исследования. Безусловно, можно и на этой стадии провести весьма внушительную по объёму привлекаемого материала подготовительную работу, однако подлинные вопросы теории и после этой работы будут ждать своего решения.
Конечно, можно было бы преодолеть возникающую лакуну между конкретно и абстрактно понимаемым языком, занимаясь изучением не «языка вообще», а языка конкретных его носителей, воплощаемого в конкретных текстах, доведя их число до некоего критического порога, за которым можно было бы построить теорию языка на основе полученной «равнодействующей» индивидуальных языков. Подобный подход вполне реализуем, учитывая современные возможности информатики, позволяющие охватить миллиарды примеров из миллионов текстов, затем аннотировать полученный корпус соответствующим образом, после чего, применяя статистические методы анализа, предложить более или менее достоверную теорию каждого из изучаемых сегментов такого усреднённого языка. С другой стороны, используя методы экспериментальной нейролингвистики, можно изучить большое число носителей языка с точки зрения процессов, происходящих в головном мозге при порождении и (или) восприятии множества различных фраз, соотнося при этом информацию, получаемую на «входе», с регистрируемыми на «выходе» данными. Всё это действительно широко применяется в современной лингвистике, всё больше приобретающей междисциплинарный характер.
Вопрос, однако, состоит в том, какого рода теория может возникнуть в результате подобных подходов, даже если вообразить, что на определённом этапе исследований можно будет их каким-либо способом синтезировать и привести к некоему общему знаменателю. Первое, что сразу же бросается в глаза, – это невозможность получения таким образом адекватных результатов, касающихся языковых изменений, по крайней мере, в филогенезе. Онтогенез изучить здесь, правда, вполне реально, при условии непрерывного наблюдения за текстами, порождаемыми испытуемыми индивидами, в процессе приобретения и развития ими языковых знаний, то есть от первых слов и фраз до достаточно полного овладения языком. Источником же знаний о филогенезе могут служить исключительно тексты, созданные в разные исторические эпохи, однако в силу того, что древнейшие тексты, написанные на большинстве языков, сохранились лишь в незначительных фрагментах, сопоставить их с тем, что нам известно о современном состоянии языков, можно лишь в очень скромных объёмах. Конечно, здесь можно было бы воспользоваться уже упомянутым выше крайне редукционистским, хотя и по сути своей в известной степени приемлемым, тезисом Лайтфута о механическом переносе онтогенеза на филогенез и отказе от привлечения «музы Клио» для изучения причин и механизмов происходящих в языке изменений. Но одно дело проводить вполне оправданные параллели между индивидуальным и «видовым» развитием, и совсем другое вообще отказаться от второго в пользу первого как целиком его замещающего. Подобные редукции в теории всегда ведут к существенной рассогласованности в выводах и крайне неточным результатам, поскольку степень пересечения онтогенеза и филогенеза никогда не может считаться удовлетворительной для построения сколько-нибудь достоверной теории.
Итак, язык как объект научного исследования, в отношении которого возможно построение адекватной научной теории, должен быть определён как исторический (изменяющийся во времени) феномен, представляющий собой самодвижущуюся систему, локализованную в сознании его носителей и передаваемую в постоянно меняющемся и в то же время достаточно стабильном для обеспечения взаимопонимания носителей виде от поколения к поколению. Описание же языка, а главное, объяснение законов его бытования и развития, возможно лишь при его абстрагировании от конкретных носителей, то есть его понимании как некоей виртуальной системы, приписанной посредством необходимой процедуры абстрагирования сменяющимся поколениям абстрактных «идеальных носителей». Без ввода этой «лингвистической равнодействующей» любые попытки индивидуализации языкового сознания или сведения задач лингвистики к изучению корпуса текстов обречены на донаучный или околонаучный, квазитеоретический подход. Сказанное вовсе не следует понимать как требование абстрагироваться от анализа фиксируемых в корпусе текстов форм и структур. Понятно, что именно данные формы и структуры, являющиеся результатом речевой деятельности конкретных, а не абстрактных носителей языка, образуют материал любого лингвистического исследования. Однако необходимо видеть и иную, существенную с точки зрения лингвистической теории, плоскость, в которой совокупность анализируемых реальных манифестаций языка в виде текстов представляет собой лишь отправную точку для сведения воедино всех присущих данным формам и структурам общих черт, обусловливающих бытование языка и языковые изменения для языкового сообщества в целом. Именно об этом идёт речь, когда вводится понятие «идеального носителя» в синхронии и «идеальных носителей» в историческом плане.
Что такое время?
Язык как историческое явление par excellence целиком погружён во время. На это, в частности, обратил внимание выдающийся румынский языковед, исследователь истории языка и языковых изменений Эугенио Косериу (ср. Coseriu 1958). Казалось бы, это вполне тривиальное замечание. Действительно, как же ещё можно мыслить феномен, который динамичен по самой своей сути? Достаточно вспомнить, что в течение нескольких столетий лет язык меняется до неузнаваемости, так что мы уже не в состоянии понять текстов, написанных, скажем, в XV веке, если не обладаем специальными знаниями в области его истории. Изменение, развитие, как и возникновение и исчезновение (как в случае с мёртвыми языками) – всё это признаки феноменов, для которых время является сущностной доминантой, почему мы и не можем дать их адекватного определения, исключив временнýю отнесённость. Однако после того, как в языкознании в начале прошлого века произошёл «синхронический переворот» под влиянием трудов Фердинанда де Соссюра и его учеников, а также некоторых других представителей нового, структуралистского направления в лингвистике, роль времени в определении языка существенно изменилась. Конечно, ни Соссюр, ни его многочисленные последователи не отрицали принципиальной историчности языка. Однако они впервые, полемизируя с господствовавшими тогда взглядами так называемой младограмматической школы на язык как сугубо историческое явление, выдвинули тезис, что методологически вполне возможно рассматривать язык в данный момент его существования как статическую систему. Соссюр (Saussure 1916) противопоставляет «статическую» и «эволюционную» лингвистику как два принципиально различных подхода к языку, исключая при этом синтетическую, «панхроническую» точку зрения, которая позволила бы в какой-то мере примирить оба подхода, не отсекая язык от времени хотя бы онтологически. Впрочем, собственно онтологией языка структурализм интересовался мало. Косериу в принципе принимает соссюровское понимание дихотомии синхронического и диахронического описания языка, но лишь как методологическое решение. Что же касается природы языка, то он настаивает именно на его историчности как стержневом признаке, объединяющем динамизм в синхронии и диахронии. Данная проблема будет рассмотрена в разделах о языковых изменениях. Здесь лишь отметим, что после структурализма вновь заговорить о языке в его историческом измерении как онтологической доминанте вовсе не казалось тривиальным и остаётся весьма актуальным до сего дня.
Но что же такое время и как следует его понимать в отношении языка? В трактате «Тимей» Платон определяет время (χρόνος) как «движущееся подобие вечности». Такое понимание вполне укладывается в рамки платоновской картины мира, где понятийный мир, мир идей является мерилом и подлинной сутью вещей, тогда как мир осязаемых явлений есть лишь его бледная копия. Вечность неподвижна, но и недоступна восприятию, а воспринимаемый мир опосредован временем, движением, которое, не обладая «благородством неизменности», тем не менее содержит, пусть на первый взгляд и противоположное ей, грубое, но всё же реальное отнесение к вечности. Чтобы получить вечность в её идеальной форме, необходимо отсечь время, и тогда подобие станет сущностью, о которой оно сигнализирует в пространственно-временнóм, вещественном мире. Отсечение же времени в вещественном, материальном мире невозможно. Аристотель в «Физике» говорит о времени как «мере движения». Здесь акцент явно смещается в сторону собственно воспринимаемого мира. Время не столько уподобляется вечности, сколько само является мерой существования вещей в природе. Движение следует понимать при этом как любое изменение, а не просто как механическое перемещение в пространстве. Блаженный Августин развивает идею субъективного времени, то есть вычленяет из следующих друг за другом событий их восприятие душой человека, сознанием. В этой связи он вводит понятие distentio animi, то есть буквально «расширения, растяжения души». Имеется в виду, что время есть особая форма восприятия мира сознанием, способным делить его на отрезки, а именно настоящее, прошлое и будущее. Отрезки эти, согласно Августину, не равны друг другу по своей онтологической сути. Собственно неизменным, хотя и неуловимым, является лишь настоящее, из перспективы которого мы на что-то надеемся или чего-то боимся (будущее) или же о чём-то вспоминаем (прошлое). В Confessiones (Augustinus XX: XXVI) он пишет:
Неправильно говорить, что есть три времени: прошедшее, настоящее и будущее, но намного правильнее было бы сказать, что есть три времени: настоящее для (обозначения) прошлых событий, настоящее для (обозначения) настоящих событий, настоящее для (обозначения) будущих событий. Ибо в душе суть сии три вещи, и нигде больше я их не вижу. В настоящем мы вспоминаем прошлое, в настоящем переживаем настоящее, в настоящем ожидаем будущего (перевод с латинского мой. – М. К.)55
«Nec proprie dicitur: Tempora sunt tria, praeteritum, praesens et futurum; sed fortasse proprie diceretur: Tempora sunt tria, praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de futuris. Sunt enim haec in anima tria quaedam et alibi ea non video. Praesens de praeteritis memoria, praesens de praesentibus contuitus, praesens de futuris expectatio».
[Закрыть].
Интересно, что это понимание времени как категории сознания (или «души») Августином по своей онтологической сути согласуется с последними данными нейрофизиологии, согласно которым «память имеет ту же природу и “адрес” в мозгу, что и воображение, фантазии; если нарушен гиппокамп, то страдает не только сама память (то есть прошлое), но и способность представлять и описывать. Иными словами, память – “мать воображения”» (Черниговская 2013: 37–38). Историческое время блж. Августин понимает, однако, несколько иначе – как линейное явление, находящееся вне человеческой души, которому он, впрочем, не придаёт центрального значения.
«Объективное» понимание времени Аристотелем находит своё продолжение в системе Исаака Ньютона, вводящего понятие «абсолютного времени», которое равномерно течёт и не имеет начала и конца (cр. Knudson & Hjort 1995: 30). Данная концепция, наряду с ньютоновским понятием «абсолютного пространства» (ср. там же: 155), во многом лежит в основе современного «естественно-научного» понимания времени.
В противоположность Ньютону, Готфрид Лейбниц в понимании времени следует за блж. Августином. Для Лейбница время – не что иное, как способ созерцания предметов в монаде (ср. Weizsäcker 1989: 92–93), то есть относится к сфере сознания, а не бытия. Эту мысль доводит до логического завершения Иммануил Кант, полагавший, что время является априорной формой созерцания явлений (ср. Kant 1787/2016: 52–67). Время, по Канту, субъективно по самой своей природе, а потому любая попытка разума его объективировать приводит к возникновению неразрешимой антиномии между непрерывностью и дискретностью времени, которая имеет как генеалогическое измерение (существовало время всегда или оно когда-то возникло?), так и «практическое» (если время делится на бесконечно малые отрезки, то как возможно его течение, то есть как может «пройти» что-то, что делится на бесконечное число частей?). Эти глубинные противоречия свойственны, согласно Канту, сознанию, а не предмету его созерцания, поскольку сам этот предмет, или «вещь как таковая»66
Одно из центральных понятий, вводимых Кантом для определения непознаваемой разумом «ноуменальной» сферы (в отличие от явленной нам в опыте сферы «феноменальной»), – «das Ding an sich». Каноническим переводом этого термина на русский язык является, как известно, «вещь в себе». Однако данный перевод, на наш взгляд, не вполне адекватно отражает подлинное значение данного выражения. Кант имеет в виду не столько какую-то «вещь в себе», отдельно существующую и противопоставляемую познаваемым предметам, сколько «вещь саму по себе», не явленную, но сущностную, онтологически определяемую. Поэтому мы используем здесь перевод «вещь как таковая», что, как представляется, правильнее, в том числе с чисто грамматической точки зрения, учитывая значение предлога an в сочетании с местоимением sich, который в обычной речи (в отличие от in) переводится не как «в» (в себе), а как «по сути», «как таковой» и т. п., ср. das Problem an sich ‘проблема сама по себе, как таковая, собственно проблема’.
[Закрыть], не может быть антиномичен по определению. Мы не можем мыслить чего-то вне времени, но к такому способу мышления нас понуждает не объективно существующее вне нас время, а наше созерцание, априорно «привязанное» к категориям времени и пространства. Человек рождается с вложенной в него, существующей до всякого опыта, способностью мыслить предметы не иначе как во времени и пространстве, в силу чего вообще возможно их познание как явлений.
Кантовская трактовка времени отчасти преодолевается введённым квантовой физикой понятием «планковского времени», где постулируется существование мельчайшего, неделимого мгновения, или хронона, составляющего около 5,3·10–44 секунды (ср. Caldirola 1980). Допущение хронона решает проблему непрерывности и дискретности времени в пользу последней, по крайней мере, на уровне течения времени, хотя и не снимает её в генеалогическом смысле, то есть на уровне его возникновения.
Анри Бергсон (2001; 2012: 56–102) вводит понятие duréc, перевод которого на русский язык как ‘длительность’ подвергался критике (ср. Блауберг 2003: 624–625). Речь идёт о процессуальности, движении, воспринимаемом сознанием человека как неделимое целое предметной и временнóй сферы. При этом «длительность» (или «процессуальность», движение) не делится на моменты, но является непрерывным развитием, накоплением субстанции от прошлого к будущему. Весьма существенную сторону концепции Бергсона, позволившую ему говорить об относительности, субъективности времени, отмечает в своей книге Черниговская (2013: 50, 332–333):77
Единственное возражение вызывает здесь объединение концепций времени Ньютона и Канта, что означает, в частности, противопоставление кантовской теории времени взглядам Бергсона: «Что считать объективным, говоря о времени? У Ньютона и Канта время субстанционально, а значит, объективно, у Бергсона – субъективно, оно растягивается, сжимается, застывает» (ср. Черниговская 2013: 333). Понятно, что кантовская концепция не тождественна пониманию Бергсона в том смысле, что Кант не рассматривает время как изменчивую категорию, подверженную растяжению или сжатию в зависимости от работы индивидуального сознания, и в этом смысле кантовское время, наверное, можно считать «субстанциональным». Однако эта субстанциональность по своей сути всё равно несравненно ближе Бергсону, чем Ньютону (хотя сам Бергсон (2012: 68–69) отчасти пытается это оспорить), так как у последнего она понимается как вообще независимое от сознания человека, объективное свойство внешнего мира.
[Закрыть] сознание конструирует время, так сказать, «на свой лад», следствием чего являются так называемые временные иллюзии, когда длительность тех или иных событий воспринимается сознанием субъективно, часто смещённо по отношению к тому, что можно было бы считать «естественным течением времени», если бы ему было место в концепции Бергсона.
Мартин Хайдеггер в своём раннем труде «Бытие и время» (ср. Heidegger 1927/1967) пытается разработать онтологическую концепцию времени, относя его непосредственно к категории бытия. Эта концепция отличается от всех предыдущих представлений о сущности времени тем, что время предстаёт в ней не как объективная физическая категория и не как свойство сознания, обеспечивающее восприятие им бытия, а как основное условие самого бытия. При таком подходе время противостоит уже не вечности, а небытию. Здесь картина Платона, который проводит противопоставление по линии «вечность как неподвижность, неизменность и бессмертие» – «время как движение, изменение и исчезновение», в прямом смысле переворачивается. Исчезновение времени конгениально исчезновению сущего, ибо всё сущее может быть таковым лишь внутри времени.
Теория относительности Эйнштейна и развитие квантовой физики в известной степени сгладили противоречия между «объективистской» и «субъективистской» концепциями времени. Первая показала, что относительность времени является не столько субъективным, сколько именно объективным феноменом, поскольку зависит, в частности, от скорости передвижения объекта в пространстве. При скоростях, близких к скорости света, время замедляется. Популярная иллюстрация данного явления содержится в известном «парадоксе близнецов». Когда близнецам исполнилось 30 лет, один из них остался на Земле, а другой отправился в космический полёт на корабле, перемещавшемся в пространстве со скоростью, сопоставимой со скоростью света. Через три года он вернулся на Землю, где три года, прошедшие для него, соответствовали десяткам лет, и увидел, что его брату уже за 80. Впрочем, никакого преимущества от этого молодой путешественник не получил, поскольку субъективно для него прошло именно три года, а для его брата – более 50. Объективность времени здесь совершенно очевидна, поскольку, если в описании парадокса времени заменить близнецов, скажем, одинаковыми электрическими лампочками, то та из них, что улетит в космос со скоростью, близкой к скорости света, по возвращении на Землю будет гореть, а та, что останется на Земле, к тому времени давно перегорит. Да и физиологические параметры близнецов будут свидетельствовать об их возрасте совершенно независимо от их личных ощущений. Иными словами, получается картина, в известной мере противоположная бергсоновскому duréc. То, что мы привыкли считать критериями субъективности, прежде всего ощущение течения времени рефлектирующим субъектом, оказывается вторичным по сравнению с парадоксальным фактом, что время объективно может протекать неравномерно в разных системах.
Что касается квантовой физики, то она описывает процессы, которые, по словам выдающегося физика Льва Ландау, «можно объяснить, но невозможно себе представить». Это в полной мере относится и к категории времени. Оказывается, что в мире мельчайших частиц объекты ведут себя совершенно иначе, в том числе по отношению ко времени, чем в макромире. В частности, для них характерны иные соотношения между пространством и временем, а траектория движения одного и того же кванта может быть одновременно разнонаправленной, в результате чего он может оказаться в так называемой суперпозиции, то есть пребывать одновременно в разных точках. Правда, до сих пор нет объяснения того, как суперпозиция связана с позицией самого наблюдателя.
Все концепции времени, сколь далеко бы ни отстояли друг от друга лежащие в их основе представления, объединяет фактор необратимого изменения. Феномены окружающего мира проявляют свою временнýю отнесённость посредством происходящих в них и с ними изменений, и никак иначе. Поэтому и в отношении человеческого языка время играет определяющую роль не только в том смысле, что язык существует лишь во времени, но прежде всего в том смысле, что его бытие (читай, изменчивость) целиком производно от времени: одни его части меняются сравнительно быстро, другие несколько медленнее, третьи как будто вообще неподвижны, и их изменение можно наблюдать, лишь сопоставляя тексты разных эпох, между которыми лежат века. Помимо этого, временнáя отнесённость языка имеет существенное методологическое значение, касающееся его изучения, то есть предмета и метода лингвистической науки. Даже если полностью принять максиму Соссюра, что язык можно изучать либо как неподвижную систему (то есть безотносительно ко времени), либо как череду изменений (то есть только во времени), то ответ на вопрос, какой именно подход будет соответствовать сути языка, не вызывает сомнений. Конечно, чтобы изучать общение на данном языке, приходится абстрагироваться от его изменчивости, но это лишь искусственное «вырезание» относительно стабильного фрагмента его истории в методических целях. Язык по своей глубинной сути совершенно не похож на феномены, изучение которых без учёта фактора времени соответствует их онтологии. Скажем, физические законы или химические свойства веществ вневременны, хотя объекты, описываемые посредством физики или химии, меняются с течением времени. Формула воды была и остаётся неизменной. Вода при обычных условиях будет всегда закипать при температуре 100 °С и замерзать при температуре ниже нуля. Сколько бы мы ни подбрасывали камень вверх, он всегда упадёт вниз. Природа ветра остаётся неизменной независимо от того, когда именно он дует. Законы, управляющие этими и подобными им процессами, существуют помимо времени, а следовательно, временем при их изучении не только можно, но дóлжно пренебрегать. Совершенно иначе дело обстоит с такими феноменами, как, например, живые организмы или человеческие сообщества. Безусловно, их тоже можно рассматривать на каком-то временнóм срезе, абстрагируясь от их изменчивости. Но такое рассмотрение всегда оказывается неполным, ущербным. Представим себе для сравнения пациента, пришедшего к врачу. Может ли врач поставить ему диагноз, руководствуясь исключительно его нынешним состоянием? Очевидно, что может, особенно учитывая методы современной диагностики. Вместе с тем такое ограничение, делаемое сознательно, едва ли оправдано. Понятно, что история болезни чрезвычайно важна не только в диагностике заболеваний, но и в оценке прогноза болезни и назначении адекватного лечения. Ещё более адекватная картина будет у врача, если он будет знать, чем болели ближайшие и даже дальние родственники пациента, каковы генетически обусловленные особенности его организма, с кем он общался в последнее время. Подобные выводы, конечно, mutatis mutandis, применимы и к языку. При его изучении всегда существенна генетика, исторически обусловленные связи, контакты с другими языками, все происходившие изменения и их механизмы. Без этого совершенно невозможно понять природу языка, его сущность. Именно поэтому историческое изучение языка, природы, сути и механизмов происходящих в нём и с ним процессов, является необходимым условием правильного понимания того, как он сформировался и как живёт в своём настоящем виде, сегодня. История языка – это не одно из его измерений, а глубинная, сущностная природа. Язык, собственно, и есть история, то есть развитие, целиком зависящее от фактора времени и обусловленное им, как и жизнь поколений его носителей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































