Текст книги "Язык и время"
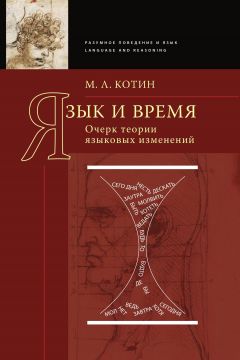
Автор книги: Михаил Котин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Совершенно иная картина возникает, однако, при допущении, что язык исконно, по своей первичной сущности, является эпифеноменом мыслительной деятельности, интерпретатором и переводчиком мира в сознании человека, а коммуникативная функция генеалогически производна от «первичной рефлексии». Тогда становится понятным, почему не только возможно, но просто необходимо предположить наличие онтологической границы между «языком» насекомых, птиц и животных – и языком человека. Такое понимание языка восходит к античности и обосновывается ещё Аристотелем (ср. Leiss 1998: 207). Язык понимается при этом не столько как инструмент выражения (Ausdruck) мысли, сколько как средство её формирования (Eindruck) (там же). Таким образом, идея Аристотеля, подхваченная и развитая Гаманном, а впоследствии детально разработанная сначала Гумбольдтом, а потом Кассирером и, наконец, сведённая к сущностному минимуму Хомским, состоит в первичности роли языка как «формообразователя мысли», а следовательно, как органа сознания, отвечающего за свойственную только человеку картину мира, существующую в его сознании. Коммуникативные потребности, даже самые сложные и многофакторные, могут существенно ускорить процессы, ведущие к возникновению и развитию языка, но по самой своей природе никак не могут быть их непосредственной причиной: «В случае с человеческими языками условия селекции не являются условиями коммуникации. Это условия, которые мозг диктует языковой деятельности» (Haider 2017: 24)2020
«Bei menschlichen Sprachen sind die Selektionsbedingungen nicht die Kommunikationsbedingungen. Es sind die Bedingungen, die das Hirn der Sprachverarbeitung diktiert» (перевод с немецкого мой. – М. К.).
[Закрыть]. Поэтому между способностью обмениваться информацией, почерпнутой из внешнего мира, и способностью присвоить себе эту информацию не в её, так сказать, «натуральном виде», а за счёт наличия в мозге абстрактного языкового модуля, соединяющего условное «имя» с условным «глаголом» (то есть того, что Хомский назвал «глубинной структурой»), лежит не просто огромное пространство, преодолеваемое долгим путём эволюции, но не преодолимая ничем пропасть: «[…] языки обладают в высшей степени сложными качествами, потому что [человеческий. – М. К.] мозг обладает особыми моделирующими способностями. Мозг обезьян этими способностями не обладает, а потому он не в состоянии освоить человеческий синтаксис» (Haider 2017: 12)2121
«[…] Sprachen deswegen über bestimmte hoch komplexe Eigenschaften verfügen können, weil das Hirn spezielle Berechnungskapazitäten dafür anbietet. Ein Affenhirn bietet sie nicht an und ist daher nicht in der Lage, menschliche Syntax zu bewältigen» (перевод с немецкого мой. – М. К.).
[Закрыть].
Хомский справедливо относит принципиально новое понимание языка человека в отличие от языка животных (а позднее – и языка самых сложных автоматических устройств) к философской системе Декарта и производной от неё первой картезианской грамматике Port Royal, написанной несколькими авторами-картезианцами в XVII в. в Париже. Именно Декарт, как подчёркивает Хомский, впервые показал, что ни у животных, ни у автоматов нет признаков интеллекта такого свойства, которое позволяло бы генерировать язык. Язык есть поэтому внутривидовая человеческая способность, причём такого рода, что даже во многих случаях тяжёлой патологии, радикально снижающей интеллект, сохраняется владение языком, не свойственное обезьянам, которые при этом могут превосходить человека со сниженным интеллектом в выполнении других операций мышления и адаптации к окружающей среде. Ни у животных, ни у самых сложных автоматов нет того типа мышления, которое обеспечило бы нормальное использование языка человеком (ср. Chomsky 1973: 25). Принимая данный тезис, Хомский последовательно отвергает противоречащие ему положения, из которых особое значение для формирования теории языка в прошлом веке имеют два: (1) бихевиористская идея, подразумевающая возможность построения теории языка на основе изучения корреляций между стимулом и реакцией, и (2) классическая эволюционистская теория, предполагающая постепенное развитие языка людей из языка животных путём накопления и усложнения «материала» в процессе адаптации к окружающей среде. Как первая, так и вторая гипотеза выводят язык человека непосредственно из семиотических коммуникационных систем животных и отрицают принципиальное, онтологическое отличие языка человека от «языков» прочих живых существ. Языковая компетенция, которой человек обладает с рождения и которая позволяет каждому из нас в той или иной форме и степени выучить по меньшей мере один естественный язык, является, согласно Хомскому, не количественным, а качественным параметром ментальных структур человеческого мозга, которые образуют не «больше того же самого», но качественно иные свойства мыслительной деятельности (ср. Chomsky 1973: 15). Человеческий язык как способность творческого соединения фраз и порождения новых смыслов из имеющегося материала, представляет собой поэтому совершенно уникальный когнитивный феномен. Понимание его природы – это не вопрос степени сложности ментальных процессов, а вопрос принципиально иного типа этой сложности (там же).
В связи с определением природы человеческого языка Хомский обращается к труду испанского врача и философа ХVI в. Хуана Уарте (1530–1588), который занимался, в частности, изучением способностей человека и животных (ср. Chomsky 1973: 22–24). Уарте вычленяет три уровня разума. Низшим из них является «обученный разум», опирающийся исключительно на чувственное восприятие и свойственный как высшим животным, так и человеку. Следующая ступень – «нормальный человеческий разум», выходящий за пределы эмпирически определяемых границ. Он обладает способностью генерирования принципов, на которых основано знание, «из самого себя», собственными силами, без внешнего воздействия, то есть не на основе действия механизма «стимул – реакция», из которого бихевиористы объясняют происхождение и развитие языка. Данный уровень разума позволяет формировать автономное знание путём генерирования нового знания из имеющегося материала. Подобное понятийное мышление, производящее новые мысли и формирующее новые формы их выражения, которых прежде не существовало, выходит далеко за пределы любого опыта и любых упражнений. Наконец, последняя, высшая ступень разума свойственна не всем людям, а, согласно Уарте, лишь самым выдающимся из них. Она состоит в том, что интеллект способен делать необычайно глубокие, парадоксальные, удивительные и при всём этом истинные умозаключения о вещах, которые никогда до этого не были наблюдаемы, о которых никто не слышал, не говорил, не писал и даже не думал. Этого уровня достигают гении, разум которых выходит за рамки нормального человеческого разума. Понятно, что при изучении языка нас будет интересовать прежде всего второй «уартовский» уровень разума по сравнению с первым. При этом мысль Хомского сводится к тому, что граница между первым и вторым уровнями ни в коем случае не может считаться проницаемой, прозрачной. Между ними лежит пропасть, не позволяющая искать источник «языкового модуля» на первом уровне «уартовского» разума. Главной чертой языкового модуля, характеризующего второй уровень «уартовского» разума, является при этом его «генерирующая способность» (ingenio) (ср. Chomsky 1973: 22).
Что представляет собой «языковой модуль»? В первоначальной версии Хомского, которая впоследствии неоднократно подвергалась переоценке из-за многочисленных критических замечаний с самых разных сторон, речь шла об абстрактном логическом модуле, соединяющем именную и глагольную фразу и не зависящем от её конкретного словесного наполнения. Этот модуль, согласно раннему Хомскому (конец 50-х – середина 60-х гг.), дан человеку от рождения, a priori, и реализуется впоследствии после сообщения ему реального инвентаря лексических единиц и их морфологических форм. Понятно, что подлинным предметом лингвистики оказывается при этом синтаксис, тогда как словарный состав, лексика – по определению вторичны и, строго говоря, относятся не собственно к области лингвистической теории, а к разным соседним с ней сферам, таким, как, скажем, прагматика, культура, социология и т. д. Семиотика в её традиционном понимании также должна исключаться из сферы приоритетного рассмотрения языка лингвистом. Впоследствии внутри генеративной парадигмы велась оживлённая дискуссия, причём обсуждались альтернативные версии генеративной модели, которые предлагали несколько иначе посмотреть на содержание и функции «языкового модуля» (в рамках так называемого модулярного когнитивизма) или совокупности ментальных и языковых взаимосвязей (в рамках так называемого холистического когнитивнизма, который уже вышел за грань собственно генеративных идей). Представители «генеративной семантики» (Джордж Лакофф, Джеймс Мак-Коули, Пол Постал и др.), практически немедленно отреагировавшие на теорию Хомского, выдвинули тезис о необходимости включить некие первичные логико-семантические структуры в теорию синтаксиса как первичные механизмы генерирования фразы посредством «предикатной логики» (ср., среди прочих, Lakoff 1972). Идея состояла в том, что традиционная генеративная грамматика недостаточно учитывает или вовсе не учитывает семантики при построении своей теории. Хотя сам Хомский отчасти признал правомерность этой критики, неустранимым остаётся возникающее здесь противоречие между его тезисом о вторичности знаковой (символической) кодификации понятий по сравнению с глубинной структурой фразы. Одно дело постулировать наличие «пустого модуля», данного от рождения и не зависящего от обучения, который соединяет потенциальное имя и потенциальный глагол в единую потенциальную синтагму, наполняемую всё более богатым лексическим «строительным материалом», осваиваемым человеком по мере приобретения новых знаний, и совсем другое – допустить наличие априорной способности к символизации феноменов внешнего мира на семиотическом уровне. Эта вторая, если она действительно существует, никак не может быть неким расширением языковой потенции, понимаемой абстрактно-синтаксически, а должна пониматься как первичный, иерархически высший модуль. Собственно, сторонники генеративной семантики в итоге пришли именно к такому заключению, что наиболее ярко проявилось в теории метафорической концептуализации, представленной, в частности, в известной концепции Джорджа Лакоффа и Марка Джонсона (ср., в частности, Lakoff/Johnson 1980). Во многом сходные выводы, выводящие, в частности, вопросы так называемого ментального лексикона далеко за рамки собственно семантики, содержат работы Рональда Леннекера, которые уже в конце 60-х гг. прошлого столетия (ср. Langacker 1968) содержат попытку создания первичной модели языкового мышления, основанной на постулировании неких «надъязыковых» концептуальных областей сознания. Наконец, Рэй Джекендофф (Jackendoff 2002), автор теории «интерфейсов», связывающих независимые генеративные системы – фонологию, синтаксис, лексикон и семантику, полагает, что первичной является именно семантика, которую он считает исконным генеративным компонентом, обусловившим возникновение и последующее развитие языка. Первая ступень языковой эволюции характеризуется поэтому созданием протолексем путём приписывания значения жестам и примитивным слогам акустической «речи». Грамматика здесь пока отсутствует, но уже есть первичные концепты в звуковой оболочке. Лишь позднее возникает протосинтаксис. «Такой подход, конечно, в гораздо большей мере, чем предшествующие, открывает путь к интеграции различных областей знаний для построения непротиворечивой теории» (Черниговская 2013: 39).
Задачей настоящей книги является, впрочем, не интеграция различных областей знания и создание некоей интегративной теории, а принципиальное разрешение проблемы возникновения и развития человеческого языка, и мы вовсе не уверены, что интегративная эволюционная модель может помочь в решении данной проблемы. Как мы видим из вышеизложенного, попытка наполнить первичную генеративную идею новым содержанием неизбежно привела к концепции, предполагающей отказ от первоначальнго подхода и к «соединению несоединимого» – обоснованию эволюционно-непрерывного взгляда на возникновение языка и сохранению генеративного подхода. Понятно, что для обоснования возникновения семантически и вообще «концептуально» определяемого феномена языка совершенно необязательно допущение внезапного, скачкообразного перехода от неязыкового индивида к языковой личности, поскольку используемые в коммуникации концепты всегда производны от феноменов внешнего мира и ими определены по своей первичной природе. Генерирование символов по своей сути, в свою очередь, имеет мало общего с генерированием абстрактных синтагм.
Есть ли выход из этого «теоретического тупика»? Чтобы ответить на этот вопрос, попытаемся вначале, насколько это возможно, его уточнить, то есть прояснить, о чём мы, собственно, спрашиваем. Можно ли в принципе отделить специфически языковой символизм от абстрактной грамматической оси, соединяющей имя и глагол во фразу? Ещё Вильгельм фон Гумбольдт дал на этот вопрос нисколько не устаревший до сего дня ответ: первое слово (или первые слова), по его мнению, было (были) одновременно первым высказыванием (ср. Trabant 1989: 519). При этом Гумбольдт, не отрицая того факта, что первые слова были составлены из простейших слогов, совершенно обоснованно заявляет, что примитивные языки, хотя и могут постулироваться, никогда не были зафиксированы историческим языкознанием. Не исключая возможности существования «доисторической фазы» в развитии языка, он тем не менее вполне резонно ставит под сомнение её решающую роль для объяснения возникновения реальных языков, поскольку язык, по его убеждению, изначально был в распоряжении человека в целостном виде и делает человека тем, что он есть. Язык, согласно Гумбольдту, не выдуман людьми, а «вложен» в них (ср. Humboldt 1903–1936 (4): 284–286). Один из известнейших исследователей концепции Гумбольдта Юрген Трабант (ср. Trabant 1989: 508) напоминает, что первоначальное название лекции Гумбольдта о происхождении человеческого языка, прочитанной им в 1820 году, содержало фразу «…как заложенного в человека непосредственно Богом»2222
«…als von Gott unmittelbar in den Menschen gelegt».
[Закрыть]. При этом речь вовсе не о «обучении» Богом человека языку (как полагал упоминавшийся выше Зюсмильх), а лишь о сообщении человеку языковой способности, развивающейся у отдельных людей и целых народов индивидуально и самостоятельно.
Абстрагируясь от «теологической» составляющей гипотезы Гумбольдта, можно видеть в ней по сути тот же стержень, что и у Хомского, а именно, во-первых, примат синтаксиса и, во-вторых, понимание языка как феномена, возникновение которого невозможно вывести из последовательной, непрерывной эволюции предшествующих семиотических систем. Хомский, как почти за полтораста веков до него Гумбольдт, констатировал онтологическую грань, пропасть между доязыковым состоянием и языком, преодоление которой возможно в силу какого-то одномоментного творческого акта, скачка, качественного изменения, по своей природе отличного от простого перехода количества в качество в результате постепенного накопления однородного материала. Именно в этом смысле следует понимать как высказывание Гумбольдта, что язык по своей природе – не что иное, как «интеллектуальный инстинкт разума» (intellektueller Instinkt der Vernunft) (ср. Trabant 1989: 513), так и его широко известное определение языка как «энергии» (в отличие от статически понимаемого «органа» или «орудия»).
Сопоставим теперь гипотезу о синтаксическом модуле как основе языковой компетенции (согласно Хомскому) и эволюционно-семиотический подход к языку. Возможно ли перебросить здесь теоретически приемлемый «мост», который помог бы конкретизировать «языковой модуль», не ставя под сомнение его исконной дискретности и необъяснимости посредством гипотезы о непрерывной преемственности приобретаемых в процессе общения знаний и навыков? Абстрактная синтагма, устанавливающая связь между именной и глагольной фразой, может, несомненно, получить более понятную и конкретную форму, если рассматривать её через призму сущностного отличия имени от глагола. Русский язык предоставляет для этого особенно благоприятные условия, поскольку позволяет увидеть это отличие непосредственно в структуре понятий, выражаемых словами бытие и событие. Бытийная, статическая сторона мира выражается именами, тогда как отношения между предметами и явлениями, их перемещение в пространстве и изменение во времени, то есть динамическая сторона, кодируются глаголами. Событие понимается, сверх того, как со-бытиé, то есть некая совокупность элементов бытия, а одновременно сопричастность бытию. Именная фраза служит при языковой интерпретации мира указанию на то, чтó есть, глагольная – на то, что с этим сущим происходит. Их сочленение является глубинным актом познания мира, а потому и глубинной структурой всех потенциальных высказываний. Все прочие языковые осмысления так или иначе производны от этой первичной оси, на которой располагается всё множество существующих и вообще всех возможных языков. Несомненно, что это разграничение двух основных категорий языкового мышления по определению предшествует прочим категоризациям, в частности, таким «тематическим ролям», как субъект – объект и т. п. в именной системе или внутри глагольной системы – действие, состояние, процесс и т. д.
На вершине семиотической пирамиды находится, таким образом, иерархически высшая категориальная оппозиция, которая в этом её виде «минимально семиотична» и конкретизируется по мере движения «сверху вниз», приобретая всё более отчётливые семантические контуры. Можно ли вообразить, что вся пирамида в целом генетически и хронологически строится снизу вверх, путём постепенного абстрагирования от образов конкретных предметов и действий до создания абстрактного синтаксического модуля, который можно назвать здесь «модулем Хомского»? Безусловно, можно. В этом случае получаем постепенное возникновение языка как итог последовательного абстрагирования исконно предельно конкретной коммуникации. Но если представить себе обратный процесс, а именно возникновение «модуля Хомского» в результате «ментального всплеска», заложившего прочную и неизменную основу для последующего развития базовой модели бытия в сознании путём накопления знаний каждым конкретным индивидом и целым языковым сообществом, то неизбежно придётся провести резкую грань между доязыковым и «языковым» состоянием и допустить, что языковая способность не является производной от способности коммуникативной, а, напротив, сама обусловливает эту последнюю. Тогда становится понятной и конгениальность такого проекта филогенеза языка его отногенезу, при котором в силу онтологических причин утрачивается возможность установления момента перехода ребёнка от доязыкового к языковому этапу жизни. Данный переход в известной мере повторяет упомянутый ментальный всплеск, с тем отличием, что условия для него заранее созданы благодаря наследуемой языковой способности, существующей в форме предрасположенности к членению мира в сознании на бытийную и событийную составляющие, то есть на именную и глагольную часть потенциального высказывания. Звуковое и понятийно-семантическое наполнение данного врождённого модуля – это уже вторичное приобретение знаний, находящихся на границе языка и внеязыковых, социально и культурно обусловленных феноменов, по самой своей природе находящихся за пределом врождённых способностей человека и приобретаемых им с опытом, в процессе накопления социально обусловленной информации. Поэтому новорождённый ребёнок теоретически может и не реализовать свою потеннциально данную, врождённую языковую компетенцию, но причины её нереализованности будут всегда внешними по отношению к врождённому «модулю Хомского». Зато наличие данного модуля обеспечивает практически неограниченные возможности освоения человеком в будущем как одного языка, так и большого числа других языков, а в рамках одного языка, – освоения самых разных его вариантов и версий (диалектов, койне, жаргонов, литературного стандарта, специальных языков – науки, техники, права, медицины и т. д.). При этом многообразие языков, способное завораживать исследователя, склоняя его к отказу от всяких попыток универсального мышления о языке вообще, в духе картезианской «философской грамматики», не должно затемнять факта их принципиальной общности в построении правил порождения фраз. В. Н. Ярцева (1968а: 72) очень точно замечает в этой связи, что:
[…] в естественном языке есть данные для формализованного описания смысловых единиц и связей между ними. Множественность языков мира не противоречит этому утверждению, так как сквозь их кажущееся бесконечным разнообразие проступает общая модель.
Другими словами, ещё более определённо и «радикально», то же самое говорит Хомский:2323
«[…] die Theorien der philosophischen Grammatik nehmen an, daß die Sprachen sich nur sehr wenig unterscheiden – trotz beachtlicher Verschiedenheiten in ihrer Oberflächenrealisation —, sobald wir ihre tieferen Strukturen aufdecken und ihre Grundmechanismen und -prinzipien bloßlegen» (Chomsky 1973: 126) [перевод с немецкого, по немецкому изданию, мой. – М. К.].
[Закрыть]
[…] теории философской грамматики и новейшие разработки этих теорий полагают, что языки отличаются друг от друга очень незначительно, несмотря на существенные различия в их поверхностной реализации, – стóит лишь выявить их глубинные структуры и раскрыть лежащие в их основе механизмы и принципы.
Возвращаясь к вопросу о соотношении онтогенеза и филогенеза при рассмотрении проблем, связанных с генеалогией языка, отметим, что возникновение «модуля Хомского» в мозге homo sapiens столь же неуловимо и неустановимо на временнóй оси, как и момент активации этого врождённого модуля у ребёнка, причём причины обоих этих фактов в целом вполне соотносимы. Онтогенез, впрочем, не копирует здесь филогенеза, а проявляется в ином измерении, что совершенно понятно. «Мы знаем, что младенец, рождённый сейчас, генетически мало отличается от рождённого в начале нашей биологической истории» (Черниговская 2013: 339). В отношении языка это означает, что возникший когда-то врождённый языковой модуль не претерпел с тех пор кардинальных изменений, а младенец, рождённый сто тысяч лет назад, если бы его можно было перенести в сегодняшнее время, вполне мог бы в совершенстве изучить, скажем, современный русский язык. Однако модуль или языковой алгоритм является по своей природе лишь условием, абстрактной способностью построения фразы, и его реальное наполнение целиком погружено во временную ординату, а следовательно, изменчиво. Можно принять утверждение, что неизменность языка как потенциала от момента его возникновения, как способности соединения символической кодификации бытийной и со-бытийной сферы рефлексии, сохраняется лишь в самом общем виде, тогда как его изменчивость на временнóй оси проявляется в том, что конкретные формы реализации данного базового алгоритма по своей природе динамичны и изменчивы.
Зададимся теперь иным вопросом, который в языкознании с давних пор является дискуссионным: каким образом возникает множество языков? Возможных решений здесь два, и оба они должны рассматриваться практически в отрыве от онтогенеза и во многом ограничиваться сферой филогенеза, что усложняет исследовательскую задачу и ослабляет убедительность доводов, добываемых не из двух источников, как обычно (онтогенез и филогенез), а только из одного (филогенез). Первое решение предполагает моногенез, то есть возводит все существующие и мёртвые языки к одному источнику, протоязыку, на котором говорили самые первые люди, обретшие тем или иным образом языковую способность. В этом случае следует выдвинуть гипотезу, где именно (географически) возник протоязык и определить хотя бы приближённо, гипотетически его разделение на диалекты, формирование на их основе новых языков, распространение этих языков, их дальнейшее деление, процессы дифференциации и вторичной интеграции в результате языковых контактов и т. д. Но в целом модель происхождения языка и языков логически должна быть центробежной. Второе решение полицентрично, оно предполагает наличие одновременно или разновременно нескольких географических центров, где независимо друг от друга возникают разные протоязыки, которые в дальнейшем делятся на диалекты, в свою очередь, взаимодействущие между собой и между диалектами, приходящими вместе с их носителями из других автономных центров возникновения протоязыков, в результате чего формируются новые языковые общности. Это модель полигенеза, она тоже центробежна, но имеет в виду исконное наличие нескольких центров.
В настоящее время более распространена идея языкового моногенеза: согласно данной концепции, «семиотический рубикон» впервые был перейдён около 150 тысяч лет назад представителями homo sаpiens, населявшими саванны Северной Африки (ср. Барулин 2007; 2012). Эта концепция хорошо согласуется с теорией грамматического взрыва, тогда как полигенез по логике построения своей центральной гипотезы скорее ставит под сомнение взрыв, который должен был бы произойти одновременно в разных местах земного шара, населённых существами, у которых в принципе мог бы возникнуть язык. Помимо этого, полигенез в принципе отодвигает возникновение языка на несколько сотен тысяч лет (ср. Черниговская 2013: 78), что сегодня в принципе принимается как один из вполне вероятных сценариев, хотя прямо вытекающий отсюда полигенез тем не менее остаётся менее распространённой концепцией.
В целом обсуждаемые в этом кратком очерке проблемы происхождения языка могут получить лишь крайне ограниченное решение, если вообще здесь уместно говорить о решении вопроса, сама постановка которого, как было показано выше, может быть только парадоксальной. Реконструкция состояния сознания, предшествующего появлению качественно нового состояния, невозможна из перспективы лишь этого нового состояния, поскольку здесь мы вынуждены пользоваться готовыми формами (алгоритмами) для объяснения возникновения данных алгоритмов. Это можно сравнить с человеческой памятью. Сколь далеко бы ни продвинулась наука в объяснении механизмов памяти и её типов, мы не можем объяснить, а тем более представить себе момента её возникновения. Человек помнит себя и события окружавшего его в прошлом мира, во-первых, лишь с определённого возраста и, во-вторых, всегда лишь фрагментарно и далеко не всегда адекватно. В какой-то момент развития мозга в нём происходит «нечто», что в течение последующей жизни человека позволяет его сознанию обращаться в прошлое. Этот момент невозможно зафиксировать по простой причине – для этого нужно было бы воспользоваться памятью, которой перед этим просто не было. Приблизительно то же самое происходит и с нашим языком, который мы получаем от рождения как некую потенцию, раскрывающуюся лишь начиная с определённого возраста, причём раскрывающуюся сразу же в полном объёме, если говорить о глубинном языковом алгоритме, но на поверxностном уровне постепенно нарастающую, если иметь в виду накопление объёма языковых знаний. Нет никаких оснований полагать, что онтогенез здесь абсолютно несопоставим с филогенезом. Гораздо вероятнее, наоборот, предположить, что возникновение языкового алгоритма у homo sapiens подчиняется, в общем, сходным законам, что и его проявление у каждого индивидуума. Однако сказать о происхождении языка что-либо большее едва ли возможно. В этом смысле верно замечание российского философа В. В. Бибихина (2015: 131): «Всечеловеческий язык ускользает от исследовательской хватки. Он слишком близок к нам, чтобы мы сумели его заметить». Здесь необходимо более детально и с разных точек зрения рассмотреть вопрос о языке как феномене, «близость» которого размывает оптику исследователя. Данная проблема поднималась в трудах самых разных учёных и философов.
Психолог Вольфганг Кёлер (Köhler 1940) обратил внимание на то, что психологи в отличие от учёных-«естественников» не могут открывать абсолютно новых областей, поскольку уже в начале их работы не существует совершенно неизвестных ментальных фактов, которые они могли бы открыть. Возможно лишь раскрытие, теоретически адекватное описание того, что на интуитивном уровне известно каждому человеку, пользующемуся своим разумом. Хомский (Chomsky 1973: 41) справедливо замечает, что, например, элементарные открытия классической физики вначале нередко вызывали эффект шока, поскольку, скажем, эллиптическая траектория полёта физических тел или гравитационная постоянная недоступны человеческой интуиции. В отличие от этих явлений «ментальные факты», феномены нашего сознания, которые по своей природе лежат ещё глубже фактов физических, тем не менее не могут быть «открыты» психологом, потому что они являются предметом интуитивного знания и воспринимаются в момент их выявления как нечто само собой разумеющееся.
Людвиг Виттгенштейн (Wittgenstein 1953: § 129) пишет в связи с этой и подобными проблемами: «Важнейшие для нас аспекты вещей в силу их простоты и повседневности скрыты. (Мы не замечаем этого, поскольку это находится у нас перед глазами)»2424
«Die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihre Einfachheit und Alltäglichkeit verborgen. (Man kann es nicht bemerken, – weil man es immer vor Augen hat)» (перевод с немецкого мой. – М. К.).
[Закрыть].
То, что в случае изучения сознания или языка мы максимально приближаемся к объекту, даже вовлечены в него, не только исключает свойственную естественным наукам эвристичность мышления, проистекающую из принципиального различия между познающим субъектом и познаваемым объектом, но и, с другой стороны, налагает существенные ограничения на наши познавательные возможности, о чём уже говорилось выше в связи с концепцией сознания, представленной, в частности, в трудах М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского. Поэтому мы пользуемся самыми различными инструментами, позволяющими нам «отстранить» от себя объект нашего изучения. Подобные механизмы, впрочем, свойственны не только научному, но и обиходному сознанию, повседневной практике или, скажем, литературному творчеству. Так, российский литературовед Виктор Шкловский определял одну из функций поэзии как средство «остранения» описываемого объекта, на что в своей книге о русском формализме обращает внимание В. Эрлих (Erlich 1965: 150–151). Люди, живущие у моря, настолько привыкли к шуму волн, что его уже не слышат. Подобно этому мы едва прислушиваемся к собственной речи. Постоянно видя друг друга, мы друг друга не замечаем. Поэтому, по мысли Шкловского, целью поэта является вернуть изображаемое в сферу нашего восприятия. В качестве примера Шкловский приводит рассказ Льва Толстого «Холстомер», в котором общественные установления и привычки остраняются посредством их изображения из перспективы рассказчика, являющегося лошадью.
С известными оговорками можно принять, что лингвист, если он желает «успешно» анализировать языковые способности на основе продуктов человеческой речи, имеющихся в его распоряжении, должен так или иначе пользоваться сравнимой техникой остранения, которая, впрочем, всегда ограничена в силу того, что предмет его анализа (язык) постоянно пересекается с однородным ему инструментом анализа (языком). Приходится поэтому постоянно изобретать специальные приёмы и прибегать к специальным средствам, позволяющим остранить предмет исследования, среди которых важнейшим является, безусловно, широко понимаемый метаязык. Но и здесь языковеда подстерегает опасность использования понятийного аппарата, который в силу сопоставимости с нетерминологическими значениями его научных сигналов всегда неточен или неполон.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































