Текст книги "Язык и время"
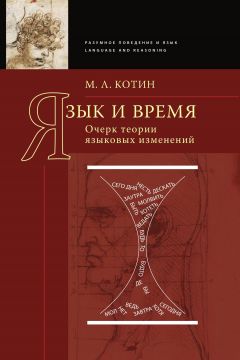
Автор книги: Михаил Котин
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Теории непрерывности исходят из постулата, что сложность всех известных нам древних и новых языков исключает гипотезу их внезапного возникновения ex nihilo. Гораздо логичнее представить себе существование неких доязыковых систем коммуникации, которые были присущи человекообразным приматам и являются источником языка людей, возникающего в результате их постепенной, поэтапной эволюции, постоянно усложняясь и адаптируясь к новым, более сложным условиям и потребностям коммуникации развивающихся представителей homo sapiens. Н. Хомский (Chomsky 1996: 30) резонно возражает, что в случае языка мы имеем дело с феноменом, который невозможно объяснить, пользуясь стандартной эволюционной моделью, поскольку естественные человеческие языки никак не выводимы из реконструируемых доязыковых состояний, ибо отличаются от них не количественно, а по самой сути языковой способности человека, языкового модуля его мозга, который должен был возникнуть в результате некоего одномоментного эволюционного скачка (если мы вообще хотим при объяснении языка оставаться в рамках теории эволюции), происшедшего, по мнению Хомского, около ста тысяч лет назад. При этом, согласно Хомскому (ibidem), языковая способность возникает в мозге человека не просто скачкообразно, но и сразу же в совершенном или почти совершенном виде. Сам Хомский пытается доказать, что его теория не противоречит дарвиновской модели эволюции (ср. Chomsky 2004; 2005), поскольку эта последняя вовсе не исключает возможностей одномоментных качественных скачков в развитии видов. В частности, Хомский предлагает применять в отношении языка стохастически (вероятностно) обусловленный подход к эволюционной модели, который, по его утверждению, вполне совместим с принципом эволюционизма. Так ли это, сказать трудно, и во всяком случае данная постановка вопроса выходит за рамки настоящей книги. Сомнительность подобного совмещения, на наш взгляд, имеет весьма серьёзную онтологическую подоплёку. Дело в том, что вероятностное обоснование возникновения и развития живых организмов от амёбы до человека возможно только post factum их действительного существования. Без известной «подгонки под результат» подобные обоснования едва ли возможны, поскольку правдоподобие возникновения жизни, особенно с учётом разнообразия её форм, «чисто» статистически едва ли вообразимо. Мы входим здесь в область, где дискуссия всегда явно обременена, так сказать, «идеологически», поскольку теория Дарвина в научном сообществе и сегодня считается настолько непререкаемой, что даже такой авторитет, как Хомский, явно чтобы избежать упрёков в антидарвинизме, вынужден говорить о приемлемости «стохастического» дарвинизма при объяснении, в общем, необъяснимого – возникновения языковой способности фактически «на пустом месте», из ничего. Поэтому откажемся от дальнейших спекуляций по поводу совместимости дискретной теории возникновения языка и эволюционной биологии, сославшись ещё раз на приведённые выше слова М. К. Мамардашвили и А. А. Пятигорского, что в отношении языка «генетически предшествующее начальное условие исчезло и не восстановимо» (Мамардашвили/Пятигорский 2011: 26). Совмещая постулат Хомского о существовании языковой способности a priori, от рождения, с необходимым ограничением познавательной претензии в отношении возникновения языка, сформулированным Мамардашили и Пятигорским на основании того, что здесь наше сознание вынуждено оперировать категориями собственного бытия, приходим к выводу, что вопрос о происхождении языка в его обычной постановке не имеет ответа.
Что же касается альтернативных теорий, постулирующих развитие языка под влиянием социальной эволюции от коммуникативных сигналов приматов до современных языковых систем, то здесь спор идёт о совершенно других вопросах. В частности, теория «невидимой руки» в языке, предложенная Руди Келлером (ср. Keller 1994/32003; Келлер 1997), рассматривает язык как феномен «третьего рода» (наряду с природными явлениями и артефактами), возникающий в результате незапланированной деятельности больших групп людей. Язык как объект анализа здесь предельно инструментализирован. Он представляет собой средство общения, используемое членами коммуникативного сообщества, каждый из которых преследует собственные цели, однако их достижение возможно лишь через общение с другими. При целеполагании индивидуума язык занимает вполне определённую нишу: он необходим человеку для того, чтобы убедить других членов коллектива, говорящих на одном с ним языке, действовать в его интересах. Это позволяет ему оптимальным способом добиться поставленной задачи, которая, при всём разнообразии её конкретных проявлений, в целом сводится к достижению широко понимаемого социального успеха. Успех этот в обществе зависит прежде всего от двух вещей – приемлемости языкового поведения личности для общества и способности личности посредством языка убедить членов коллектива в оригинальности собственного подхода к разрешению той или иной задачи. Отсюда два антиномичных принципа коммуникации – «говори, как другие» (чтобы тебя поняли и не отторгли) и «говори иначе, чем большинство» (чтобы твои слова бросались в глаза и воспринимались как оригинальное, свежее, новое мнение). При оптимальном сочетании этих противоположных принципов общения посредством языка говорящий на нём человек может обеспечить успешное продвижение по общественной лестнице. Более того, видя, что ему это удаётся, другие члены общества будут стараться подражать ему, в силу чего вырабатываются новые нормы общения, меняется язык, а одновременно возникает запрос на новых смельчаков, ради достижения социального успеха готовых снова ломать привычные нормы языкового общения. Таким образом, язык меняется незаметно для его носителей, как бы по мановению «невидимой руки», сравнимой, скажем, с известной в экономике невидимой рукой рынка и другими сходными явлениями. Никому и в голову не приходит сознательно менять язык, язык меняется людьми спонтанно, в силу того, что именно изменение формы выражения мысли наилучшим образом способствует успешному функционированию «языковых личностей» в обществе.
Как с помощью такого подхода к языку можно объяснить его происхождение? По мысли Келлера, первое, что нужно для этого сделать, – отказаться от любых попыток натурфилософского объяснения языка, от его органической модели. Если язык – лишь инструмент для достижения индивидуумом своих целей в обществе, то и его возникновение должно быть результатом инструментальной функции. Во-вторых, необходимо определить сами цели коммуникации. Какой, скажем, могла быть цель человекообразной обезьяны в стаде? Вероятнее всего, доступ к самым лакомым кускам полученной в ходе совместной охоты добычи. Здесь Келлер полемизирует с теорией, согласно которой язык возникает для наиболее эффективного ведения племенем охоты. Действительно, для этой цели язык вряд ли обязателен, а главное, он едва ли мог бы развиваться и совершенствоваться, выполняй он лишь данную задачу. Скорее всего некий архетип языка создала самая слабая и трусливая человекообразная обезьяна, которой доставались лишь жалкие крохи от трапезы более сильных и смелых сородичей. Дни и месяцы изнуряющего голода и унижения привели, наконец, к тому, что она заметила закономерность между криком членов стада, предупреждающим об опасности, и тем фактом, что, когда все разбегаются в середине трапезы, на земле остаётся изрядный кусок недоеденной добычи. И бедный, голодный Карлхайнц (этим немецким именем немецкий учёный Келлер называет своего героя) может спокойно пообедать. Таким образом, сигнал опасности получает переосмысление. Когда же вождь племени замечает обман, он начинает пользоваться этим сигналом, чтобы отгонять от пищи своих сородичей. Так возникает первый собственно языковой знак (ср. Келлер 1997: 54–70).
Келлер настаивает на том, что объяснение происхождения явлений «третьего рода», к которым он безраздельно и безо всяких оговорок относит человеческий язык, возможно именно таким образом – с помощью некоей «предполагаемой истории», похожей на сказку, но в отличие от сказки не содержащей никакого чуда и вообще ничего, что не могло бы произойти естественным путём. Современные люди, бесспорно, ставят перед собой цели несравненно более сложные, чем человеко-обезьяна Карлхайнц, однако основной механизм достижения этих целей в процессе коммуникации, согласно теории Келлера, остаётся по сути неизменным. Келлер намеренно подчёркивает отсутствие каких бы то ни было «положительных» или «отрицательных» мотивов в сочинённой им истории, он лишь утверждает, что эта история «правдоподобна» и не противоречит принятой им логике объяснения. То, что кому-то такая реконструкция праязыка может показаться слишком грубой и не соответствующей нашим представлениям о морали и вообще о том, что хорошо и что плохо, для Келлера не является аргументом. Более того, он неоднократно указывает на то, что целый ряд вещей, играющих в социуме весьма продуктивную роль, которые принято оценивать положительно, возникли вовсе не благодаря неким добрым намерениям его членов, а либо случайно, либо как результат качеств или действий его членов, которые сегодня принято считать негативными.
Но нас интересует здесь вовсе не проблема обоснованности нравственного или иного релятивизма при объяснении возникновения языка, тем более, что и так называемые положительные реконструкции мало чем разнятся от модели Келлера по своим главным параметрам. Выше уже упоминалась гипотеза, что язык возникает как вспомогательное средство оптимальной организации охоты членами стада человекообразных приматов. Иб Ульбэк (ср. Ulbæk 1998: 40–41) утверждает, что язык возник как средство коммуникации, которую он определяет как обмен информацией в условиях повышенного взаимного альтруизма членов первобытных коммуникационных сообществ. Иными словами, язык возникает лишь там и тогда, где и когда действует сформулированный ещё Дарвиным принцип обязательного для выживания данной популяции взаимного альтруизма. Лингвистическая составляющая данного принципа сводится к максиме коммуникации, определяемой как взаимное обязательство обмениваться правдивой информацией. Итак, мы видим, что Келлер выводит язык из прямо противоположной Ульбэку гипотезы, но при этом оба говорят о коммуникативной функции языка как главной движущей силе языковой эволюции и самого возникновения языка.
Здесь едва ли возможно хотя бы вкратце описать все существующие гипотезы происхождения языка, и это не является целью настоящей книги. Сопоставляя приведённые выше модели, мы преследовали цель показать, что при инструментализации языка его генеалогия неизбежно сводится к минимальному набору факторов, способствующих, по мнению сторонников данной концепции, возникновению естественных языков. Их задача поэтому несравнимо проще попытки объяснить язык, так сказать, «из самого себя», оперируя категориями человеческого сознания. Возвращаясь к концепции языка Хомского, обратим внимание читателя на одно весьма показательное для рассматриваемой здесь дискуссии обстоятельство. Несмотря на то что сам Хомский, как уже упоминалось, пытается совместить свою теорию с эволюционной биологией, сторонники классической эволюционной теории, предполагающей, в частности, непрерывность в эволюции средств коммуникации от «языка» приматов до языка человека, уверенно относят его к числу антиэволюционистов, упрекая в том, что он является одним из немногих исследователей, кто поставил под сомнение дарвиновское объяснение возникновения языка (ср. Ulbæk 1998: 30)1414
«Chomsky has been one of the few to question a Darwinian explanation of language: ‘Darwinian theory is so loose it can incorporate everything’, he claimed recently» (Ulbæk 1998: 30).
[Закрыть]. Дело в том, что эволюционная теория, включая теорию развития языка, по самой своей сути с крайним подозрением относится к любым попыткам объяснить явление с помощью дискретных, «прерывистых» моделей, видя в этом косвенное признание некоего «постороннего вмешательства» в естественный ход вещей. Цитируемый здесь сторонник эволюционно-инструменталистской концепции возникновения языка Ульбэк говорит поэтому о предположительно, якобы эволюционных моделях возникновения языка применительно к дискретному объяснению. Весьма показательно его деление всех концепций языкового генезиса на основе двух пар антагонистических критериев – врождённой способности/приобретённой способности в результате обучения и непрерывности/ дискретности (ср. Ulbæk 1998: 31):

8 По словам самого Ульбэка, «бихевиоризм» взят им в кавычки, поскольку сегодня уже не существует «бихевиористов», так сказать, «в чистом виде». Речь идёт лишь о некоторых чертах исконно бихевиористического подхода к проблеме происхождения языка (ср. Ulbæk 1998: 31).
Как видно из приведённой выше теории «невидимой руки» Руди Келлера, данная таблица не исчерпывает всего множества подходов к проблеме происхождения языка. Вполне возможно также объяснение, нейтрализующее оппозиции «врождённость – приобретённость» и «непрерывность – дискретность». Человекообразная обезьяна Карлхайнц не обучается языку, а, не желая того, создаёт его в процессе реализации своих целей в сообществе своих сородичей, а само возникновение языка при этом одновременно непрерывно и дискретно.
Нет необходимости дополнительно обосновывать точку зрения, наиболее близкую автору предлагаемой книги. Она уверенно размещается в правой верхней рубрике таблицы Ульбэка, с важной оговоркой, что сущность языка как врождённой, дискретно возникшей способности человека не поддаётся дальнейшему раскрытию по самому определению языка как свойства сознания, с которым должно «работать» само это сознание. Дискретность языковой способности является ускользающим от регистрации сознанием человека качественным скачком, неким одномоментным всплеском сферы сознания, который проводит резкую грань между человеком и прочими живыми существами, создаёт языковой модуль в мозге, передающийся затем по наследству как потенция, реализация которой в онтогенезе столь же неуловима, как и в филогенезе.
Очевидно, что чрезмерная инструментализация языка крайне упрощает проблему его происхождения, сводя её к поискам внешних причин. Выше мы уже приводили в этой связи замечание Э. Лайсс (ср. Leiss 1998: 204–205), что инструменты вообще малоинтересны в плане их генезиса, так как создаются для выполнения заведомо известной функции. Если, например, для Хомского язык является эпифеноменом мыслительной способности человека (ср. von Stechow 1993: 7), то для сторонников коммуникативных теорий язык – это эпифеномен его коммуникативной способности (ср. Hartmann 1971: 15–17, Weinrich 1964/41985: 8–9, Heinemann/Heinemann 2002: 243–244). Изучение мыслительных процессов неизбежно ведёт к парадоксам сознания, описанным выше: человек пытается установить те переходные моменты, когда сознание, обретая язык, становится вполне человеческим. Попытки зафиксировать, научно описать эти скачки сознания сравнимы с попытками установить точный момент перехода человека из состояния бодрствования в состояние сна, предпринимаемыми самим засыпающим. В то же время инструменализация языка в коммуникативной сфере, снимая практически неразрешимые проблемы его происхождения, не ставит ни одного вопроса, хотя бы косвенно связанного с его подлинной онтологией и производной от неё генеалогией.
Сторонники теории возникновения языка как инструмента общения исходят из постулата, что коммуникативная функция всегда была и остаётся не просто главной и первичной, но в каком-то смысле едва ли не единственной его функцией; все же прочие функции языка являются так или иначе производными от коммуникативной. Если, руководствуясь этим представлением, рассматривать язык как человеческое изобретение, получается, что людьми был создана универсальная система для общения между собой, что-то вроде азбуки Морзе. Размышлять о тайнах происхождения такого рода систем не имеет большого смысла, здесь всё лежит на поверхности. Стул изготавливается, чтобы на нём сидеть, зонт – чтобы скрываться от дождя или солнцепёка, автомобиль – чтобы передвигаться с достаточно большой скоростью по земле, телефон – чтобы разговаривать, находясь вдали друг от друга, язык – чтобы обмениваться информацией, и т. д. Вопрос не в том, можно ли в принципе рассматривать язык именно в этом ряду: в этом нет никаких сомнений. Именно так и объяснял происхождение языка английский философ Джон Локк, автор теории «общественного договора», а его последователь – писатель, философ и экономист Джонатан Свифт популяризировал эту теорию в своём бессмертном романе «Путешествия Гулливера», где жители одной из вымышленных стран, не догадавшиеся о возможности общения с помощью органов речи, общаются путём демонстрирования друг другу обсуждаемых предметов, которые они вынуждены всегда носить с собой, пряча их в бесчисленных карманах сшитой специально для этого одежды. Однако подобный генезис языка имеет совершенно неустранимый изъян: чтобы создать язык таким способом, человек должен быть вполне человеком и без всякого языка, обладать отдельным от языка и абсолютно не требующим его, совершенным мышлением и всеми прочими качествами развитой личности. Более того, люди должны уметь договариваться о создании языка как инструмента общения, не пользуясь на подготовительных этапах договора о языке никаким языком. Понятно, что современные теории происхождения языка далеко не столь примитивны, как объяснения Локка и Свифта, однако по сути это мало что меняет. Усложняется лишь механизм объяснения происхождения языка как инструмента, но мысль о том, что язык возникает как производное от коммуникативных потребностей и является эпифеноменом коммуникативной компетенции, сохраняется во всех подобных моделях. Если же попробовать совместить инструментальный подход к языку с его органической трактовкой, то мы придём к ещё менее утешительным выводам относительно его природы. Целеполагание пришлось бы в этом случае искать в самой природе, что едва ли оправдано. Человек, нашедший себе укрытие от дождя или зноя под деревом, воспользовавшийся камнем, чтобы разбить оконное стекло, или съевший на завтрак сырое яйцо, может, конечно, предположить, что дерево растёт для того, чтобы заменить путнику зонт, камень – чтобы он мог проникнуть через окно в закрытый дом, а яйцо было снесено специально для утоления его голода. И здесь объяснение стоит в том же ряду, что и при сравнении языка с артефактами. В качестве «зонта», наряду с деревом, может послужить, скажем, виадук, роль камня может взять на себя стул или подсвечник, а вместо яйца голод можно утолить, например, хлебом. Во всех случаях главное – догмат о примате коммуникации и языке как её средстве или инструменте. Проблема, однако, состоит в том, что, как показано выше, онтология феноменов совершенно не обязательно должна быть производной от их функции. Во-первых, у природных явлений вообще нет функций в том понимании, какое мы связываем с функцией языка. Во-вторых, как природные феномены (которые в античной философии именовались по-гречески φύσει ὄν), так и культурные феномены, артефакты (так называемые θέσει ὄν) могут в ходе своего развития многократно менять свою первичную функцию. Достаточно предположить, что первичной функцией языка была, например, когнитивная или экспрессивная функция или, что ещё более вероятно, – что язык является по своей природе органом (специфически человеческой) мысли, подобно тому, как глаз является органом зрения живых существ, как вся конструкция, основанная на инструментальной гипотезе языка, оказывается несостоятельной.
Понятно, что неразрешённым остаётся при этом вопрос о действительных истоках и первичных функциях языка. Предположить о языке в принципе можно почти всё что угодно, поэтому необходимо основываться на известных нам вполне твёрдых и бесспорных фактах. Современная нейробиология и нейрофизиология шагнули достаточно далеко, чтобы версия языкового инструментализма могла существовать хотя бы как более или менее правдоподобная гипотеза. Сегодня не вызывает сомнений факт теснейших взаимосвязей языка и сознания, мышления, мозговой деятельности. Достаточно вспомнить о том, что любые виды нарушения речи, языковой способности (афазия) всегда сопровождают нарушения деятельности мыслительной, чтобы поставить под сомнение идею языкового инструментализма даже в его современном виде, претендующем на научную обоснованность. Однако есть, конечно, и гораздо более глубокие и убедительные причины скептического отношения к инструменталистскому подходу к сущности и происхождению языка. Неким интегралом является здесь сложнейшая сеть мозговых структур (нейронная сеть), отвечающих за сознание и его языковую составляющую (ср. Черниговская 2013: 65– 75; 335–360). В отличие от прочих представителей животного мира человек обладает не только сознанием, но и самосознанием, рефлексией; его сознание способно к самоидентификации и самооценке (ср. Черниговская 2013: 36). Возможно, что в определённой мере сравнимые с самоидентификацией способности имеют некоторые приматы, а также дельфины (там же), хотя опять же невозможно сравнивать эти способности в полном объёме с рефлексией человека, для которой необходим «символический язык, способный представлять будущие события и задачи, нужна способность выйти за пределы своего мира и себя как его центра (если не сказать основного наполнения)» (Черниговская 2013: 36). Черниговская совершенно справедливо отмечает в этой связи, что главной проблемой при постановке исследовательской задачи нейролингвиста и психолога является «объяснение субъективного опыта» (там же). Далее (Черниговская 2013: 39–40) она пишет следующее:
Основным формальным отличием человеческого языка от языков иных видов является всё же открытость и продуктивность, способность к использованию рекурсивных правил. То есть наш язык принципиально по-другому устроен. Если продолжать дискуссию о специфичности коммуникационных систем и особенностях интеллекта, то прежде всего нужно точно определить координаты, чтобы не происходило того, с чем мы встречаемся сплошь и рядом, к примеру в трактовке достижений «говорящих обезьян». […] Успешность коммуникации достигается не только за счёт удачных языковых алгоритмов! Не стоит также исключать из обсуждения тот общеизвестный факт, что язык обслуживает не только коммуникацию, но и мышление.
Остановимся подробнее на приведённой цитате. Два тезиса из неё чрезвычайно важны для наших дальнейших рассуждений о природе и происхождении естественных языков. Во-первых, о чём речь уже шла выше, – констатация факта, что язык человека не по каким-то количественным параметрам, а именно качественно, сущностно, онтологически устроен иначе, чем прочие коммуникативные системы. Во-вторых, верное, хотя, на наш взгляд, несколько робко и неточно сформулированное положение, что язык «обслуживает не только коммуникацию, но и мышление». Само указание на данный основополагающий факт с онтологических позиций подхода к языку чрезвычайно важно, и его следует повторять как можно чаще, поскольку сведéние функционального потенциала языка к коммуникативности неизбежно ведёт к его инструментализации и деонтологизации. Едва ли при этом можно вполне принять формулировку, что язык «обслуживает» общение и мышление, поскольку язык, как мы полагаем, не «обслуживает» неких готовых и существующих отдельно от него функций (что, впрочем, в других местах книги Т. Черниговской сказано предельно ясно), но представляет собой эпифеномен рефлексивной способности индивидуума, фокус понятийного (символизированного) членения мыслительного континуума, без которого данный континуум был бы недифференцированным потоком сознания. На это свойство языка обращал в своё время внимание Эрнст Кассирер (Cassirer 1923/1977), который, вслед за Вильгельмом фон Гумбольдтом, рассматривал язык как средство познания мира и полагал, что познавательная деятельность в целом руководима категориями языка. Непосредственные впечатления, получаемые сознанием от предметов с помощью органов чувств, согласно Кассиреру, бесконечны, а потому организация идей сознанием возможна лишь благодаря знакам, которые упорядочивают восприятие:
Знак не есть просто оболочка мысли, но её необходимый и существенный óрган. Он не только служит цели сообщения готового мыслительного содержания, но является инструментом, посредством которого вырабатывается само это содержание и посредством которого оно получает определённость во всей своей полноте. (Cassirer 1923/1977: 18, перевод мой. – М. К.)1515
«Das Zeichen ist keine bloße Hülle des Gedankens, sondern sein notwendiges und wesentliches Organ. Es dient nicht nur dem Zweck der Mitteilung eines fertig gegebenen Gedankeninhalts, sondern ist ein Instrument, kraft dessen dieser Inhalt selbst sich herausbildet und kraft dessen er erst seine volle Bestimmtheit gewinnt».
[Закрыть].
Возможно, одним из наиболее сложных вопросов является проблема соотношения когнитивной и коммуникативной составляющей человеческого языка. Речь не о корреляции двух этих функций в синхроническом понимании, где вполне возможно постулировать как паритет обеих функций, так и статистически обоснованный приоритет одной из них, а об их онтологии и генезисе. Функциональная сфера самых разных феноменов в течение их исторического развития может расширяться или сужаться, и первичные и вторичные функции вполне могут меняться местами. Более того – какие-то функции, которые при возникновении тех или иных явлений были первичными, могут не только становиться вторичными, но и вовсе исчезать, как это имеет место в случаях вроде аппендикса, известных в эволюционной биологии как «экзаптация» (в отличие от адаптации) и заимствованных оттуда в качестве иллюстративных примеров представителями неодарвинистского направления в языкознании (ср. Gould/Vrba 1982: 4–15, De Cuypere 2005: 13–26, Lass 1997: 316–324). Поэтому устанавливать прямую зависимость происхождения феномена (особенно существующего длительное время) от его современного функционирования, как это делает, среди прочих, Р. Келлер (ср. Keller 32003: 30–31, Келлер 1997: 47), – весьма опрометчиво. В отношении языка этот методологический запрет должен действовать так же, как и в отношении любых сопоставимых явлений, которые подвержены исторически обусловленным изменениям не только своей формы, но и своих функций.
Онтология вообще и тем более онтология феноменов, подобных естественным языкам, далеко не всегда производна от некоей неизменной функции, которая насквозь пронизывала бы их генезис1616
Почему это так, мне уже приходилось подробно писать в своей двухтомной монографии о развитии языка, написанной на немецком языке и опубликованной в 2005–2007 гг. в издательстве «Винтреферлаг» в Гейдельберге (ср. Kotin 2005: 11; 40–50). Здесь основные аргументы приводятся в сжатом виде, хотя они несколько дополнены с учётом новых публикаций.
[Закрыть]. Тем не менее та или иная функция, в особенности если она представляется «самой важной» просто потому, что более прочих приложений объекта бросается в глаза, вполне способна затемнить проблему сущности и генезиса данного объекта. Требуются немалая тщательность и дисциплина в рассуждении о первопричинах рассматриваемого феномена, чтобы выявить условия, действительно как необходимые, так и достаточные для его возникновения. Образцом такого рассуждения, вернее, собственно, его итога, можно считать вывод М. М. Бахтина (1979: 245) относительно роли коммуникации в онтологии языка. Для возникновения языка, согласно Бахтину, вполне достаточно наличия говорящего и предмета его высказывания, а следовательно, язык возникает из потребности самовыражения и самообъективации. Если язык может помимо этого служить средством общения, то данная функция является лишь вторичной, побочной, не затрагивающей самой сути языка. Далее Бахтин замечает, что, хотя при рассмотрении языка нельзя не учитывать чисто коммуникативных факторов вроде характеристик языкового сообщества или, скажем, количества говорящих, однако при определении языка, выявлении его сути все эти признаки нельзя считать не только главными, но и вообще неотъемлемыми и обязательными параметрами.
Из совершенно иной перспективы тот же самый по сути вывод делает Хуберт Хайдер (ср. Haider 2017: 22–25). Сравнивая функционалистский подход в биологии и в лингвистике, он справедливо замечает, что прямое возведение формы к функции всегда чревато ложными выводами: «Функциональные объяснения не являются адекватными объяснениями. Грамматика языка не потому такова, что этого требуют его [языка. – М. К.] коммуникативные функции. Наоборот, коммуникативные функции таковы, какими их делает грамматика»1717
«Funktionale Erklärungen sind keine gültigen Erklärungen. Nicht weil die kommunikativen Funktionen das erfordern sind Grammatiken so. Die kommunikativen Funktionen sind so, weil die Grammatiken sie so ermöglichen» (перевод с немецкого мой. – М. К.).
[Закрыть]. Хайдер следует здесь за Хомским, который даёт исчерпывающий ответ на вопрос о соотношении неизменной природы языка и его меняющихся и разнообразных функций. Сущность языка, согласно Хомскому, никак не может быть обусловлена, скажем, функцией информирования. Человек может использовать язык как средство информации или дезинформации, прояснения своих мыслей или выставления напоказ своей эрудиции, в целях игры и т. п. Если я говорю без цели повлиять на чьи-либо мысли или поступки, я использую язык не в меньшей степени, чем тогда, когда я произношу те же самые фразы с этой целью. Поэтому, чтобы узнать, чем является язык, нужно исследовать психические способности человека, лежащие в его основе, а не спрашивать, с какой целью язык используется. Спрашивая, как реально чаще всего используется язык, мы действительно можем прийти к выводу, что язык человека – лишь более совершенная стадия в развитии коммуникационных кодов живых существ. Задаваясь же вопросом, что такое язык, мы не найдём его сходства с коммуникационными системами животных (ср. Chomsky 1973: 116–117).
Если понимать язык как эпифеномен рефлексивной потенции человеческого сознания, облекающий эту его (сознания) органическую способность в форму нагруженных понятийными смыслами акустических сигналов, то вектор всегда будет направлен от мысли к коммуникации, а рефлексия, соответственно, будет первичной по отношению к её трансляции вовне. Если же исходить из того, что язык – это эпифеномен коммуникативной потенции сознания, то есть постулировать его (сознания) исконную «социальную составляющую», то язык, наоборот, следует считать вторичным по отношению к взаимодействию индивидов в социальной среде, производным от этого взаимодействия. В этом случае и сама рефлексия ставится в зависимость от языка как средства коммуникации, поскольку лишь в процессе коммуникации происходят не только количественное накопление языковых знаний, но и их качественные изменения. Поэтому, когда, например, такой последовательный эволюционист и сторонник непрерывной теории возникновения языка, как Д. Бикертон (ср. Bickerton 1996: 160), утверждает, что «Language is the hen while human cognition is the egg»1818
«Язык – это курица, тогда как человеческое мышление – яйцо». В данном контексте это следует понимать как первичность языка по отношению к мышлению, то есть исходить из того, что спор о курице и яйце окончательно решён в пользу генетического примата первой.
[Закрыть], нельзя трактовать это его высказывание, так сказать, в «гумбольдтовском» смысле или как повторённые им более чем через 200 лет знаменитые слова И. Г. Гаманна (Hamann 1949–1956, т. 3, с. 284): «Das ganze Vermögen zu denken beruht auf Sprache»1919
«Способность мыслить целиком основана на языке».
[Закрыть]. Дело в том, что если исходить из коммуникации как основной предпосылки возникновения языка, то и языковое мышление следует определять исключительно в рамках данной логики, то есть как речь, которая развивается и усложняется с развитием и усложнением экологии общения, а потому целиком обусловлена внешними факторами, детерминирующими развитие структур головного мозга и эволюцию речевого аппарата. Более того, даже помимо вопроса о нейронных сетях мозга можно рассматривать преемственность вообще всех существующих в живой природе коммуникационных систем как единый эволюционный процесс. Места каким бы то ни было дискретным скачкам в понимании Хомского в последовательно эволюционной модели с единой – коммуникационной – доминантой практически не остаётся. Звенья единой цепи – от «языка» муравьёв, пчёл, гусей, дельфинов, приматов до языка человека – плавно перетекают друг в друга, и даже качественные изменения вполне укладываются в рамки единого коммуникативного вектора. При этом развитие органов коммуникации оказывается конгениальным развитию самой коммуникации, усложнению её целей и задач и повышению сложности структур, обслуживающих внутривидовое общение. Новые потребности общения ведут к росту и усложнению систем, отвечающих за общение, в том числе и прежде всего – к возникновению на этой базе мыслительных процессов, вплоть до рефлексии, и формированию их органов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































