Текст книги "Княгиня Лиговская"
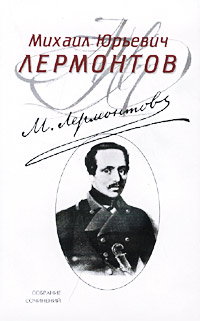
Автор книги: Михаил Лермонтов
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
Глава III
Почтенные читатели, вы все видели сто раз Фенеллу, вы все с громом вызывали Новицкую и Голланда, и поэтому я перескочу через остальные 3 акта и подыму свой занавес в ту самую минуту, как опустился занавес Александрийского театра, замечу только, что Печорин мало занимался пьесою, был рассеян и забыл даже об интересной ложе, на которую он дал себе слово не смотреть.
Шумною и довольною толпою зрители спускались по извилистым лестницам к подъезду… внизу раздавался крик жандармов и лакеев. Дамы, закутавшись и прижавшись к стенам, и заслоняемые медвежьими шубами мужей и папенек от дерзких взоров молодежи, дрожали от холоду – и улыбались знакомым. Офицеры и штатские франты с лорнетами ходили взад и вперед, стучали – одни саблями и шпорами, другие калошами. Дамы высокого тона составляли особую группу на нижних ступенях парадной лестницы, смеялись, говорили громко и наводили золотые лорнетки на дам без тона, обыкновенных русских дворянок, – и одни другим тайно завидовали: необыкновенные красоте обыкновенных, обыкновенные, увы! гордости и блеску необыкновенных.
У тех и у других были свои кавалеры; у первых почтительные и важные, у вторых услужливые и порой неловкие!.. в середине же теснился кружок людей не светских, не знакомых ни с теми, ни с другими, – кружок зрителей. Купцы и простой народ проходили другими дверями. – Это была миньятюрная картина всего петербургского общества.
Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу, старался продраться к дверям. Он поравнялся с Лизаветою Николавной Негуровой; на выразительную улыбку отвечал сухим поклоном и хотел продолжать свой путь, но был задержан следующим вопросом: «Отчего вы так сериозны, monsieur George? [2]2
господин Жорж (франц.)
[Закрыть] – вы недовольны спектаклем?»
– Напротив, я во всё горло вызывал Голланда!
– Не правда ли, что Новицкая очень мила!
– Ваша правда.
– Вы от нее в восторге?
– Я очень редко бываю в восторге.
– Вы этим никого не ободряете! – сказала она с досадою и стараясь иронически улыбнуться…
– Я не знаю никого, кто бы нуждался в моем ободрении! – отвечал Печорин небрежно. – И притом восторг есть что-то такое детское…
– Ваши мысли и слова удивительно подвержены перемене… давно ли…
– Право…
Печорин не слушал, его глаза старались проникнуть пеструю стену шуб, салопов, шляп… ему показалось, что там, за колонною, мелькнуло лицо ему знакомое, особенно знакомое… в эту минуту жандарм крикнул, и долговязый лакей повторил за ним: «карета князя Лиговскóва!».. С отчаянными усилиями расталкивая толпу, Печорин бросился к дверям… перед ним человека за четыре, мелькнул розовый салоп, шаркнули ботинки… лакей подсадил розовый салоп в блестящий купе, потом вскарабкалась в него медвежья шуба, дверцы хлопнули, – «на Морскую! пошел!».. Интересную карету заменила другая, может быть, не менее интересная, только не для Печорина. Он стоял как вкопанный!.. Мучительная мысль сверлила его мозг: эта ложа, на которую он дал себе слово не смотреть… Княгиня сидела в ней, ее розовая ручка покоилась на малиновом бархате; ее глаза, может быть, часто покоились на нем, а он даже и не подумал обернуться, магнетическая сила взгляда любимой женщины не подействовала на его бычачьи нервы – о, бешенство! он себе этого никогда не простит! Раздосадованный, он пошел по тротуару, отыскал свои сани, разбудил толчком кучера, который лежал свернувшись, покрытый медвежьего полостью, и отправился домой. А мы обратимся к Лизавете Николавне Негуровой и последуем за нею.
Когда она села в карету, то отец ее начал длинную диссертацию насчет молодых людей нынешнего века. «Вот, например, Печорин, – говорил он, – нет того, чтоб искать во мне или в Катеньке (Катенька его жена, 55 лет) нет, и смотреть не хочет!.. как бывало в наше время: влюбится молодой человек, старается угодить родителям, всей родне… а не то, чтоб всё по углам с дочкой перешептываться, да глазки делать… что это нынче, страм смотреть!.. и девушки не те стали!.. Бывало, слово лишнее услышат – покраснеют да и баста, уж от них не добьешься ответа… а ты, матушка, 25 лет девка, так на шею и вешаешься… замуж захотелось!»
Лизавета Николавна хотела отвечать, слезы навернулись у нее на глазах… – и она не могла произнесть ни слова; Катерина Ивановна за нее заступилась!..
«Уж ты всегда на нее нападаешь… понапрасну!.. Что ж делать, когда молодые люди не женятся… надо самой не упускать случая! Печорин жених богатый… хорошей фамилии, чем не муж? Ведь не век же сидеть дома… – слава богу что мне ее наряды-то стоят… а ты свое: замуж хочешь, замуж хочешь? – Да кабы замуж не выходили, так что бы было…» и проч…
Эти разговоры повторялись в том или другом виде всякий раз, когда мать, отец и дочь оставались втроем… дочь молчала, а что происходило в ее сердце в эти минуты, один бог знает.
Приехали домой. Катерина Ивановна с ворчливым супругом отправились в свою комнату – а дочка в свою. Родители ее принадлежали и к старому и к новому веку; прежние понятия, полузабытые, полустертые новыми впечатлениями жизни петербургской, влиянием общества, в котором Николай Петрович по чину своему должен был находиться, проявлялись только в минуты досады, или во время спора; они казались ему сильнейшими аргументами, ибо он помнил их грозное действие на собственный ум, во дни его молодости; Катерина Ивановна была дама не глупая, по словам чиновников, служивших в канцелярии ее мужа; женщина хитрая и лукавая, во мнении других старух; добрая, доверчивая и слепая маменька для бальной молодежи… истинного ее характера я еще не разгадал; описывая, я только буду стараться соединить и выразить вместе все три вышесказанные мнения… и если выдет портрет похож, то обещаюсь идти пешком в Невский монастырь – слушать певчих!..
Лизавета же Николавна… о! знак восклицания… погодите!.. теперь она взошла в свою спальну и кликнула горничную Марфушу – толстую, рябую девищу!.. дурной знак!.. я бы не желал, чтоб у моей жены или невесты была толстая и рябая горничная!.. терпеть не могу толстых и рябых горничных, с головой, вымазанной чухонским маслом или приглаженной квасом, от которого волосы слипаются и рыжеют, с руками шероховатыми, как вчерашний решетный хлеб, с сонными глазами, с ногами, хлопающими в башмаках без ленточек, тяжелой походкой, и (что всего хуже) четвероугольной талией, облепленной пестрым домашним платьем, которое внизу уже, чем вверху… Такая горничная, сидя за работой в задней комнате порядочного дома, подобна крокодилу на дне светлого американского колодца… такая горничная, как сальное пятно, проглядывающее сквозь свежие узоры перекрашенного платья – приводит ум в печальное сомнение насчет домашнего образа жизни господ… о, любезные друзья, не дай бог вам влюбиться в девушку, у которой такая горничная, если вы разделяете мои мнения, – то очарование ваше погибло навеки.
Лизавета Николавна велела горничной снять с себя чулки и башмаки и расшнуровать корсет, а сама, сев на постель, сбросила небрежно головной убор на туалет, черные ее волосы упали на плечи; – но я не продолжаю описания: никому неинтересно любоваться поблекшими прелестями, худощавой ножкой, жилистой шеею и сухими плечами, на которых обозначались красные рубцы от узкого платья. Всякий, вероятно, на подобные вещи довольно насмотрелся. Лизавета Николавна легла в постель, поставила возле себя на столик свечу и раскрыла какой-то французский роман – Марфуша вышла… тишина воцарилась в комнате. Книга выпала из рук печальной девушки, она вздохнула и предалась размышлениям.
Конечно, ни одна отцветшая красавица не поверяла мне дум и чувств, волновавших ее грудь после длинного бала или вечеринки, когда в одинокой своей комнате она припоминала всё свое прошедшее, пересчитывала все любовные объяснения, которые некогда выслушала с притворной холодностию, притворной улыбкой – или с истинным наслаждением и которые не имели для нее других следствий, кроме лишних десяти строк в альбоме или мстительной эпиграммы отвергнутого обожателя, брошенной мимоходом позади ее стула во время длинной мазурки. Но я догадываюсь, что эти размышления должны быть тяжелы, несносны для самолюбия и сердца – если оное налицо имеется, ибо натуральная история нынче обогатилась новым классом очень милых и красивых существ – именно классом женщин без сердца. Чтоб легче угадать, об чем Лизавета Николавна изволила думать, я принужден, к моему великому сожалению, рассказать вам некоторые частности ее жизни… тем более, что для объяснения следующих происшествий это необходимо. Она родилась в Петербурге – и никогда не выезжала из Петербурга – правда, один раз на два месяца в Ревель на воды… – но вы сами знаете, что Ревель не Россия, и потому направление ее петербургского воспитания не получало никакого изменения; у нас, в России, несколько вывелись из моды французские мадамы, а в Петербурге их вовсе не держат… Агличанку нанимать ее родители были не в силах… агличанки дороги – немку взять было также неловко: бог знает какая попадется: здесь так много всяких… Елизавета Николавна осталась вовсе без мадамы – по-французски она выучилась от маменьки, а больше от гостей, потому что с самого детства она проводила дни свои в гостиной, сидя возле маменьки и слушая всякую всячину… Когда ей исполнилось 13 лет, взяли учителя по билетам: в год она кончила курс французского языка… и началось ее светское воспитание. В комнате ее стоял рояль, но никто не слыхал, чтоб она играла… танцевать она выучилась на детских балах… романы она начала читать, как только перестала учить склады… и читала их удивительно скоро… Между тем отец ее получил порядочное наследство, вслед за ним хорошее место – и стал жить открытее… 15 лет ее стали вывозить, выдавая за 17-летнюю, и до 25 лет условный этот возраст не изменялся… 17 лет точка замерзания: они растягиваются сколько угодно как резинные помочи. Лизавета Николавна была недурна, – и очень интересна: бледность и худоба интересны… потому что француженки бледны, а англичанки худощавы… надобно заметить, что прелесть бледности и худобы существуют только в дамском воображении, и что здешние мужчины только из угождения потакают их мнению, чтоб чем-нибудь отклонить упреки в невежливости и так называемой «казармности».
При первом вступлении Лизаветы Николавны на паркет гостиных у нее нашли<сь> поклонники. Это всё были люди, всегда аплодирующие новому водевилю, скачущие слушать новую певицу, читающие только новые книги. Их заменили другие: эти волочились за нею, чтоб возбудить ревность в остывающей любовнице, или чтоб кольнуть самолюбие жестокой красоты; – после этих явился третий род обожателей: люди, которые влюблялись от нечего делать, чтоб приятно провести вечер, ибо Лизавета Николавна приобрела навык светского разговора, и была очень любезна, несколько насмешлива, несколько мечтательна… Некоторые из этих волокит влюбились не на шутку и требовали ее руки: но ей хотелось попробовать лестную роль непреклонной… и к тому же они все были прескушные: им отказали… один с отчаяния долго был болен, другие скоро утешились… между тем время шло: она сделалась опытной и бойкой девою: смотрела на всех в лорнет, обращалась очень смело, не краснела от двусмысленной речи или взора – и вокруг нее стали увиваться розовые юноши, пробующие свои силы в словесной перестрелке и посвящавшие ей первые свои опыты страстного красноречия, – увы, на этих было еще меньше надежды, чем на всех прежних; она с досадою и вместе тайным удовольствием убивала их надежды, останавливала едкой насмешкой разливы красноречия – и вскоре они уверились, что она непобедимая и чудная женщина; вздыхающий рой разлетелся в разные стороны… и наконец для Лизаветы Николавны наступил период самый мучительный и опасный сердцу отцветающей женщины…
Она была в тех летах, когда еще волочиться за нею было не совестно, а влюбиться в нее стало трудно; в тех летах, когда какой-нибудь ветреный или беспечный франт не почитает уже за грех уверять шутя в глубокой страсти, чтобы после, так для смеху, скомпрометировать девушку в глазах подруг ее, думая этим придать себе более весу… уверить всех, что она от него без памяти, и стараться показать, что он ее жалеет, что он не знает, как от нее отделаться… говорит ей нежности шепотом, а вслух колкости… бедная, предчувствуя, что это ее последний обожатель, без любви, из одного самолюбия старается удержать шалуна как можно долее у ног своих… напрасно: она более и более запутывается, – и наконец… увы… за этим периодом остаются только мечты о муже, каком-нибудь муже… одни мечты.
Лизавета Николавна вступила в этот период, но последний удар нанес ей не беспечный шалун и не бездушный франт; – вот как это случилось.
Полтора года тому назад Печорин был еще в свете человек – довольно новый: ему надобно было, чтоб поддержать себя, приобрести то, что некоторые называют светскою известностию, т. е. прослыть человеком, который может делать зло, когда ему вздумается; несколько времени он напрасно искал себе пьедестала, вставши на который, он бы мог заставить толпу взглянуть на себя; сделаться любовником известной красавицы было бы слишком трудно для начинающего, а скомпрометировать девушку молодую и невинную он бы не решился, и потому он избрал своим орудием Лизавету Николаевну, которая не была ни то, ни другое. Как быть? в нашем бедном обществе фраза: он погубил столько-то репутаций – значит почти: он выиграл столько-то сражений.
Лизавета Николаевна и он были давно знакомы. Они кланялись. Составив план свой, Печорин отправился на один бал, где должен был с нею встретиться. Он наблюдал за нею пристально и заметил, что никто ее не пригласил на мазурку: знак был подан музыкантам начинать, кавалеры шумели стульями, устанавливая их в кружок, Лизавета Николаевна отправилась в уборную, чтобы скрыть свою досаду: Печорин дожидался ее у дверей. Когда она возвращалась в залу, начиналась уже вторая фигура: Печорин торопливо подошел к ней.
– Где вы скрывались, – сказал он, – я искал вас везде – приготовил даже стулья: так я сильно надеялся, что вы мне не откажете.
– Как вы самоуверенны.
И неожиданное удовольствие вспыхнуло в ее глазах.
– Однако ж вы меня не накажете слишком строго за эту самоуверенность?
Она не отвечала и последовала за ним.
Разговор их продолжался во время всего танца, блистая шутками, эпиграммами, касаясь до всего, даже любовной метафизики. Печорин не щадил ни одной из ее молодых и свежих соперниц. За ужином он сел возле нее, разговор подвигался всё далее и далее, так что наконец он чуть-чуть ей не сказал, что обожает ее до безумия (разумеется двусмысленным образом). Огромный шаг был сделан, и он возвратился домой, довольный своим вечером.
Несколько недель сряду после этого они встречались на разных вечерах; разумеется, он неутомимо искал этих встреч, а она по крайней мере их не избегала. Одним словом, он пошел по следам древних волокит и действовал по форме, классически. Скоро все стали замечать их постоянное влечение друг к другу, как явление новое и совершенно оригинальное в нашем холодном обществе. Печорин избегал нескромных вопросов, но зато действовал весьма открыто. Лизавета Николаевна была также этим очень довольна, потому что надеялась завлечь его дальше и дальше и потом, как говорили наши матушки, женить его на себе. Ее родители, не имея еще об нем никакого мнения, так, безо всяких видов пригласили однако же его посещать свой дом, чтоб узнать его короче. Многие уже стали над ним подсмеиваться, как над будущим женихом, добрые приятели стали уговаривать его, отклонять от безрассудного поступка, который ему не входил и в голову. Из этого всего он заключил, что минута решительного кризиса наступила.
Был блестящий бал у барона ***. Печорин по обыкновению танцевал первую кадриль с Елизаветою Николаевною.
– Как хороша сегодня меньшая Р., – заметила Елизавета Николаевна.
Печорин навел лорнет на молодую красавицу, долго смотрел молча и наконец отвечал:
– Да, она прекрасна. – С каким вкусом перевиты эти пунцовые цветы в ее густых, русых локонах, я непременно дал себе слово танцевать с нею сегодня, именно потому, что она вам нравится; не правда ли, я очень догадлив, когда хочу вам сделать удовольствие.
– О, без сомнения, вы очень любезны, – отвечала она вспыхнув.
В эту минуту музыка остановилась, первая кадриль кончилась, и Печорин очень вежливо раскланялся. Остальную часть вечера он или танцовал с Р…. или стоял возле ее стула, старался говорить как можно больше и казаться как можно довольнее, хотя, между нами, девица Р** была очень проста и почти его не слушала; но так как он говорил очень много, то она заключила, что Печорин – кавалер очень любезный. После мазурки она подошла к Елизавете Николаевне, и та ее спросила с ироническою улыбкою:
– Как вам кажется ваш постоянный нынешний кавалер?
– Il est très aimable [3]3
Он очень любезен (франц.)
[Закрыть], – отвечала Р.
Это был жестокий удар для Елизаветы Николаевны, которая почувствовала, что лишается своего последнего кавалера, – ибо остальные молодые люди, видя, что Печорин занимается ею исключительно, совершенно ее оставили.
И точно, с этого дня Печорин стал с нею рассеяннее, холоднее, явно старался ей делать те мелкие неприятности, которые замечаются всеми и за которые между тем невозможно требовать удовлетворения. Говоря с другими девушками, он выражался об ней с оскорбительным сожалением, тогда как она, напротив, вследствие плохого расчета, желая кольнуть его самолюбие, поверяла своим подругам под печатью строжайшей тайны свою чистейшую, искреннейшую любовь. Но напрасно, он только наслаждался излишним торжеством, а она, уверяя других, мало-по-малу сама уверилась, что его точно любит. Родители ее, более проницательные в качестве беспристрастных зрителей, стали ее укорять, говоря: «Вот, матушка, целый год пропустила даром, отказала жениху с 20 тысячами доходу, правда, что он стар и в параличе, – да что нынешние молодые люди! Хорош твой Печорин, мы заранее знали, что он на тебе не женится, да и мать не позволит ему жениться! что ж вышло? он же над тобой и насмехается».
Разумеется, подобные слова не успокоят ни уязвленного самолюбия, ни обманутого сердца. Лизавета Николаевна чувствовала их истину, но эта истина была уже для нее не нова. Кто долго преследовал какую-нибудь цель, много для нее пожертвовал, тому трудно от нее отступиться, а если к этой цели примыкают последние надежды увядающей молодости, то невозможно. В таком положении мы оставили Лизавету Николаевну, приехавшую из театра, лежащую на постеле, с книжкою в руках, – и с мыслями, бродящими в минувшем и в будущем.
Наскучив пробегать глазами десять раз одну и ту же страницу, она нетерпеливо бросила книгу на столик и вдруг приметила письмо с адресом на ее имя и с штемпелем городской почты.
Какое-то внутреннее чувство шептало ей не распечатывать таинственный конверт, но любопытство превозмогло, конверт сорван дрожащими руками, свеча придвинута, и глаза ее жадно пробегают первые строки. Письмо было написано приметно искаженным почерком, как будто боялись, что самые буквы изменят тайне. Вместо подписи имени, внизу рисовалась какая-то египетская каракула, очень похожая на пятна, видимые в луне, которым многие простолюдины придают какое-то символическое значение. Вот письмо от слова до слова:
«Милостивая Государыня!
Вы меня не знаете, я вас знаю: мы встречаемся часто, история вашей жизни так же мне знакома, как моя записная книжка, а вы моего имени никогда не слыхали. Я принимаю в вас участие именно потому, что вы никогда на меня не обращали внимания, и притом я нынче очень доволен собою и намерен сделать доброе дело: мне известно, что Печорин вам нравится, что вы всячески думаете снова возжечь в нем чувства, которые ему никогда не снились, он с вами пошутил – он недостоин вас: он любит другую, все ваши старания послужат только к вашей гибели, свет и так указывает на вас пальцами, скоро он совсем от вас отворотится. Никакая личная выгода не заставила меня подавать вам такие неосторожные и смелые советы. И чтобы вы более убедились в моем бескорыстии, то я клянусь вам, что вы никогда не узнаете моего имени.
Вследствие чего остаюсь
ваш покорнейший слуга:
Каракула»
От такого письма с другою сделалась бы истерика, но удар, поразив Елизавету Николаевну в глубину сердца, не подействовал на ее нервы, она только побледнела, торопливо сожгла письмо и сдула на пол легкий его пепел.
Потом она погасила свечу и обернулась к стене: казалось, она плакала, но так тихо, так тихо, что если б вы стояли у ее изголовья, то подумали бы, что она спит покойно и безмятежно.
На другой день она встала бледнее обыкновенного, в десять часов вышла в гостиную, разливала сама чай по обыкновению. Когда убрали со стола, отец ее уехал к должности, мать села за работу, она пошла в свою комнату: проходя через залу, ей встретился лакей.
– Куда ты идешь? – спросила она.
– Доложить-с.
– О ком?
– Вот тот-с… офицер… Господин Печорин…
– Где он?
– У крыльца остановился.
Лизавета Николаевна покраснела, потом снова побледнела и потом отрывисто сказала лакею:
– Скажи ему, что дома никого нет. И когда он еще приедет, – прибавила она, как бы с трудом выговаривая последнюю фразу, – то не принимать!..
Лакей поклонился и ушел, а она опрометью бросилась в свою комнату.









































