Текст книги "Ощущение времени"
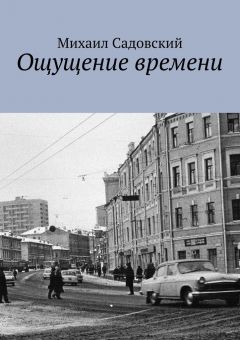
Автор книги: Михаил Садовский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Один раненый очень им заинтересовался, попросил приготовить ему несколько рисунков и портретов солдат, расспрашивал, разговаривал, адрес вписал в свой блокнот… и однажды вытащила Мелисса толстый конверт из ящика с добавлением в адресе: « (Б. Иванову лично)». Оказалась в пакете вырезанная из газеты страница с Борькиными рисунками и статьёй о нём. А на маленькой страничке из блокнота приписка. «Спасибо тебе, Борис Иванов. Разыщи меня после войны, когда станешь знаменитым художником!..». И всё. И подпись. Ни адреса… ни телефона…
Знаменитым Борька стал незаметно, ещё до того, как диплом получил о высшем образовании. Всё шло ему теперь в плюс: и происхождение, и нищенское голодное детство, и статья с рисунками, которую приложил он к анкете, когда поступал учиться, и, конечно, фамилия… Да, всё пригодилось… только те, кто считал его плюсы, за скобки выносили, что талантлив он был стихийно, как говорили художники, «от сохи» был. Стожок какой-нибудь, почерневший за зиму по колено в тающем мартовском снеге, стоящий посреди холста, – и всё. А от него так весной пахнет, что пальто распахнуть хочется… Подсолнухи, к светящемуся вечернему окну повернувшиеся, за какой надобностью, неизвестно, может, из любопытства, а может, от тоски неизбывной в тёмной ночи…
После того, как сделал он свою первую книжку, случайно перепавшую ему от педагога, когда тот не успевал к издательскому сроку, поползла о нём молва потихоньку. Стали издательства приглашать – пошла работа, а за ней деньги, слава… удача… В Союз приняли за глаза, возраст его комсомольский лимит свой выбрал, и стали его зазывать в передовой отряд рабочего класса, а он и не сопротивлялся. Судьба сама вела его – а он прислушивался и шёл. Простачком удачливым слыл, да зависть ходила за ним с вилами острыми… а он прикидывался дурачком Емелей… дураку всегда везёт в сказке русской… почему?..
А в мастерской, когда никого не было, доставал он свою гармошку с латанными-перелатанными мехами и свистящую «на два зуба», как говорил сам Борька…
«Ой, да с милой Клавою
Я по морю плаваю,
А причалить не могу,
С… палкой муж на берегу!..»
– пел он в голос, будто голосил… по кому? по чему? Может быть, по тому голодному и нищему времени, когда был он не Борис Семёныч Иванов, а просто Борька?.. Нет. Он любил до боли то время, но ненавидел его… и никогда не забывал тот унизительный безысходный голод… руки матери в трещинах и коросте и тихий шёпот подслушанной молитвы: «Прости, сынок, не такой я жизни тебе хотела».
Клятву свою он берёг свято. Мать свою ублажал, как мог, в город она уезжать не захотела. Всё ждала, что женится сын, и станет она забирать на лето внука к себе в деревню, а что лучше места нет на свете – нисколько не сомневалась.
А Борька Иванов, может, и имел детей, да не знал об этом. Много клятв и сладких стонов слышала его мастерская, но постоянно жила в ней только одна женщина – Муза. Он называл её Нюська…
«Глянь, что мы с Нюськой сотворили», – приговаривал он, показывая другу новую работу… И если в ответ слышал похвалу, как чаще всего и бывало, широко улыбался и объяснял: «С Нюськой не забалуешь! Знаешь, у нас строго!..».
«Живи, – сказал он Давиду просто. – Мне Серый объяснил всё. Только курить ни боже мой! Не куришь? Ну, тогда всё в порядке. А она? А то теперь девки так смолят, что дышать нечем… а я потом работать не могу… и Нюська сердится… очень не любит!».
Варвара Петровна не летала на ночном бомбардировщике, не служила радисткой в тылу врага, не была боевой подругой героя, не боролась с комбайном на трудовых полях страны и не толкала ядро на всесоюзной спартакиаде. Она своё семейное счастье строила расчётливо и планомерно. Додик в этих планах никак не фигурировал, и то, что дочь оставила записку, чтобы родители не волновались, не имело никакого значения. Вся эта скоротечная любовь дочери была совершенной глупостью, по её мнению. Мало того, что она наверняка стала хуже играть и могла провалить отборочные к конкурсу, замаячившее впереди замужество ставило вообще под сомнение всю карьеру дочери, потому что, выйдя за еврея, она становилась невыездной.
Но чем больше она думала об этом, тем яснее понимала, что дочь, сама того не зная, повторяет буквально в точности путь своей матери. Девочка из благополучной семьи профессора-историка, сделавшего блестящую карьеру, миновавшего все чистки в страшные годы, она, которой прочили такое замечательное безоблачное будущее под крылом своего родителя, вдруг совершенно необъяснимо для всех свернула с намеченного курса.
Казалось, всё так просто: диплом – аспирантура – диссертация… столько скрытых ресурсов в процветающем в государстве социализме, который изучал и обосновывал отец… неисчерпаемые возможности! Но она отреклась от шаблонных слов, от намеченной карьеры, обеспеченного уважаемого положения, и это когда отец сделал новый рывок в членкоры и метил выше… Своенравная любимица Варвара буквально удрала, как начитавшаяся романов девчонка, к молодому подполковнику-лётчику в военный городок, где после победы стоял их авиакорпус… Даже диплом не защитила! И всё – никакие увещевания, даже просьбы, порой весьма унизительные, и отца, и матери… «Надоело мне!» – грубо обрывала она их. И невозможно было понять, что же на самом деле надоело. Мать, профессорская жена, грозила страшными карами – у неё благодаря положению были большие связи. Отец тихо поддакивал, а втайне даже гордился характером дочки… всегда мечтал иметь сына, который пойдёт по его пути – продолжит дело. Он свято верил в то, что делает, что причастен к великим свершениям… И даже то, что карающий меч диктатуры пролетариата, которой он служит, миновал его, явно подтверждало правильность его пути вообще и его личного творчества в частности…
Проще сказать, обычное пошлое существование, сытое и с полузакрытыми глазами…
Варвара научилась готовить, научилась потихоньку вселять в мужа чувство превосходства над окружающими и учила его, как это делать… Он понемножку под её руководством стал печататься, начиная с армейской многотиражки, а она использовала свои связи и протекции… За статьями пошли брошюрки, потом книжка… Грамотная, не вызывающая зависти, проходная по всем статьям, защищённая от критики своей тематикой и дуто неопровержимой нужностью…
Варвара была человеком небесталанным, начитанным и на вдруг появившийся вопрос: «А зачем я всё это сделала?» – толком ответить себе не могла… Конечно, при её привлекательности и положении она бы составила себе куда более выгодную партию… Сколько друзей отца, его аспирантов, даже студентов бросали на неё недвусмысленные взгляды и старались лишний раз заглянуть к профессору домой то ли для консультации, то ли занести материалы, подписать статью… И она ещё в раннем возрасте, почти девчонкой, уже чувствовала свою женскую, ей самой неведомо огромную силу… а вот как вышло! Раз!..
Но красив был, хорош Николай Иванович! Настоящий мужчина! Не представлялся, не говорил надоевшими дома фразами, не обещал никакого будущего и смотрел на неё так восхищённо-откровенно, что она не устояла!.. «Ну, и что? – думала она уже много позже. – Дура потому что! Замуж-то чего рванула… что, из этого гарнизона электричка не ходила? Или больше в мире мужчин не осталось?». Но в то же время она почувствовала, что не хочет ничего менять. Больше того, не будет. А когда, прощённая родителями, вернулась в столицу и протолкнула мужа, уже переставшего летать, но ещё служившего (теперь в министерстве), в Союз писателей, – стала творить новую семейную жизнь. Бросила дочку на руки бабушки, получила диплом и тоже пошла в Большую литературу – устроилась редактором в престижное издательство…
Муж, как перестал летать, подобрел телом, усвоил вальяжные манеры (откуда что бралось) под влиянием жены, стал солидно разговаривать, неспешно ставить автографы на своих томах и гордиться тем, что в любом, даже заштатном магазине на книжной полке его фамилия блистала золотом на корешках…
Такая обычная история. Ей хотелось вырваться из серости, в которой выросла, – и оказалось после всех резких движений и рывков, что она снова в ней, и ещё глубже… а проще сказать, никогда в другой среде Варвара Петровна не была… Горько себе в этом признаваться, но появилось ощущение, что поменять ничего невозможно. И вдруг Верка с её неизвестно откуда взявшимся настоящим талантом! Это было так радостно и необыкновенно, что Варвара Петровна сначала даже заревновала к дочери и поняла, что не в силах справиться с этим чувством, но потом открыла для себя в таланте дочери новый шанс поменять свою жизнь. Профессор прочил ей большую концертную дорогу, а девочке, конечно, нужна поддержка матери, и она никогда не отпустит её одну в страшный, развратный западный мир… Да это и принято – вундеркиндов сопровождают родители, выдающихся исполнителей – помощники-секунданты…
Как привлекательно! Как захватывающе необычно! И вот тебе на! Поистине: повторение пройденного… только в худшем варианте… с весьма отягчающими обстоятельствами…
«Из-за какого-то еврея!!!». Не то чтобы она была антисемиткой… но почему – опять еврей? Сколько проблем в государстве – и всегда там замешаны евреи! Вся русская история связана с евреями! Во всех областях и при царях и после! И никогда до добра не доводили они все дела, в которые вмешивались! И всегда на виду были, всегда наверху! Почему? Чёрт возьми! И профессор у Верки – еврей, и зубной врач у неё Борис Соломонович, и, когда рожала, принимал Евсей Нассонович, и главный редактор у них хоть и Борисов, а всё равно все знают, какой он Виктор Сергеевич… Ну, куда ни сунься… А если, не дай Бог, опять начнётся какое-нибудь дело… вредителей, врачей, космополитов… ну зачем, зачем портить себе анкету?.. Дура Верка! И как ей сказать об этом?.. Она ведь может назло всё сделать… наоборот…
«Патефон стоял на широком подоконнике… он играл каким-то непроснувшимся звуком. Милка подскочила к окну, поднялась на ящик у завалинки и накрутила ручку… Голос поплыл медленно вверх, вверх и добрался наконец до привычного слуху тона:
«Сирень цветёт,
Не плачь – придёт,
Твой милый, подружка, вернётся…»
Она снова положила правую руку мне на плечо, а к левой горячей ладошке прижала мои пальцы своими и снова начала учить танцевать… но я плохо соображал… ноги почему-то существовали сами по себе, не завися от моего сознания и старания, наверное, потому что я вообще плохо соображал, когда она была так близко и стояла ко мне лицо в лицо. Я её видел немного снизу, и от этого Милкины ресницы казались ещё длиннее, а нос вовсе не торчал так далеко вперёд, а немножко ужимался, становился короче, и кожица на ободках ноздрей так розово блестела, что хотелось до неё дотронуться, только не пальцами… губами… такой она была нежной и сладкой… От Милкиного запаха у меня кружилась голова, и, когда я резко поворачивался, повинуясь требованию танца, все деревья падали на меня, ветки хлестали по глазам, я зажмуривался, сбивался с ритма, наступал Милке на ноги, и она начинала злиться:
– У тебя совершенно нет способности к танцу… или тебе медведь на ухо наступил! Ну, Додик! А может, ты не хочешь учиться?! – вдруг спохватывалась она, и всё обрывалось у меня внутри – я никак не мог лишиться счастья так долго стоять рядом с ней, касаться её горячей ладошки, ощущать её дыхание на своём лице и жадно искать неповторимый Милкин запах…
– Нет! – почти кричал я. – Что ты! Может, я не такой способный, но очень, очень хочу научиться! Не сердись! Я больше не буду!.. И не было никакого медведя… не было… Мама, наоборот, говорила, что у меня замечательный слух, только нет возможности развивать его…
– Ты умеешь хранить тайну, Додик? – Милка остановилась и так близко посмотрела мне в глаза своими серыми огромными глазищами, что я даже задохнулся…
– Конечно, умею! – мне обидно стало, что она такое спрашивает…
– Мы, наверно, скоро уедем… – прошептала Милка и оглянулась.
– Куда, Милка? – сердце у меня замерло на мгновенье и потом сильно защемило, так что я зажмурился…
– Я вчера подслушала… они думают, что я плохо понимаю по-еврейски… Отец говорил маме, что всё равно тут жить не дадут… в этой милухе… а сейчас есть возможность… так надо любым способом постараться… Понимаешь? – я ничего не понимал, но мотнул головой. – А мама говорит ему: «Страшно!». А он дико разозлился и прямо зашипел: «Ан алте бхейме! Зиц до унд варт! Варт! Зей велт вайзен алемен! Алемен!»… Ты понял? И кулаком стал махать…
Я почувствовал, что надвигается что-то страшное, непонятное и непоправимое в моей жизни и прошептал:
– А как же я, Милка, как же я?.. Без тебя…
– Нареше копф! Я поэтому тебе и сказала! Только ты никому не говори, что я! Никому! Если ты мне друг! Но ты должен сказать своей маме, что знаешь про это.
– Про что, Милка?
– Ты совсем маленький, Додик… совсем… я не знаю, куда и как, но раз отец сказал… может быть, мы уедем вместе…
И я понял в тот момент, что готов ехать куда угодно, но только туда, где будет она… потому что невозможно даже представить, что Милки нет рядом… И за забором, где мы сейчас стоим, будут жить совсем чужие люди. Ни один голос на свете не похож на её голос, и ни одни глаза, такие серые и такие глубокие, и нет ни одного запаха, который можно спутать с её запахом… Ну, почему, почему так устроен мир, что кто-то может взять и решить за другого, куда ему ехать и с кем расставаться… почему?!».
Наташа позвонила и сразу попросила не бросать трубку:
– Нам надо поговорить. Я прошу тебя, Давид! В конце концов, ты не имеешь права мне отказать хоть в этом!
– На каком основании?!
– Да на простом: ты человек, и я – человек!..
– Философски, Наташа, но, по-моему, всё уже сказано… я не люблю выяснять отношения…
– Я прошу, Боже мой, не заставляй меня унижаться…
Он представил, как она стоит у телефона с сигаретой, на одной ноге, почёсывая икру подъёмом второй ноги, голубенький махровый халатик с перехлёстнутыми полами и скрученный-перекрученный поясочек на талии… «А вдруг и правда всё враньё… какая-нибудь сука сболтнула, чтобы насолить ей, нагадить ему… позвонили, написали… это так давно практикуется… может, неправда?! И я снова могу смотреть на неё и удивляться: неужели эти глаза мои и неужели я могу целовать эти губы, когда хочу? За что мне так повезло?». Он сжал зубы, зажмурился и почувствовал, как перехватило дыхание… «Если попячусь – это будет конец. Не тому, что у нас было, – это давно кончилось. Не ей. Не „любви“, чёрт бы побрал это изнасилованное слово! Мне конец! Во всём и навсегда!».
– Тебе неинтересно, что со мной происходит?
Они стояли на просторной площадке между этажами в библиотеке. Минуту назад Наташа шла сверху. Не спеша, чуть поворачивая носок туфли вбок на скользкой гранитной ступеньке. Она всегда чувствовала, что на неё смотрят… ещё девчонкой на деревенском лугу знала это… Додик поднимался вверх и смотрел на неё, не отрываясь. «Красивая. Очень. Красивая… она красивая. Я – идиот!». Он отвернулся к окну: «Там жизнь. И до нас никому никакого дела. У каждого своя драма и часто почище, чем у нас…». Наташа попыталась за рукав развернуть его лицом к себе.
– Додик, я знаю, тебе наговорили чёрт-те что, и ты поверил! Степанов здесь ни при чём!..
– Послушай, Наталья, когда ты станешь совсем знаменитой, – он так и смотрел в сторону, – об этом будут знать все… а пока мне совсем не обязательно выслушивать от тебя, с кем ты теперь спишь…
– Ты стал таким грубым, Додик! На тебя плохо влияет писательская среда… Может быть, хватит дуться… и верить сплетням…
– Я не дуюсь!.. Понимаешь, второй номер бывает в пулемётном расчёте, в звене истребителей… – он покрутил рукой в воздухе. – В теннисе, в волейболе! Во: в футбольной команде…
– Не хами, Додик, тебе это не идёт! Ты не так воспитан…
– Жаль!
– Что? Что жаль? Ты сам виноват!
– Жаль, что мне не идёт… так хочется нахамить тебе… может быть, стукнуть… обозвать и послать… – он смотрел на неё изучающе. – Этого мало?..
– Глупо… я просто люблю тебя… – она закусила губы и побледнела, – каждый человек может ошибиться, понимаешь? Каждый!
– Понимаю! Поэтому и дал тебе возможность ошибаться, сколько угодно, чтобы не сковывать твоей свободы, но не хочу исправлять твои ошибки…
– А тебе можно? – перебила Наталья, и губы её вытянулись в две струнки и побледнели…
– Да. Правда. Я ошибся… и теперь исправил свою ошибку сам… Меня больше нет, понимаешь… я хочу всегда быть первым…
– Поэтому нашёл себе девочку! – перебила Наталья.
– Наташа, мы чужие люди… пойми… это правда, и навсегда… поэтому не суди обо мне… я не знаменитость… и мне для карьеры не нужна скандальная богемная грязная слава…
– Какой же ты пошляк!
– Правда! В наше время говорить то, что думаешь, – пошло и глупо…
– Ты упрекаешь меня в моей провинциальности, не возражай. Я же чувствую. А сам?..
– Ну, при чём же здесь я? – взорвался Додик. – Ты уже доказала мне, что я полное ничтожество, что не ценю твой талант, что ты превозмогла такие обстоятельства, что я должен непрерывно восхищаться… Ну, ты нарочно или нечаянно спутала сцену и жизнь, свалила всё в одно… это на сцене можно легко заменить заболевшего героя-любовника или субретку… какие там ещё амплуа – я не драматург… это там можно развести интригу, переспать ради роли с режиссёром, подставить ножку партнёрше… а мне вовсе неважно, что делается на сцене… я в своей-то жизни никак не разберусь… Я не от восхищения к твоим ногам упал… совсем от другого, а ты даже не наклонилась посмотреть, кто там… просто вытерла об меня ноги и перешагнула… зачем тебе какой-то ни то ни сё, который всё никак в люди не выбьется… ты так стремительно шагаешь… из провинции притащилась в столицу, с первого захода поступила в театральный. С третьего курса начала сниматься, в театр модный попала… ну, сказка про Золушку… ну, спасибо лично генеральному секретарю и советскому правительству за счастливое детство… я здесь при чём? Найдётся тот, кто тебя оценит! А победителей не судят! И цель оправдывает средства!.. Всё. Прости меня. Я никого, никогда не сужу! Не облечён такими божественными полномочиями… всё. Прощальный бал отменяется. Хотя невеста вся в белом!
– Ну, прощай! – в её голосе звучала угроза. – Ты ещё пожалеешь… вот увидишь… – она развернулась, сбежала вниз по лестнице и хлопнула дверью…
– Я уже жалею… – задумчиво пробормотал Додик. – И ничего не исправлю… и не попытаюсь… но урок мне не на пользу… всё равно… я чувствую: это опять повторится…
– Ты не замёрз ждать? – Вера выскочила из парадного в пальто нараспашку с рассыпанными по невысокому вздёрнутому воротничку локонами. У Додика всё сжалось внутри и закричало: «Нет! Нет! Я готов тебя такую ждать всегда! Бесконечно!».
– Искусство требует жертв, – произнёс он безнадёжным голосом. – А такое прекрасное – вдесятеро!
– Прости! Неудобно! Известный писатель – и так мёрзнет на улице.
– А неизвестного и не писателя удобно? Соблюдаешь субординацию? – его всё же задело бесцельное блуждание по улице взад-вперёд! – Это откуда у тебя?
– В семье офицера выросла! – она тоже начинала сердиться.
– Давай сначала погреемся, а потом обсудим! Лучше будет думаться…
– Ну, не сердись… – примиряюще сдалась Верочка и поцеловала его. – Мне даже мой Израилич сказал: «Верочка, сегодня мы совсем заморозим вашего мальчика… ты бы его пригласила, что ли… посидеть с нами… я разрешаю…».
Вообще-то он никого не пускал на уроки. Только свои ученики могли присутствовать, и это даже приветствовалось… «рекомендовалось», как он выражался. У Якова Израилевича была на то своя теория, которую можно было по крупицам составить из его высказываний. Во-первых, он считал неэтичным допускать к себе учеников другого педагога, не уведомив его, потому что ученик не должен разбрасываться. Дело даже не в том, что «чужой» педагог лучше «моего», а в том, что подопечный не видит всего пути, намеченного мастером, и судит по частностям. Посещение другого педагога и следование его советам сбивает намеченную линию. Музыканты – народ увлекающийся, начинают пробовать и так и этак, а в результате остаются без прочной классической школы, а натасканные обрывками чужих методик… Во-вторых, Яков Израилевич считал, что, когда его студенты следят за тем, как играет товарищ, подмечают его ошибки, а следом и то, как он их исправляет, – очень важно… В-третьих, чем больше человек находится в мире музыки, тем лучше для него, а для музыканта – просто нет другой атмосферы в жизни, в этом он был уверен… Было ещё и в-четвёртых, и в-пятых, но об этом можно было услышать крайне редко и не каждому… Он рассказывал, что, когда сидел, и у него, естественно, не было инструмента, каждый день играл «в уме»… и мозг подавал пальцам сигналы, равные тем, которые возникают во время «настоящей» игры с касанием клавиш… так что уметь «играть без рояля» так же важно… и «при чужих всего не скажешь, не так понять могут»…
Чего не знали его нынешние ученики – что на самом деле так и было. Настучал на него студент другого профессора, его коллеги. Мальчишка, очевидно, пытавшийся восполнить недостачу таланта таким способом… И три года… три года…
Он вернулся сразу после смерти вождя, полностью оправданный… и возмущённый. Возмущённый не ложным наветом, но «оправданием». В чём? Значит, была какая-то его вина? Не вина подлеца, которого он знал как благополучного теперь чиновника, так и продолжавшего делать карьеру около музыки…
Додик сидел в углу на стуле, отвернувшись от Веры, чтобы не смущать её…
– Девочка! – профессор положил раскрытую ладонь на крышку рояля и в упор смотрел на Веру, чуть наклонившись к ней. – Трудность Шопена в его кажущейся лёгкости, да? В простоте и логичности письма… Сыграно согласно нотам всё замечательно, но так ли чувствовал Шопен? Вот в чём дело!.. Да? Чтобы передать его страдания, есть два пути: пройти то, что прошёл он. Отметаем сразу. Невозможно пройти чужой путь, да и свой дважды, невозможно страдать за всех великих… у них и страдания были великими! Но возможно понять их из их же текста и вообразить! Вот именно то, чем надо заниматься! Да? Воображение – предмет увлекательный и первостепенный! Понимаешь, девочка?!. Его лёгкость от великой глубины! Там, в глубине, ты паришь, потому что напитана ею и приобрела такой же вес… ах, как это передать… вот послушай! Шопен выше всех слов, послушай… – и руки его легли на клавиатуру.
Началась Музыка. Он в этот момент отдавал всё, что накопилось. Он хотел, мечтал, стремился, чтобы эта талантливая девочка, в которую верил, сделала наконец ещё один маленький шажочек, который будет уже там, в пространстве Шопена… этот крошечный шажок, который отделяет ученика от творца… Неожиданно для себя Додик почувствовал, что щёки его совершенно мокрые и солёные капельки скатываются по ним в уголки губ… он расплывающимся сквозь слёзы взглядом увидел бледную, стоящую в торце клавиатуры Веру, её полураскрытый рот и часто-часто бьющуюся на шее жилку, и… закрыл глаза, чтобы не разрыдаться…
Рояль замолчал. И все молчали…
– Он, наверное, умер, потому что всё сказал… что ему велел Б-г… а страдать больше не было сил… – тихо произнёс профессор, поднял взгляд с клавиатуры и перевёл его на Веру. – Надо рисовать не осень, которую видишь, а то, что ты чувствуешь, когда видишь эту осень… понимаешь, да? Только это интересно… копия – это рабство… а прекрасна лишь свобода… – все молчали. – Есть одно стихотворение… Вашего коллеги, – вдруг обратился он к Додику и снова замолчал. – Из того, что не печатают, – и опять пауза. – Пока… пока… не печатают, – он вздохнул. – Но как раз об этом…
Оконная рама, как рама картины, —
Природа палитры своей не таит —
Видны и тончайшая нить паутины,
И солнце, прожёгшее медью зенит.
Зачем рисовать, если всё здесь открыто:
И листик, и неба прозрачная гладь,
И в нём самолёта крутая орбита,
И каждый здесь может своё увидать!..
Затем вот, затем, что на холст переносят
Не солнце и небо, леса и ручьи,
А то, чего сердце безудержно просит,
А только лишь нервы и чувства свои!..
Ночью, в душном забытье, к нему вернулась мама и долго ничего не говорила. Она пристально смотрела, поочерёдно выгибала все свои длинные пальцы, уперев их в ладонь другой руки. Казалось, этой муке не будет конца, но она тихо произнесла губами: «Додик, почему у тебя одни гойки? У тебя не было ни одной еврейской девушки, Додик! Подумай! Что это значит?.. Если ты просто гуляешь с ними – это нечестно… они же верят тебе! А если ты хочешь на самом деле жениться на гойке – не делай этого! Они все очень хорошие, может быть, но однажды ты очень пожалеешь об этом!..». И она пропала опять, а ему стало страшно во сне уже, что она, значит, где-то рядом! Никуда она не улетела! Ни она, ни душа её! Она рядом и всё знает про него, следит за ним… и переживает!!! Он всю жизнь огорчал её, и теперь опять…
Он проснулся и так ясно ощущал видение, что даже потрогал вокруг руками постель, тумбочку с лампой, тревожный колпачок будильника… «Что же это всё значит?.. Ну, верно, снится то, о чём думаешь, но это всё объяснения, а мама была здесь, рядом, откуда она знает… и как же она может судить, если с ними не знакома! Ну, Веру-то она никогда в глаза не видела! Как это всё понимать? Что за предупреждения такие… И если моя мама, которая так меня любила… нет, любит… говорит такое, то наверняка её мать тоже скажет: „Не выходи за еврея!“ – у него нехорошо похолодело внутри! – Только нельзя этого произносить вслух, потому что всякая мысль материализуется – и я это хорошо знаю… проверял уже…».
Он поплёлся на переговорный пункт и заказал разговор. В тесную комнатку было втиснуто две телефонные кабинки, и, когда в них открывалась дверь, вспыхивал свет. Люди кричали в трубку, огораживая ладошкой рот и направляя звук, но всё равно было, наверное, плохо слышно. Все выходили из кабинок взмокшие от волнения, от страха, что не расслышат, не поймут, что кончатся минуты – и не успеешь сказать главного… Додик вернулся к стойке, перегнулся к девушке и сказал, чтобы добавила ему ещё три минуты… Она улыбнулась в ответ, покачала кокетливо головой и проворковала: «Ладно, ладно, и кому это вы звоните?!». Додик ничего не ответил… Он не сразу понял, что вызывают его, когда телефонистка объявила: «Алма-Ата! Вторая кабина!».
Слышно было очень хорошо, только шорохи и потрескивание всё время напоминали, как далеко они друг от друга.
– Что случилось, Додик? – голос отца был привычный и требовательный.
– Ничего не случилось, папа, ко мне приходила сегодня мама!..
– Что? – не понял отец. – Как приходила?
– Первый раз так, папа, и я подумал, что у тебя, может, что-то неладно?
– Ой, готеню, что ты выдумываешь, Додик. Ты меня напугал. В наше время звонят так далеко только по плохим поводам. У тебя всё в порядке?.. Что она тебе сказала?..
– Что может сказать наша мама? Она волнуется за меня. Знаешь, откуда она может знать про меня… её уже нет три года, а она знает, что со мной сейчас… Извини, отец…
– Подожди! Не клади трубку! Чёрт с ними, с деньгами! Когда она приходила? Вчера?..
– Нет, сегодня!
– А ко мне вчера… – отец долго молчал и продолжил: – Нам надо быть вместе. Она мне сказала, что нам надо быть вместе… её нет, а нам надо… Как ты на это смотришь?.. Мы будем менять квартиру… не волнуйся, нам не обязательно жить в одной, но хотя бы в одном городе… и недалеко… ты согласен?.. Знаешь что?.. Что ты молчишь, Додик?
– Я здесь, папа, здесь…
– Сходи на кладбище… у тебя есть деньги?
– О чём ты, папа?
– Купи анютины глазки и посади… ты слышишь?.. она их очень любила…
– Слышу, слышу…
– Если бы я мог!.. Мне бы тоже полегчало!.. – трубка сразу глухо замолчала.
«Плохое длится, длится… а хорошее всегда так резко обрывается – и всё». Додик медленно направился к выходу.
– Молодой человек! – он не понял, что зовут его. – Молодой человек, сдачу возьмите! – он обернулся, махнул рукой и приоткрыл дверь. – Молодой человек, подождите! – телефонистка вышла из-за своего ограждения и подошла к Додику. – Что это вы деньгами так разбрасываетесь! Возьмите, пожалуйста, сдачи четыре пятьдесят, нам чужого не надо! Что ваша жена скажет?
– У меня нет жены, – машинально проговорил Додик, – спасибо!.. – он протянул руку.
– Возьмите меня, – совершенно серьёзно произнесла телефонистка.
Додик оглянулся – в комнате никого не было, только толстый дядька сипел в кабинке номер один: «Клава, Клава, ну погоди!». И повторял это бесконечно. Перед ним стояла красивая сероглазая, желтоволосая… какая-то похожая сразу на всех красивых, и внимательно смотрела… «Что за мистика… я сегодня никак не проснусь… она тоже гойка… а мне нельзя жениться на гойке? Вот, чем плохая жена? Наверное, живёт с мамой… ещё младший брат, школьник… Сколько ей? Двадцать четыре? Двадцать пять? В институт не прошла – подалась на вечернее! Летом шесть соток по воскресеньям – огурцы в банках, в деревню в отпуск на двадцать четыре дня или в Сочи… Закончит МТИЛП, станет товароведом – обеспеченный человек – вот судьба… а тут гойка…».
– А как вас зовут?
– Мила!
– Что? – Додик подался вперёд.
– Полностью Людмила, а мама зовёт Мила.
– И у вас есть брат?
– Есть…
– Он в школе учится…
– Да! – теперь удивилась Мила… – Вы меня видели, вы где-то рядом живёте?
– Да, да, да… – Додик будто улетел и вернулся. – А телефон дадите?
– Лучше сюда звонить, – возразила она, – дома не поговоришь… Деньги, – напомнила она, потому что дверь распахнулась и запела пружина. Она вложила в Додикову ладонь деньги и упорхнула за стойку.
Додик сидел на скамейке, смотрел на шпиль высотки и ждал, когда солнечный блик переползёт на очередную грань. Он думал, что вместе с движением времени опять перенесётся в реальный мир и успокоится. Что значат все эти сегодняшние протуберанцы: мама, разговор с отцом – он никогда таким откровенным не был, особенно после того, как умерла мама, а он женился снова… и очень скоро… и уехал от осуждения родственников и знакомых… Жена его оказалась из Казахстана… застряла там в эвакуации после бегства из осаждённого Ленинграда… жила там с мамой, отец её погиб… «Сколько же её-то маме? Уж наверняка за восемьдесят?..». Что всё это значит? Теперь Мила… от этого имени… «Нет, она Людмила, а Милка – как была полностью? Хм…». Додик даже улыбнулся: он не знал полного Милкиного имени: Милка Шухман – и всё!.. «Надо же!».
С Лысым Додик встретился случайно, на перепутье.
– Ты совсем не появляешься что-то, – мирно констатировал Николай Иванович.
– Пишу. Занят, – смягчился насторожившийся было Додик.
– Зайди, почитай… это тот рассказ, про Милку… мне очень понравился… правда… Хочешь, я тебе напишу предисловие к нему… это, наверное, на повесть потянет… может, легче будет протолкнуть… Зря ты на моё предложение не согласился… всё ещё в силе, заходи… мне нравится, как ты пишешь…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































