Читать книгу "Прошлое без перерыва. Книга повестей"
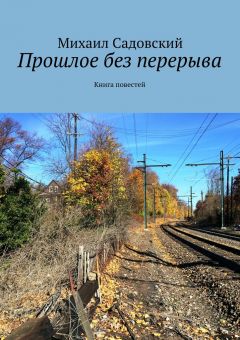
Автор книги: Михаил Садовский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
«Если б кому из местных или знакомых отдать? Да кто здесь захочет, в их глуши? А не найдётся никто – одна у него дорога: со сменой белья да несколькими сотнями в кармане из одного казённого дома да в другой. Там зэки обучат. До конца жизни. А жизнь вся: от одной отсидки до другой… Он мягкий – устоять не сможет… Хорошо, что Семён позвонил… Он не спешит, основательно всё готовит, а когда созрело – подсекает… И не скаредничает, всех оделит… У нас без этого никак! – она вздохнула и остановилась в раздумье. – Надо у него обувки для ребят попросить снова из фонда этой сумасшедшей бабы американской, что померла, а всё своё состояние миллионное завещала только на обувку детям-сиротам… Сумасшедшая, сумасшедшая, а повезло, считай! Там такие деньжищи, что во всём мире всех сирот обуть можно! – мысли её бежали, перекрещиваясь, перескакивая со своего личного, на детский дом, на Семёна, да и вряд ли могла она отделить теперь свою жизнь от всего, что окружало её на работе с утра до вечера, и тревожило, и не давало спать по ночам. – Настя уж заневестилась, впору мне внуков иметь. Бросить всё и сидеть их нянчить… В такие времена только глаз да глаз за ними, чтоб в сторону не ушли, с колеи не сбились… Да и где она, колея эта? А уйти на покой, кто кормить будет? На пенсию подыхать? Нет уж…»
Ирина Васильевна вдруг резко поддёрнула рукав, посмотрела на часы и направилась к телефону-автомату. Она на память набрала номер и терпеливо пережидала длинные гудки. Наконец, когда уже решила повесить трубку, там прозвучало сквозь треск и шорохи: «Сиротенко слушает…»
– Иван Михалыч! Вы никак уходить собрались?! Жаль!.. – сказала она вместо приветствия.
– Ирина Васильевна, вы, что ли? – отозвалась трубка.
– Я, я, конечно! Кому ж ещё! – весёлым голосом подтвердила Ирина Васильевна. – Слышите, Иван Михалыч, вы погодите маленько, не уходите, мне с вами поговорить надо!
– Срочно?
– Очень! Я сейчас на улице уже, до автобуса только, и в город – через час буду, – трубка молчала. – Алё, алё, Иван Михалыч, вы меня слышите?
– Да слышу я! – буркнуло в трубке. – Ты вот что… Да погоди, не перебивай! – он перешёл на «ты» и пресёк попытку возразить ему. – Ты домой иди. У меня машина в ваших краях возвращаться скоро будет, сейчас Фёдора выловлю, да за тобой пришлю. Так быстрее будет, раз срочно… Слушай, я давно спросить тебя хотел, да всё неудобно, а по телефону-то что, глаз ведь не видишь! – голос Сиротенко звучал теперь без хрипотцы, совершенно молодо. – Сколько лет тебе? А? Что ты всё никак не угомонишься? Ох, был бы я помоложе…
– Может, хотел сказать, была бы я помоложе! Чего лукавишь?! – тоже переходя на «ты» ответила Волоскова. – Ну, спасибо! – и она повесила трубку.
Разговор их в кабинете продолжился, будто и не было часового перерыва. За окном синяя мгла ещё не настолько загустела, чтобы скрыть чёрную непроницаемую стену дальнего запольного леса. Казалось, художник загрунтовал холст разными тонами и теперь раздумывает, какой более подходит ему, и что ляжет на него естественнее и яснее.
– Ты моего Пашку Лесного помнишь? – Ирина Васильевна задала вопрос и терпеливо ждала ответа, хотя знала его наперёд.
– Шутишь! – деланно возмутился Сиротенко и крутнулся за столом в удобном кресле. – Как всех упомнить…
– Ну, неважно! Забыл… Я тебе рассказывала. Девчонка вместе с Настей моей ещё в детский сад ходила, потом в школе они учились вместе. И вот родила Пашку, понимаешь, когда саму ещё нянчить надо было.
Собеседник сосредоточенно слушал, хотя ясно было, что ничего из сказанного не припоминает, но готов сделать вид, что всё вспомнил. Он даже рот приоткрыл, чтобы сказать это.
– Ну, неважно, неважно… Ты вот что… Ты не можешь его взять в больницу к себе на время? На обследование.
– В больницу?
– Да, знаешь, мне позвонил…
– Погоди! – перебил её Сиротенко и резко встал. – Погоди! – он обошёл стол и остановился около Ирины Васильевны. – Пойдём, выпьем чаю! А то устал я что-то, – он взял Ирину Васильевну под локоть, за дверью в приёмной нажал какие-то кнопки на селекторе, стоявшем на столе ушедшей уже секретарши, и они вышли в коридор. – Вот теперь и расскажешь, – предложил он мягко. – Извини, так лучше, не в рабочей обстановке… Пойдём по двору погуляем. Больные в это время все по палатам.
– Мать у него – наркоманка и пьяница, в графе отец – прочерк. Никто не знает, кто он. Запугали, видно, девчонку по малолетству, а может, вправду, сама не знает… Здесь мальчишку никто не возьмёт, кому он нужен, а тут подходящий вариант, Семён звонил… Но ты же знаешь, как теперь сложно – мы ж только совсем больных за рубеж отдавать имеем право, которых у нас не возьмёт никто… Чтоб не обвинили, что детьми торгуем… А там лечить умеют… Ну, вот, обследуй, пожалуйста, при такой-то наследственности у него что хошь найти можно… Он, и правда, какой-то заторможенный… И губа… Хороший мальчишка, что ему тут?..
– Всё сказала? – повернул к ней голову Сиротенко.
– Ну…
– А ты никогда не задумывалась, Ирина Михайловна, отчего у меня фамилия такая? А? Ну, ладно, я тебе как-нибудь в другой раз расскажу… Что ты на меня так смотришь? Нет, у меня оба родителя в положенных графах, и не алкоголики, а наркоманов тогда ещё и не водилось… Мне её власть подарила… Ладно, чегой-то я?! Понял я всё, понял. Только ты меня в другой раз, когда поговорить надо срочно, – он особо нажал на это слово, – ты меня просто на чай пригласи, ладно? Ну, пойдём, и вправду, выпьем чаю, или ещё чего-нибудь! Что ж это я красивую женщину так встречаю!
Трындычиха сочиняла дерзко и вдохновенно. Она вообще любому делу отдавалась целиком – и душой, и телом. Тонкую шариковую ручку со всех сторон, как патрон дрели, обхватили пять коротеньких толстых пальцев, она вся подалась чуть вперёд над столом, потому что толстая рука загораживала взгляду тетрадочный лист.
«Эта женщина, с позволения сказать, мать, детей по дороге, как корова лепёшки роняет, – выводила она медленно большими круглыми буквами. Они не умещались в маленькие клеточки, и пришлось уже однажды начинать всё сызнова на другом листе, потому что строчки совсем налезли друг на друга. – А потом другие граждане страны в трудное время должны за её плодами ухаживать и воспитанием заниматься, что отнимает деньги у государства и населения, вместо прибавить зарплату и пенсии».
Тут она задумалась надолго. Ей почему-то вспомнилась её бабка, которая получала пенсию семнадцать рублей – старых ещё, брежневских. Всю жизнь в колхозе ломила, а пенсия ей вышла по старости вот такая. К чему это она припомнила, сама понять не могла. Всплыла в памяти такая картинка: бабка выводит закорючку в листе у почтальона Николая Петровича, а потом он ей отсчитывает рубли, ещё раз перекладывает бумажки, протягивает и произносит каждый раз одно и то же: «Смотри, Семёновна, не упейся!» Бабка молча принимает положенное и безнадежно машет на него крупной рукой: «Небось! Не впервой». Она не благодарит, не прощается, поворачивается и уходит с крыльца в сени молча.
Галина снова вернулась к своему сочинению, перечитала с самого начала: «Уважаемый господин…»
«Может, сразу президенту написать?» – усомнилась она. Но подумала, что до Москвы далеко. Письмо могут потерять, и читать там долго будут, а тут свои-то поближе и разобраться легче.
В том, что разбираться будут и непременно дотошно и скоро, она не сомневалась. Такое творится! Это что же будет, если и другие так?..
Надо непременно, чтоб в газеты всё попало, и выговор ей вынести. Публично! Вот ведь сука, небось, и не знает, от кого семя! Вахтовики едут – она за ними! То убрать, то постирать, а кто отец потом и не знает… Да и мужиков, как винить? Им там, на буровой, терпежу нету.
«Лучше всего в милицию, – решила Трындычиха. – У них и следователи, и прокуроры, и транспорт. А в случае чего Николай подтвердит, я ж ему всё рассказывала!»
И она исправила крупно: «Начальник милиции». Пришлось опять всё переписывать. Но теперь она делала это быстрее, стараясь не вникать в слова, и чтобы получилось ровно и красиво. Потом она запечатала конверт. Крупно вывела «Начальнику милиции» и, держа его в полусогнутой руке перед собой, отправилась узнавать адрес на почту.
– Какой государственной важности? – с презрением отреагировал Николай на её рассказ. – Какой?! Мало идиотов, что ли, на свете, чего ты лезешь-то?!
Это возмутило Трындычиху ужасно, она повернулась уходить и так и стояла в пол-оборота к сидящему за столом, а он никак не мог успокоиться:
– Ты подумай, ну, причём тут милиция? Ну? Что бабе, замок, что ли, на одно место повесить или часового приставить?! Так с какой стати?! Пошлёт она его куда подальше! Тебе зарплату дают – и работай! Какое тебе дело, чьи дети?! Теперь твои – ты и ходи за ними. А не нравится, иди в другое место! Теперь свобода и рабочих мест навалом! А то письмо писать! Поди, забери! Небось, и адрес свой не написала? Анонимное?
– А вот написала! – мотнула толстым задом Трындычиха и показала Николаю язык. – Я тоже законы знаю! А милиция для того и есть, чтобы все жили правильно, понял?! Не заберу!
Так и поползло это письмо со стола на стол. Кто, читая, усмехался, кто задумывался, до чего довела жизнь их женщин! Никому не хотелось им заниматься, но оно чудом не затерялось и проросло совершенно неожиданно.
Долгая дорога не казалась изнурительной – столько нового отвлекало внимание от путевого однообразия, что время летело незаметно. Даже задержка местного рейса из-за снегопада в аэропорту со странным названием «Домодедово» не казалась тягостной. За огромным окном двухэтажного зала плавно и бесшумно плыли носатые лайнеры по белому бесконечному морю, при каждом их повороте казалось, будто они вынюхивают дорогу. Оранжевые снегочистилки выстраивались лесенкой и двигали перед собой белую гору, которая постепенно съезжала от машины к машине и выкладывалась ровным снежным валом вдоль бетонной полосы. Белое облако пара и снежинок клубилось над этой упорной шеренгой и неохотно оседало за ней на землю.
– Здесь всегда столько снега? – Кити повернулась назад к сидящим перед окном родителям.
– Говорят, в этом году зима особо снежная выдалась. А летом тут жарко, – объяснил Том.
– Как у нас, в Нью-Джерси? – Кити не могла удержать свои вопросы.
– Почти, – Том думал о своём.
Иногда странный холод в груди словно останавливал его непроизносимым вопросом: «Может, зря я всё это затеял? Бог знает, кому что положено… Кесарю кесарево… И если бы это только меня касалось… расходы… заботы… и главное, дети. Это сейчас они ждут – не дождутся. А вдруг не поладят? Хотя они, конечно, добрые и уступчивые, но это, когда просто играют с чужими час-два. А тут-то навсегда! Это не чужой! Он им брат… брат…»
– А что он любит, ты знаешь?
– Любит?
«Она это так странно говорит, будто на день рождения собирается к кому-то и спрашивает: что ему купить, что он любит?» – подумал Том и не сразу ответил:
– Вот ты и узнаешь! Для чего тебя взяли? Детям легче понять друг друга!
– Как же я его пойму? Он разве умеет говорить по-английски?
– Понимают вовсе не по словам! – вступила Дороти. – Слова часто… Ну, словами иногда сказать невозможно то, что сердце понимает… А английский он выучит быстро.
– А как? – не унималась Кити.
– Как? – Том даже почесал в затылке. – Да запросто! Он же не в гости приехал.
Том вдруг на секунду остановился и мельком подумал: «Уже приехал?! Вот как! Значит, всё верно!»
– Он же не в гости, – повторил он, – а насовсем! Понимаешь?
– Конечно, понимаю! – очень серьёзно подтвердила Кити и вдруг замолчала. Она чуть помешкала и, переводя взгляд с одного на другого, поучающе произнесла совсем тихо и внушительно: – Только вы никогда не должны ругать его! Никогда! Понимаете! Нас с Мэри и Лизи – можно! Сколько хотите! А его – нет! Понимаете? – она больше ничего не произносила и ждала подтверждения.
– Ну… – замешкалась Дороти и ответила, подавляя улыбку: – Ну, а если он что-то не так делает или ошибается? Замечание-то сделать можно?
– Ну, замечание… – поколебалась Кити. – Замечание, наверное, можно… Но лучше ты мне скажи, а я ему… А как по-английски будет Паша? – вдруг встрепенулась она.
– Паша, как говорится, и в Америке – Паша! – оживился Том и притянул дочь за руку к себе на колени. Он уткнулся носом в её щёку и забасил как буксир на реке: «Бу-ту-ту-у бу-ту!» И Кити засмеялась таким счастливым смехом от щекотки и от того, что впервые смогла произнести имя «Паша», которое повторяла про себя всю дорогу, что у Тома невольно выступили слёзы на глазах. Он догадался, отчего так весело и беззаботно смеётся дочка, почувствовал, как спало напряжение, и знакомый голос прошептал ему внутри: «Всё будет хорошо! Всё хорошо будет!»
Ирина Васильевна встретила гостей приветливо и спокойно. Не первый раз уже приезжали за детьми из Америки, но каждый раз она с ревнивым чувством приглядывалась к новым родителям своих питомцев, кому её дети достанутся? Какие ни какие, а все они были свои. В повседневной спешке редко она уделяла им внимание, хоть и знала всех по именам. Директор – это большой завхоз: достать, обеспечить, отчитаться, выбить…
«Иностранцам и не объяснишь, наверное, – думала она, – как нам всё достаётся… Да и у них, небось, с неба не падает!»
Но когда случались праздники, и она слушала, как знакомые уже полвека песни выводят детские голоса, когда смотрела, как ребята отплясывают в хороводе, – это отодвигало вглубь суету будней и высвечивало улыбки детей – все они представали совсем другими, своими, близкими. И она ловила себя на том, что вдруг в разгар веселья или шумной детской трапезы сердце её сжималось оттого, что, как ни крути, они здесь, у неё в детском доме и не побегут после праздника домой к маме и папе. А она хоть семи пядей во лбу будь, хоть наизнанку вывернись, ни мать, ни отца, ни деда с бабкой им всё равно не заменит. И часто такую тоску видела она в ребячьих глазах, что не могла в них смотреть и отводила взгляд.
Одно время уж совсем ей не по себе стало, когда опять не то, что деликатесов и нарядов не достать стало, а как в войну – хлеба не хватало. Решила она бросить всё и заняться чем-нибудь другим. Чем угодно. Только невмоготу ей стало полуголодных детей видеть и у себя в детдоме, и по помойкам рыскающих в поисках съестного, и оборвышей бездомных, готовых на любую услугу, лишь бы копейку взрослые заплатили да покормили… И тут послали её в ознакомительную поездку, как бы на обмен опытом, поделиться достижениями в другую область. Нагляделась она там, наобменивалась, вернулась и решила: «Нет, не уйду. О себе думать, ещё раньше с кона сойдёшь. Всё равно столько лет тут оттрубила, что теперь не отрежешь – от себя никуда не денешься, и память заместить нечем, и станут они мне все, что столько лет со мной живут, сниться по ночам: что с ними стало, да кому они достались? Кто его знает, кого пришлют?.. Нет». И она осталась. Осталась и знала, что навсегда!
Поэтому она так ревниво и придирчиво осматривала приезжавших. А Пашка… Пашка – особая статья. Хоть и знала она, что ничего не изменит.
Может, конечно, если очень не понравятся ей люди, заартачиться и поперёк встать. Может. Да не станет…
Даже не в том дело, что в богатую Америку отдавала ребёнка, где и оденут, и обуют, и полечат – богатая страна, правда. Не это главное: в семью отдавала! К маме и папе! А когда материнским сердцем чувствовала, как рады её мальчишке или девчонке приехавшие забирать его, хорошо ей становилось и радостно.
«Какая разница, куда он едет! Лишь бы хорошо ему было! Раз в России обнищал народ сейчас, пускай хоть в Америку…»
Тому директриса показалась строгой и неприветливой. Они украдкой переглянулись с Дороти, а когда Кити ещё тихонько спросила: «Папа, почему тут так невкусно пахнет?» – настроение у Тома совсем испортилось.
Пашка дичился и не хотел подойти к ним, рта не раскрывал – хоть бы слово, чтоб голос его услышать, и даже от подарков, которые ему протягивала Кити, отказался. Так и остались они лежать на директорском диване в кабинете. Гулять он согласился пойти, только когда Зинка взяла его за руку и сказала, что сама поведёт по двору и на горку.
Его мальчишеский опыт был таким крошечным, ничтожным, а мужчин он видел так редко, что и сравнивать было не с чем. Да и говорили гости как-то совсем непонятно. Зачем ему такие мамка и папка? Он всё время смотрел то на мятую сплюснутую шапку на голове Дороти, то на руки Тома, поросшие бронзовой кудрявой, шерстью… И эта девчонка в каких-то синих штанах до шеи… Зачем они? У него есть Зинка и мама Таня, и мама Людмила Васильна, и главная мама Ирина Васильевна – зачем ему другие? Страшно остаться без своих! Как это? Он даже представить не мог… А чужие говорили, говорили всё время, и он не понимал ничего! Только тоненькая вертлявая тётенька всё время крутилась между ними, поправляла очки и повторяла ему какие-то слова про папу и маму, а кто она такая и почему она говорит это – совсем ему было не понятно.
По правде сказать, не удалась первая встреча.
Когда Вилсоны остались втроём, они долго и тупо смотрели на экран телевизора, где шёл по единственной программе какой-то совершенно непонятный не то фильм, не то спектакль. После часового сосредоточенного молчания, когда каждый по-своему пытался вытянуть из глубины и снова припомнить всё, что произошло за день, и решить что-то, Том вдруг произнёс:
– А мне мальчишка понравился! Правда, он симпатичный, Кити? – и всех словно прорвало.
– Ты не переживай, – успокаивала его Дороти. – Знаешь, у русских есть такая поговорка: «Первый блин комом!» – это мне наша переводчица Надя объяснила…
– А вы заметили, какие у него глаза? Какого цвета? – торжествующе спросила Кити, потому что наверняка знала, что ни мама, ни папа не знали.
– И какие? – откликнулся Том.
Кити помедлила, чтобы насладиться победой и выпалила:
– Голубые, как у Лизи! А вы не заметили! Как у Лизи, точь-в-точь!
Почему-то после этого всем стало вдруг легко и хорошо. Никто бы не объяснил, почему… Может, от упоминания о маленькой любимице всей семьи, а, может, от того, что, наконец-то, они увидели своего Пашу и не надо больше гадать, какой он и как их встретит… Уже встретил! И ясно, что у него такие же голубые глаза, как у Лизи!
А Пашка уселся в углу игровой комнаты на стульчик и прижимал к себе одноухого старого медвежонка. Если бы он мог перевести свои чувства и маленькие нехитрые мысли, получилось бы совсем простое житейское: оставьте меня в покое…
Ему было хорошо здесь. Привычно, понятно, тепло, сытно, а если кто-нибудь начинал задирать его в минуту, когда он задумывался, рядом сразу оказывалась Зинка. Зачем ему такие? Он не знал, что дальше… Америка была просто словом, он совсем не понимал, что это значит, а перед глазами его всё время светофорили ярко-рыжие густые кудряшки на руках Тома. Разве он может быть отцом? «Пахой папка!» – наконец сформулировал Пашка и успокоился.
Он положил медвежонка на полку, тянувшуюся вдоль стены. Рядом с другими зверятами ему будет здесь хорошо, и он не убежит. В коридоре никого не было, сюда ребята редко забегали, с двух сторон были закрытые двери кабинетов: кастелянши, врача, директора…
Эта дверь как раз и открылась, и Ирина Васильевна оказалась прямо перед ним.
– Паша! – присела перед ним на корточки Ирина Васильевна и потрепала его ласково за плечо. – Паш, ты за подарками вернулся? Пойдём, я тебе их отдам!
Паша стоял, не шелохнувшись, уперев подбородок в грудь и прикрыв веки.
– Паш, ты чего же не отвечаешь? Там конфетки и книжка, и игрушка такая – кнопочки нажимаешь, а человечки бегать начинают… – но Паша молчал. – Паш, пойдём, а то у меня времени совсем мало! – Ирина Васильевна попыталась потянуть его за рукав, но Паша изо всех силёнок упёрся ногами и стоял на месте…
Оба они не знали, что делать. Ирина Васильевна распрямилась, и в этот момент мальчишечье лицо упёрлось в её живот, она почувствовала, как содрогается от плача маленькое тельце. Она снова присела, двумя руками чуть отодвинула его от себя, чтобы рассмотреть лицо и снова ласково и тихо спросила:
– Ты чего, Паша?
Тогда он поднял на неё полные слёз глаза и кривящимися губами прошепелявил так, что можно было лишь догадаться:
– Пахой папка… не хочу в Америку… не хочу…
Весело и шумно катались ребята на горке. Пашка сначала дичился в стороне, но, подхваченный Зинкой побежал рядом с ней, а когда с другой стороны оказалась Кити, почувствовал, как легко взлетает вверх по скользкому склону. Зинка вроде насупилась и заревновала, но такая весёлая забава чудом освобождает от всяких мыслей. Она уселась на картонку и крепко обхватила впереди сидящего Пашку, а сзади плюхнулась Кити, столкнула с места картонку, на которой они разместились, и все вместе в первый миг медленно, пока не перевалили на склон, а потом стремительно понеслись вниз, подпрыгивая и взвизгивая на каждой кочке! Они вдруг от этих прыжков и неровностей начинали клониться на бок, ещё крепче вцеплялись друг в друга и всё же неожиданно рассыпались, исчезали на миг в снежной пыли и, хохоча, останавливались, распластывались на спине и лежали, замерев.
Взрослые стояли в сторонке, переминаясь с ноги на ногу. Наверняка им тоже хотелось смешаться с ребятами и вернуться назад, в своё детство, когда в такие часы отступали и голод, и неустройство, и ребячьи, а порой и неребячьи, упавшие на их головы, заботы!
Горка! Волшебное место, вечное и нестареющее! Тут все понимают друг друга, все стремятся к одному и все получают безмерно радости, смеха, веселья, счастья!
Том и Дороти смотрели на ребят, переглядывались и ничего не говорили – и так всё было понятно: вот на горке катается Паша, их новый ребёнок, их сын, вместе со своей сестрой Кити, и ничего не надо больше решать и сомневаться – это само собой решилось, и неважно, сколько сомнений, огорчений, ступенек пришлось преодолеть. Теперь это навсегда!
Время шелестит листочками календаря. Этот сквозняк то сильнее, то медленнее. За закрытыми дверями кабинетов он скукоживается и лишь из поддверной щели сочится, чтобы согнать пыль в углы, закрутиться там и улечься. Перебили таблички, сменили мебель, и снова загустело время в кабинетах тех же хозяев.
Неделя пролетела для гостей незаметно, подчинённая одной задаче, и они решили её в первый же день: «Это наш сын!»
А Пашка всё так же дичился, без Зинки общаться с ними не хотел, а подарки получал через неё, из её рук. И голос он подавал редко… Но уже что-то новое можно было заметить в его взгляде: может быть, это было любопытство, может быть, часто повторяемые слова мама и папа разбудили в нём какие-то гены, без которых не бывает ни детства, ни семьи, ни счастья… Ведь существует же ген счастья? Иначе, как объяснишь улыбку родившегося малыша, не различающего людей, но улыбающегося той, что его произвела на свет?!
Пашка уже не убегал от Тома и Дороти, протягивал руку Кити, правда, за другую в это время его обязательно держала Зинка, а за столом, когда обедал и ловко орудовал ложкой, поглядывал исподтишка на проём двери, в котором маячили новые родители. Кити сидела с ним за столом и тоже обедала, но ей было не успеть за Пашкой и другими ребятами, да и вкус того, что она подбирала с тарелки, был непривычным, чужим…
Она скучала по своему столу, по своей еде, по своим сестричкам, которым скоро, когда вернётся, будет показывать фотографии и рассказывать обо всём подробно и долго, и на вопросы отвечать, и фантазировать с ними, как это будет, когда к ним приедет мальчик Паша, их новый брат.
Когда сопоставляешь события, удивительно многое совпадает по времени. Это открывается неожиданно, и хорошо, если одно другому не мешает.
Письмо Трындычиха всё же в последний момент послала на другой адрес – по совету всесведущего почтальона. И копии в разные места отправила.
Как раз в те дни, когда Вильсоны приехали на смотрины, письмо доползло до кабинета Сиротенко и легло в отдельную папку, куда приходила неожидаемая, неофициальная, необязательная почта – самотёк. Из этой папки конверты вынимались не часто, когда был просвет в работе, заседаниях, комиссиях. Но именно в эти дни до него дошла очередь.
Иван Михалыч с удивлением держал перед собой тетрадочный лист в клеточку, исписанный большими крутобокими расползающимися буквами и продавленный с обоих сторон насквозь фиолетовой шариковой ручкой.
Он поморщился, прицепил скрепкой листок поверх конверта, с удивлением прочитал обратный адрес – обычно его не было у таких писем: «Из местных!» – машинально отметил он и отложил письмо в сторону. Но одна фраза так и застряла в его голове, именно та, которая Трындычихе, как ей казалось, особенно удалась: «… детей по дороге, как корова лепёшки, роняет…» Он повторял это снова и снова. От этих слов исходила какая-то искренняя боль и передавалась ему.
«Чёрт-те что! – думал он. – С чего бы эта малограмотная баба так печётся… Ну, кто знает, кто ответит… Кто приучил эту, самую читающую страну, ещё и писать… Доносы…»
Долго бы валялось письмо без ответа, если бы не Наталья Ивановна. Она почувствовала, что Трындычиха не успокоится, обязательно на неё писать будет, и рассудила, что рано или поздно письмо может попасть к Сиротенко…
Почему она так решила? Тогда она и набрала его номер…
Иван Михайлович никогда не рассказывал дома о своих делах, не делился с женой, потому что не хотел беспокоить её. Да и вообще: «Меньше знаешь – меньше скажешь!» – эту мудрость он усвоил навсегда не по своей воле в «хорошие» годы. Обычно он так темпераментно переживал свершившееся, что вовлекал в своё состояние всех окружающих, а под его напором они не могли не сопереживать.
«Ей и так хватает», – обычно думал он.
Сам же всегда расспрашивал, даже выспрашивал: как у неё дела в поликлинике, как теперь больные, которых она посещает, живут, как сводят концы с концами…
Сегодня был особый случай. В памяти всплывала полузабытая история – он неожиданно спросил:
– Мила, ты помнишь, твой отец рассказывал историю друга своего детства? Того, что после войны разыскивал детей?
– Детей? Мескин…
– Да, да! Мескин.
– А тебе зачем вдруг?
– Я же теперь народный избранник! – отшутился Сиротенко. – Должен всё знать про всех проживающих на территории, на которой может уместиться две с половиной Франции!..
– Франция-то одна только, милый! – ехидно перебила жена. – Где ж тебе ещё полторы-то взять?
– Действительно, где взять… – машинально повторил Сиротенко и уселся напротив слушать.
– Ладно, – Людмила тоже села. – Мескин потерял жену во время войны… Сарру… Её убили в гетто, а дети… Он, когда демобилизовался через несколько месяцев после войны, стал искать концы… Письма писал, в розык подавал и обнаружил дочку… Она в гетто не попала, потому что была в детском саду и выехала из Минска на лето… Детсадовских детей, слава Богу, успели вывезти… Немцы очень быстро наступали… А мальчишка был совсем маленьким, как раз перед войной родился, и Сарра успела его отдать соседям, когда её угоняли… Говорили, что он совсем не был похож ни на отца, ни на мать: белобрысый, голубоглазый… И эта женщина, которая его взяла, выдала за своего…
– И он у неё остался? – Сиротенко поднял на жену глаза, и она поняла, что это нечто большее, чем простое любопытство.
– Она погибла. Это точно… Её расстреляли… У них всю семью загубили немцы, кроме её маленькой дочки, да ещё Сарриного мальчишки. Этих двух детей чудом, как говорят, успели увести в лес. Или сама мать почувствовала, что вокруг неё кольцо сжимается, и увела их. Не знаю… Потом из партизанского отряда детей переправили на большую землю, куда-то за Урал… Ну, это обычная история…
– Да, обычная, – задумчиво протянул Сиротенко. – Представляешь, что мы говорим: всю семью убили… дети неизвестно где… по детским домам – обычная история! Он искал сына уже по фамилии этой девочки, его названной сестры, да? Я так помню?
– Да, он, когда узнал обо всём, догадался, что у сына должна быть другая фамилия. И нашёл их где-то под Читой, в детском доме… Летал туда несколько раз… Вроде, по фамилии и обстоятельствам всё сходилось… Сходилось, но всё неточно… Вроде, какая-то украинская фамилия… Я уже не помню!
– У меня тоже украинская! – жёстко перебил Сиротенко.
– Может, достаточно? – вкрадчиво спросила Людмила.
– Нет. Давай дальше! – он сжал голову ладонями у висков и опёрся локтями на стол.
– Ну, в конце концов, он убедился или поверил, что это они, но сына опознать не смог… Шесть лет прошло, а малышу тогда и года не было… Девочку эту, Настю, названную сестру сына, он, понятно, и вовсе никогда не видел… А пока их искал, нашлась дочка в Биробиджане – она сначала была в детском доме, потом её забрала к себе семья, которая каким-то образом ещё давно знала родителей Сарры…
– Господи, какая запутанная история… – невольно воскликнул Сиротенко.
– Да, уж, можно подумать… – Мила осеклась, сглотнула комок в горле и помолчала. – Он был большой такой мужчина, лётчик боевой, все четыре года воевал… Мой отец говорил, что после всех этих поисков его не узнать было: он усох, вроде меньше ростом стал… От переживаний…
– А ты его видела?
– Конечно! Но только уже позже, не в те годы… Я же не могу этого помнить…
– Слушай, Мила, а почему ты с его детьми не поддерживаешь отношения, если отцы дружили… Он же их всех собрал вместе, да?
– Как не поддерживаю… Хотя, конечно, могла бы быть более внимательной. Давай по порядку, сам поймёшь. Не сбивай! Всё оказалось не так просто… Рашель – Рахиль, его настоящая дочка, тех людей, что её забрали из детдома, стала сразу звать мама и папа. А когда объявился настоящий отец, началась ещё большая трагедия, чем была – у них два сына погибло на фронте. Теперь предстояло отдать Рахиль… Дядя Эдя был в отчаянии, понимал, что это стариков доконает, они были старше его… А оставить дочку он, конечно, не мог… Да и к тому же, она стала вылитая мать… Ей уже около одиннадцати было… Или десять только…
– Ты так хорошо всё знаешь, будто это с тобой случилось!
– Я это столько раз всё слышала… И дядю Эдю очень любила… Он был замечательный… И тётя Буся…
– А она кто?
– Дядя Эдя на ней женился после войны. У неё был сын Петя, а муж погиб. А когда дядя Эдя за ней ухаживал или предложил жениться – не помню уже, то рассказал всю историю с детьми. Потому что он не знал, что делать. И скрывать не мог, и взять никого в дом, пока сам не женится, тоже не мог… Ну кто бы с такой оравой был? Представляешь: сразу четверо!
– Послушай, эта история – роман писать!
– Скорее трагедию… Он, когда всё рассказал тёте Бусе, думал, что она откажется замуж выходить. Любая бы ещё подумала крепко, но она была мудрая женщина и, наверное, его очень любила… Он замечательный был… Я его помню ещё в лётческой форме, без погон только, грудь в орденах… Красавец! Это он в день Победы так одевался. А вообще-то, он учительствовал…









































