Читать книгу "Прошлое без перерыва. Книга повестей"
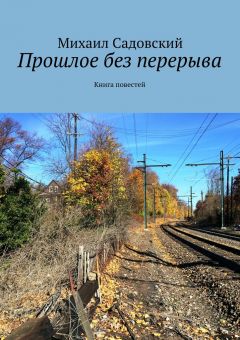
Автор книги: Михаил Садовский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Нина всё делала молча. Совершенно беззвучно. Когда брат был одет, она обошла кроватку, натянула на неё, как их учили, одеяло, взяла Васю за руку, и они пошли к двери, опять не произнося ни слова.
– Ниночка, доброе утро! – девочка смотрела на неё, ничего не произнося. – У тебя ничего не болит? – присела перед ней на корточки Наталья Ивановна. Нинка покрутила головой и понурилась. – А ты, малыш? – обратилась она к брату.
– Она боится… – прошептал он.
– Чего боится? – переспросила Наталья Ивановна, так и не поднимаясь.
– Её боится… – опять еле слышно просипел Васька.
– Пошли со мной! Она больше у нас не работает! – как бы рапортуя и убеждая себя, громко сказала Наталья Ивановна, распрямилась и протянула им руку.
Нинка отдёрнула свою и отвернулась к брату. Он нерешительно поднял свою навстречу маминой-НатальИванной, и они медленно двинулись по коридору
– Васе в туалет надо и умыться, а ты со мной побудешь, ладно? – спросила она через несколько шагов и нагнулась над девочкой. Та вдруг отпрянула назад, обхватила брата двумя руками, истерично закричала, с рыданием:
– Не-е-ет! Не-е-ет! – и залилась слезами.
– О, Господи! Слава Богу! Слава Богу! – Наталья Ивановна отпустила мальчишечью ручку, большим и указательным пальцами выдавила из своих глаз слёзы к переносице, оттёрла их по-ребячьи ладонью по скулам и щекам и, качая из стороны в сторону головой, как молитву затвердила, чувствуя полное опустошение от внезапно схлынувшей тяжести: – И не надо! И не надо! И не надо… – она повторяла это бессознательно долго с одинаковой интонацией и никак не могла успокоиться.
«Что-то случилось», – сказал Том, как только они приземлились.
Долгий перелёт, мелькнувшая за окнами Москва и опять самолёт.
Теперь машина бежала по совершенно белой дороге, по укатанному снегу.
Том удивлялся: «Как они тут ездят? У нас бы…»
Он обнаружил, что очень чувствительный человек. До этих дальних полётов и долгих разлук не было случая обнаружить это. А теперь он скучал по своим девчонкам и с ужасом думал: «Как это могло прийти в голову жить без них? Неужели мечта о сыне могла заставить меня расстаться с ними? С Дороти! Когда это было? Сто лет назад! В другой жизни! Через час мальчишка уставится на меня своими глазёнками и скажет… Ничего он не скажет! Размечтался! Ничего он не скажет. Он ещё долго будет мучиться с языком. Хотя Абигаль говорила, что её девочка заговорила через две недели, а через месяц уже так тараторила, что никто не верил – просто чудо какое-то! Ну, и Паша заговорит! Что наш хуже, что ли?! – какое-то ревнивое чувство даже смутило его немного. – Заговорит, конечно, чуть раньше, чуть позже… Дороти, совсем молодцом! Как она умеет держаться! Этому не научишься… Интересно, в кого будет маленький Том? – он улыбнулся и покачал головой: – Совсем поглупел от счастья… Хорошо, что никто не догадывается, какой коктейль у меня в голове! Вот бы посмеялись… А он похож, мальчишка… ну, не такой рыжий, конечно, но тоже светленький, голова круглая и глаза… ну, глаза точно мои!»
Он опять улыбнулся и даже поднёс руку к лицу, чтобы незаметно прикрыть и как бы смахнуть эту улыбку. Но она не стиралась. Он поплотнее вдавился в спинку сиденья, подвинулся плотнее к Дороти и уставился в окно. Ехать было ещё почти час.
«Как они ездят по такой дороге?»
Дуся постучала и чуть наклонилась вперёд к ручке двери, за которую держалась, подождала, но, не услышав ответа, заглянула в образовавшуюся щелку. Наталья Ивановна сидела, опершись лбом на обе сцепленные руки, поставленные локтями на стол.
Дверь скрипнула, и директор испуганно глянула вперёд:
– Входи, тёть Дусь, чего ты?! – голос звучал ровно, но глаза…
– Ты, вот что, Наталь Иванна… я тебе сказать хотела… Может, мне ребят забрать на субботу-воскресенье? Пусть оклемаются маненько… – Наталья Ивановна покачивала головой в такт говорящей, но ничего не отвечала. – Я говорю, может, им обстановку сменить, знаешь… – продолжила тётя Дуся.
– Тёть Дусь, ты тут уж всю жизнь, правда? А вот книжек у меня умных сколько, погляди! – она кивнула головой на полки у стены. – Знаешь, сколько там умного понаписано?! И врачи, и психологи, и педагоги опытные столько умного понаписали, а как мать заменить никто не придумал!
– Ишшшь-та! Ты куда? Чего захотела! Мать – она и есть мать. Не мне тебя учить. Я етих книг не читала, я без диплома, но я те что сказать хочу… Вот у нас в деревне Федька был, немножко такой, с прикидом пацан, но добрый и безответный такой… Отца убило, мать вскорости померла, потому что очень тосковала. Короче сказать, в детский дом его не отдали, а ростили все вместе. Он, если сказать так – общий был. Меня постарше. Я хорошо помню – по дворам жил. Видно, руки до него не дошли у милиции, и председатели у нас менялись что ни год-полгода. Тихий был, кудрявый – божий одуванец…
– Это ты к чему? – перебила Наталья Ивановна.
– А к тому, что нынче в газете про него прописали, что картинки его, какими он с детства баловался, на все выставки послали, и везде он первый, значит. Ты, небось, сама читала, да не обратила внимания, потому он тебе чужой! А нам вот, мне, к примеру, родной получился.
– Ну, и к чему ты, тёть Дусь, я что-то никак не пойму! – снова перебила директор.
– А ты пойми! Ему все помаленьку тепла отдали. Не враз и не нарочно, а так вот по жизни, помаленьку, по-домашнему… Чем было делились… Вот я и думаю, возьму Васютку с Нинкой – у меня поживут, а потом…
– А потом сюда опять вернутся! Или ты думаешь, что их тоже по домам по всем пустить здесь, в городе? Кому, мол, близнецы на время? Поделитесь с ними теплом своим! Да ты знаешь, сколько их теперь, детей таких? А обратно им возвращаться? Я вообще против этого. Так уж повелось – не мне менять! Но я против, чтоб детей на день, на два отрывать в чужую жизнь, а потом обратно. Это стресс для них…
– Чего? – перебила тётя Дуся.
– Стресс! Понимаешь, ну, встряска такая. Привыкли и живут!
– Эх, ты! – тётя Дуся сокрушённо покачала головой, и всё её короткое округлое тело заколыхалось. – Вы, как из жести все, прости меня, нынешние. Гремите, гремите… Что сирот не сосчитать – наслышаны, а что тепла в людях на всех хватит – не знаете. А я знаю… Как сделать это – не ведаю… Вот ба раздать всех по семьям и… – она развела руки в стороны широко и уронила их так, что они хлопнули по её бёдрам. – Ты скажи мне вот, если б такое постановление или закон издали: детские дома позакрывать, а всем гражданам, по возможности, детей разобрать по домам! Ты бы как, согласилась?
Наталья Ивановна смотрела на нянечку, пыталась что-то сказать, но чувствовала, как горло сдавливается и наполняется криком. Она вскочила из-за стола неловко обхватила замершую тётю Дусю, уткнулась ей в плечо и закачалась вместе с ней, бубня сквозь бумазеевый халат:
– Господи! Господи! Я не могу больше, тёть Дусь, не могу, понимаешь, сердца не хватает… Учат одному, врут другое, людей в угол загнали, а они всё о других думают… Сами без куска опять сидят, а о других думают… Не могу я больше…
Тётя Дуся медленно развернулась, обхватила плачущую руками и, глядя ей в лицо, просто сказала:
– А мы всегда так… привыкли… А ты сердце не надрывай, так тебя надолго то не хватит. Что в книжках пишут – не знаю. Верно, умное. Только надо наоборот всё.
– Что наоборот? – откинулась Наталья Ивановна.
– Наоборот! Не с книжек жизнь сотворять, а наоборот: писать, как живут люди, чтоб другие знали. Чтоб не жизнь учить, понимаешь, а наоборот… А так не будет дела… Я уж на покой скоро, предстану вот пред его очи, мне вопрос: «Как, мол, там, на земле, жизнь?» Ему хоть и видно всё и ясно, а всё ж интересно от простого смертного то услышать. Народ-то не дурак. Он знает.
– И что ж ты ответишь, тётя Дуся?
– А то и отвечу, что жить трудно… Чего врать-то, жить трудно, потому что содом и гоморра: краски смешались, и перестал народ понимать, где чёрное, где белое… А это плохо…
На Россию свалился грипп. Тяжёлый, небывалый, азиатский. Короткое слово «карантин» стало главным распорядителем ближайших недель. В детские дома, сады, ясли никого не пускали, врачи не имели времени спать, воспитатели оставались дежурить на ночь и сокрушались, что почти всю зиму продержались, а тут вот – раз, и докатилась волна к весне поближе! Которые поопытнее, на лекарства не надеялись – несли из дома своё, проверенное: чеснок да лук. Эти ароматы ложились на испарения дезинфицирующей карболки – запах получался тяжёлый! Но ребят выгоняли гулять! «Микроб ничего не боится, но наш ветерок его срезает! Гулять, ребятки!» Пока всех оденут да выведут – глядишь: обед накатил! Обратно! В комнатах проветрено, свежо, а общее – да хоть беда – всегда сближает, и свет уже другой за окном!
Другой – весна света! Облака свежеют, небо оттирают от серой изморози, синеву налаживают. Песенка у синички длиннее стала – солнца больше, сил прибавилось, вот и поёт дольше! И клестовые выводки шума прибавили. Жизнь идёт! Только ждать долго.
Не умеет Пашка сказать, как он ждёт. Да и некому. Только Зинке. А то пока он соберётся да выдавит слово, уже и нет никого, кто мог бы послушать. У всех дела свои. А Зинка сама ждёт.
Она и не думает вовсе о разлуке: Пашка ждёт, и она с ним! Она привыкла с ним. Он такой тёплый, и ладошка у него всегда немножко мокрая, мягкая, тёплая, возьмёт его за руку – и так хорошо ей.
Но тут, как раз под этот грипп и загремела Зинка в изолятор. И температуры нет, а нос хлюпает. От греха подальше, лучше в изолятор, а то заразит ребят. И Пашке так грустно, совсем сказать некому. Проверит свои подарки и опять засунет их в секретное место. Да все про этот секрет знают, может, потому «богатства» и в сохранности, кто ж возьмёт!
Ирина Васильевна держала перед собой фотографии «родственников» и всматривалась в их лица, пытаясь найти сходство с Пашиным.
«Глаза? Настороженные какие-то, испуганные. У девочки ещё скулы чуть раздаются, а виски сближены. Ох, мамаша… Да кто из этих думает о последствиях… А у мальчишки, как у Паши, асимметрична верхняя губа и кажется, будто всё лицо, как картинка в телевизоре, вытянуто по диагонали. Цвет волос?»
Фото было чёрно-белое, казённое, анфас – при переднем свете, лицо плоское и мертвенное.
И вдруг совершенно странная мысль пришла ей в голову: «Если бы они стали тонуть, не дай Бог, так что, рассуждал бы Сиротенко, можно ли всех троих спасти, а если нет, так и не спасать вовсе?! Ни одного?! Разве не тащил бы он на берег каждого из последних сил?! Что за глупость?! Спасать надо! Что ждёт их здесь – школа для умственно отсталых, койка в страшном интернате и нищета потом, если выживут! Что за глупость! Все эти разговоры, правила, моральные долги наши – ничто не важно, если хоть одного спасти можно! И не надо врать, что ценой другого! Ерунда! Пашка уехать должен – и всё! Там такие возможности, такие чудеса творят! Рассказывают же! Съездить бы, посмотреть! А лучше не ездить – только расстраиваться! К чёрту! Прилетят родители и пускай скорее сматываются отсюда! Немедленно! Пусть попробует не подписать! – она вдруг уронила фото на стол, и мысли её резко затормозили. – И что? Что я смогу сделать, чтобы вырвать Пашку? Не те времена, что были. И пожаловаться некому! Не-ко-му! Некому – вот и всё… Выходит: „Паны дерутся, у мужика лоб трещит“, – мелькнуло напоследок. Она чувствовала, что не может больше думать об этом. – Господи, скорей бы приехали!»
Время умеет растягиваться и сжиматься, течь медленно и незаметно, и лететь стремительно и неудержимо, в минуты и секунды удаётся сотворить столько, что невозможно себе представить, и можно обсуждать случившееся потом многие часы, дни и годы… Долгая жизнь начинается в мгновение встречи со светом и, когда кончается – мгновенно обрывается в тьму. Время пока что поддаётся только памяти – у него ни проводника, ни руководителя, оно независимо и неопровержимо судит, но полагаться на его мнение и решение опасно и неплодотворно.
Сиротенко бывал счастлив теперь всё реже и реже, только когда погружался в своё любимое дело, от которого его отрывали обязанности власти.
Он вдруг, неожиданно для себя, засел писать сыновьям, и не дома, когда жена подойдёт и спросит: «Что ты делаешь, а?» Он пристроил лист бумаги между больничных карт, лежащих на столе вперемежку с межведомственными сводками, официальными депутатскими бумагами и нераспечатанными длинными конвертами.
«…ребята, никакая война не бывает справедливой, потому что на войне убивают людей! А это никто не вправе делать, и этим ничего доказать нельзя, невозможно убедить и объяснить. Но мир прищурился и смотрит через щёлку на происходящее. Спасайте людей вокруг себя – это труднее и нужнее, особенно в наше время. Я прошу вас, не приносите жертв тому, кто не нуждается в них…»
Он улетал в Москву, оттуда хотел успеть в Питер – на денёк, повидаться с детьми. Но письмо… всё равно бумаге проще сказать, что-то главное, что не всегда произнесёшь, да и не во всякий момент… Он писал долго, прерывался и задумывался, а потом строчил наклонным убористым почерком и не мог остановиться, пока не иссякал заряд.
«Мне повезло выжить, когда лучше, чем жить, было умереть, не скурвиться, когда легче было предать, чем выстоять, и не утонуть теперь, когда впору захлебнуться. Я прошу вас не жить, не оглядываясь – тогда теряешь ориентировку…»
Он внезапно остановился. Не стал перечитывать написанное. Сложил листки. Втиснул во внутренний карман пиджака и совершенно ясно понял, что писал не для них, не для сыновей, а для себя. И улыбнулся: «Года к суровой прозе клонят!» Назавтра рано утром он улетал в столицу.
Ирина Васильевна решила ничего и никому не говорить в доме о близнецах, но как только выдастся момент, обязательно съездить посмотреть на них.
«Да и вообще посмотреть, как люди живут. Тем более, что недалеко – ночь на поезде. Три дня выбрать можно! – рассуждала она. – Как в другом детском доме? В чужом-то глазу и соринку видно. А вообще-то неплохо бы посмотреть, как наши усыновлённые поживают. О чужих пекусь? А своя дочь где? С кем? До своей руки не доходят, сил не хватает. Узнаю что – так поздно! Убью! Не убью… Время такое, что всё спуталось. Свои, чужие… Какие же они чужие, если в них столько жизни вложено! Ну, какие?! Пашка уж седьмым будет! Всё равно уедет, – промелькнуло в голове, но она не стала цепляться за эту мысль. – Вот до десяти наберётся, начну проситься, – она знала, что специально посылают людей убедиться в условиях жизни бывших российских детей – так положено! – Вот и я съезжу! И Пашу там повидаю! Обязательно! Там! Там!»
Она заставила себя и перестала думать о другой возможности. Даже вслух сказала: «Если из троих тонущих хоть одного спасти можно, спасай! И нечего рассуждать! А потом, даст Бог, и остальным помочь сумеешь! Так вот, господин Сиротенко! Это по-русски! А то за моралями за всеми и детей прохлопаем, и дело! Так вот!»
Наталья Ивановна позвонила с утра в дом и, узнав, что Трындычиха, слава Богу, не появилась, предупредила, что сначала поедет по делам и будет только к обеду. Она сидела дома у стола в ночном халате, неотрывно, не мигая, смотрела на серое заоконье, перерезанное чёрными трещинами веток и неспешно соображала: «Две недели положено, за месяц предупрежу, к лету буду дома! Мама обрадуется… мама… мама… У всех семьи, родственники, дети, а нас двое. Надо к маме, чтобы, как учили: «Не было обидно за бесцельно прожитые годы». Другие как-то живут медленно – ходят на службу, в магазин, детей рожают, всё подряд, без всплесков, постепенно – день за днём. А как только ухватишься за высокую идею, обязательно всплески, встряски, заморочки. Очевидно, не приспособлен человек к такой жизни, ему другое предначертано. Как обычному стаду – бежать от опасности, а не лезть на рожон. Только почему-то вся история человечества именно и состоит из того, что оно лезет и лезет, и лезет вверх за какими-то химерами. А в результате? Что в результате? Стали люди счастливее или умнее, чем в те давние времена, когда создавали шедевры, непревзойденные и питающие мир до сих пор? Да нет, конечно! Пойду в Пушкинский! В Третьяковку! К Образцову на Садовой… С мамой! Как в детстве. Пусть я опять сама буду ребёнком! Пусть пляшут куклы, и в фойе пахнет зефиром и лимонадом. Я так устала – всё! Сдаюсь! Проиграла! Больше не могу! Не хо-чу! Слава Богу, слово это не забыла! Не хочу, не желаю! Не хочу и не желаю. Ещё есть время. Наверстать ничего нельзя, но есть ещё время пожить без потрясений. В библиотеку, в музей… Ну, правда, – каждому своё! Поняла и хватит! Хватит с меня всех этих Трындычих. Хватит.
И этих мне не надо. Их чтоб выходить… их чтоб выходить, надо много денег. Много… Ничего мне не надо… ничего не надо…»
Трындычиха целый вечер прождала Николая. Убрала в комнате, накрыла стол, жаркое сунула под подушку, бутылку в холодильник. И опять ждала.
Сначала смотрела на часы каждые пять минут, потом сбегала в телефон-автомат напротив подъезда с заледеневшим полом застывшей мочи, от которого воняло, как в нужнике, и долго слушала длинные безответные гудки, потом сидела у окна, пока сиреневый свет не стал впитываться в пространство, сереть и совершенно не сгустился в темноту. Тогда она вернулась к столу, подпёрла щеку одной рукой, другой бессмысленно разглаживала льняную цветастую скатерть и долго сидела, вспоминая, очевидно, что-то хорошее, пока не почувствовала, что по лицу текут слёзы.
«Куда деваться? Ну куда? В деревню обратно – так там жить нельзя, не на что. Одни старухи остались да пьянь подзаборная. А здесь куда? Орать-то орала, а хрен столкнёшь её! На глотку не возьмёшь! Она образованная, с дипломом. И никто не поможет, не продвинет. Николай и тот отмахнулся. „Угомонись!“ – это сказать легко! Что я других хуже?! Выходит хуже! Хуже…»
Ей так обидно стало и жалко себя, что сдержаться не было никаких сил. Поревев с полчаса и посмотрев на черноту незанавешенного окна, она решительно встала, опустила тяжёлую штору, умылась, накинула пальто и прямо в тапочках отправилась в соседний подъезд к соседке Верке.
«Если нет её, одна напьюсь! – она знала, что Николай уже не придёт сегодня, а может, и вовсе не придёт больше. Что-то ныло внутри, не было ни обиды, ни проклятий, только сожаление и покорность: – Пусть идёт как идёт… и как будет, так и будет…»
Пашка спал на боку, согнув коленки, подложив под щечку руку, и слюнка прерывистой струйкой сбегала из уголка рта на подушку. Ему снился праздник! Большая лошадь вся в цветах идёт по их двору и машет из стороны в сторону длинной мордой, а от этого лепестки разлетаются в разные стороны, как брызги, и все ребята с визгом бегут поближе подставиться, чтобы на них этот цветной дождь обсыпался. А на лошади сидят девочка и мальчик – ну, просто, как он и Зинка! И он толкает Зинку и говорит ей: «Смотри! Там ты!», а Зинка толкает его и говорит: «А это ты!» И они так громко смеются, что лошадь ещё сильнее трясёт головой, и цветной дождь ещё сильнее сыпется на них, и гремит музыка громко, громко и они тоже громко, громко поют:
Праздник, праздник к нам идёт!
Нас он за руку берёт!
Праздник, праздник,
Праздник, праздник —
Наш весёлый хоровод!
И тут оказывается, что все лепестки на земле, вовсе не лепестки, а конфеты! И все кидаются с визгом собирать их! А конфет так много, что уже некуда класть! И Зинка загибает подол и туда их кидает, но и подол уже полный! Тогда Пашка говорит: «Вот сейчас придёт папка и целый мешок набьёт!» И Зинка ему отвечает: «И нам на целую неделю или на год хватит!»
А Зинка не спала. Не могла. У неё заложен нос, и она чуть задремлет – тут же просыпается. И голова болит. И так хочется, чтобы кто-нибудь пожалел, погладил и дал попить, потому что до рези сухо в горле.
Она соскальзывает босыми ногами на пол, на цыпочках крадётся к столу у окна, но в графине нет воды. В одной ночнушке осторожно, чтобы не разбудить дежурную ночную нянечку, она выходит в коридор – нигде никого. Только сквозняк бродит по дому. Зинка крадётся вдоль дверей. Где-то тут, а может, тут она спит – дежурная.
Наконец, Пашкина спальня. Она заглядывает и проскальзывает через приоткрытую дверь внутрь. Вон он спит на боку, подтянув к животу коленки. Зинка стоит и смотрит на него долго. Холод поднимается от щелястого пола, и её начинает бить мелкая дрожь. Она подходит совсем близко к кровати и трогает Пашку одним пальчиком за плечо. Но он спит.
«Я только погреюсь и уйду, ладно… только погреюсь… и уйду…»
Она пристраивается сбоку на проступающем сквозь тощий матрасик железном ребре кроватной рамы, проталкивает ноги под одеяло, прислоняется к Пашкиной руке щекой и чувствует, что начинает засыпать.
«Только погреюсь… и уйду… чтобы не попало… я знаю, что нельзя… погреюсь и уйду… а то дразнить будут… я уйду скоро…»
Пашка не чувствует, не слышит – он смотрит сон. Но вряд ли Зинка увидит его тоже.
И близнецы тоже спят вместе – они теперь вообще не расстаются. Никогда. Спят вместе и встают вместе, и обедают тоже, и гуляют. И если кто-то берёт Васеньку за руку, сестра настораживается, а если пытаются оторвать от неё и увести, она начинает истерично кричать, и ничем её нельзя успокоить! Только вернуть обратно брата и не разлучать больше. И объяснить им ничего не возможно. Они ещё маленькие, и проблемы у них маленькие: поесть – всегда есть хочется, поиграть и погулять, а теперь ещё быть вместе! Вот и всё!
Невозможно им рассказать про брата, невозможно объяснить, что они его навсегда потерять могут и никогда даже не узнают об этом. И чем старше они будут становиться, тем сильнее будут стремиться узнать, кто их мама, и почему они остались без неё. Где бы они ни жили, по какую сторону океана, этот вопрос станет главным в их жизни. И никаким ответам они не поверят, и никогда не залечат эту вечную рану, и снова и снова будут спасаться от мира вокруг, как сейчас, взяв друг друга за руку, положив голову на одну подушку, и сладко прижавшись друг к другу.
Приезд Вилсонов совпал с праздником. Раз в месяц в детском доме отмечали день рождения всех, кто в этом месяце родился. Вкусно пахло чем-то печёным, домашним, теплым. И девочки все ходили вприпрыжку с бантами на голове. Казалось, эти огромные воздушные сооружения тянут их вверх, и оттого походка становится лёгкой, порхающей.
После завтрака в столовой сдвигали столы, расставляли скамейки и в торце её образовывалось пространство сцены. «Живой» музыки никакой в доме не было – ни пианино, ни музыкального руководителя, зато хорошая старая радиола умела петь детскими голосами известные песенки, и ребята дружно подтягивали, стараясь перекрыть известный хор. В промежутках между музыкальными номерами выходили наряженные ребята и, как их учили, с огромным выражением и каменными лицами, держа «руки по швам», декламировали стихи, иногда даже новые, или те, что последний раз читали ровно год назад – конечно, совсем забытые, а для некоторых впервые слышанные. И общий хоровод затягивал в свой круг всех: и малышей, и воспитательниц, и нянечек, а именинники бежали к себе в палаты примерять подаренные обновки и угощаться конфетами. Было весело, шумно, всегда оказывалось, что кто-то из маленьких не понял, отчего ему ничего не подарили, и невозможно было втолковать такому, что сегодня подарили тому, у кого день рождения, а потом подарят ему. Слёзы у обиженного не просыхали, и голос его дрожал, тогда и ему дарили что-нибудь для успокоения находчивые взрослые. И сами ребята, вылавливали из своих только что полученных пакетов, конфету, ленточку для банта, открытку, книжку.
Вилсоны после длинной дороги сразу поспешили увидеть Пашу и попали в самый разгар веселья. Из кабинета директора, где их встретила Ирина Васильевна, попросились посмотреть, что происходит, и, к радости ребят и взрослых, весело отплясывали вместе со всеми, а потом против правил раздавали подарки всем подряд – жвачки, конфеты, карандаши и блокнотики, маленькие игры-головоломки, ластики и шариковые ручки. Солидные подарки в двух огромных сумках лежали в кабинете и требовали серьёзной делёжки.
Такое начало визита сбило Ирину Васильевну – она и так не знала, как ей быть. Опять оказалась крайней. Буквально вчера утром позвонила Вера, секретарша Сиротенко, передала, что Иван Михайлович срочно улетел в Москву и просил Волоскову заехать за пакетом, велел передать ей лично в руки. Конечно, она бросила все дела, помчалась в город и, несмотря на волнение и нетерпение, с улыбкой, как того требовали приличия, поболтала о жизни с Верочкой, расспросила о доме, о маме, и, не подавая виду, что сгорает от любопытства, легко и неторопливо, покинула кабинет. Только в автобусе, усевшись у заиндевелого окна, из которого поддувало и несло редкие маленькие кристаллики снега, она сдёрнула рукавицы и нетерпеливо с треском потянула за конец прозрачную ленту на конверте, вытащила бумаги, привычно перелистала, нашла нужную страницу и…
На положенном месте стояла подпись Сиротенко и вчерашнее число.
Она почувствовала, что глаза сами собой увлажняются, защипало в носу и сдавило горло. Ирина Васильевна опустила веки и некоторое время сидела молча, закусив губу. Потом вдруг резко наклонила голову, заглянула в большой конверт, сдвинула колени в сторону, пошарила взглядом на полу между сиденьями, снова посмотрела в конверт, даже руку туда запустила – никакой записки не было. Она перевернула все бумаги, лежащие на коленях, – и к первому листу не было приколото записки.
«Осторожный человек Иван Михалыч, – подумала она. – Правильно: решай, мол, всё сама. Молодец! Опять я крайняя оказалась. Мол, ты так просила, что я уступил – подписал, а дальше… Дальше всё сама и решай. А у меня, мол, дела поважнее есть. Понятно. Ладно? Иван Михалыч: так-так-так! Огромное спасибо!»
Теперь перед ней были эти двое явно нервничающих, возбуждённых иностранцев, которые наверняка счастливы, что могут с ребятами сбросить своё напряжение и…
«Сейчас кончится праздник, и что я им скажу! Что? Все мои варианты, которые так мучили по ночам, никуда не годятся!!! Это мне им сказать?! Или упасть в ножки и просить прощения, или уговаривать ещё двоих малышей взять из другого детдома?! Может, лучше вообще весь детдом усыновить! Господи! Да что же это за наказание?! За что?! Мало того, что в ребячьем горе и тоске всю жизнь проводишь, так ещё такие муки мне на душу! Они так счастливы! Я даже завидую им, что они могут так жить: к своим детям ещё чужого взять… от полноты души… Правда, правда, не станешь смеяться, когда кто-то рядом плачет от боли… Ну, как быть-то?!»
Том очень боялся, что Паша и не вспомнит их, и придётся всё начинать сначала – искать к нему дорожку, потихоньку, помаленьку. Когда праздник закончился и возбуждённые ребята стали разбредаться, они стояли в потоке и ждали момента встречи с ним. Те взгляды и улыбки, которые они ему посылали, вроде остались вне его внимания. Во всяком случае, он никак не выражал своего особого внимания к ним. Может, был захвачен общим весельем, а может… Кто его знает… И, наконец, когда Ирина Васильевна пригласила жестом Тома и Дороти идти за ней, в коридоре они неожиданно оказались перед несколькими мальчишками и девчонками. Обе стороны как-то замерли, не зная, что делать дальше. Том присел на колени перед Пашей, но тот не поднимал глаза и ничего не говорил. Зинка подошла сзади и стала толкать его в бок. Он передёрнул несколько раз плечом и вдруг сорвался с места и побежал в раздевалку.
Все так и стояли, замерев на месте, когда он появился вновь со своими подарками и протянул их сразу в двух руках навстречу Тому и Дороти: открытку, смятого-перемятого Мишуту и золотую гайку! Вилсоны растерялись сначала, но вдруг их осенило, и они радостно подставили ладони, Том протянул руку Пашке, чтобы поблагодарить его, но мальчишка мимо руки шагнул к его ноге и обнял её чуть выше колена в обхват двумя руками и крепко прижался к ней щекой.
Первой очнулась Зинка, тихо заревела и ринулась прочь. Могла ли она сформулировать, что сию секунду потеряла своего самого дорогого человека на всём белом свете? Что он один и был настоящий, живой, родной, и хоть она и ждала свою мамку, но на самом-то деле не живую мать, а свою выдумку, спасавшую и защищавшую от смертельной обиды сиротства?
Нет, конечно, нет. Сердце само подсказывает, как жить. И часто разум заставляет поступать по-другому, но редко ведёт дорогой счастья!.. Ирина Васильевна старалась сдержаться и не показать, как она растрогана, возбуждена, растеряна и готова заплакать. А Вилсоны не скрывали своих чувств: Дороти присела на корточки к малышу и гладила его быстро-быстро ладошкой по спине, слёзы текли по её щекам, Том стоял, не шевелясь, разводил в стороны руками – мол, вот как, вот как! – и тоже чуть не плакал. Ребята незаметно отступили назад и растворились, Ирина Васильевна, повернувшись уходить, обратилась к девушке: «Переведите им: я прошу их – пусть идут в мой кабинет, побудут с Пашей – там их никто не будет беспокоить».
Этот жест, порыв Паши решил его судьбу.
После отъезда Вилсонов Ирина Васильевна тоже начала готовиться в дорогу. Теперь она знала, что делать, да и надеяться ей было больше не на кого, и помогать ей некому – Сиротенко обратно не вернулся. Как он ни сопротивлялся, его уговорили перейти на работу в Москве. Она ещё его не видела, только узнала эту новость. Он должен был появиться, чтобы передать больницу, собрать вещи, забрать жену.
«Забрал бы меня кто-нибудь! Чтобы самой не решать! – она стряхнула с себя эту мысль. – В поезде всё равно не сплю, вот и надумаюсь».
С вокзала она сразу отправилась по адресу на каком-то колченогом скособоченном автобусе, который подбрасывало на всех выбоинах и ледяных наростах заснеженной дороги, а на остановке он сползал боком к бордюру, и его зад заносило – только берегись. Тяжёлый казённый детдомовский запах, с которым она боролась у себя, ударил ей в лицо – запах заброшенности и сиротства. Никто не встретил её у порога. Дети в одинаковых линялых голубых бумазеевых платьицах с сиреневыми цветочками и клетчатых рубашечках, как у них в доме, проходили мимо и внимательно всматривались в незнакомую тётю. Какая-то сумеречная тоска наваливалась со всех сторон – от тусклой лампочки без плафона, от неровных стен, покрытых масляной грязно-зелёной краской. Она заглянула в столовку, где последние малыши досиживали над остатками пищи, и, так никого не повстречав, отправилась в конец коридора и уселась дожидаться возле двери директорского кабинета.
Всполошенная нянечка вдруг появилась (видно, дети сообщили, что пришла чужая), расспросила, кого она ждёт, и предложила чаю, но не успела принести. Наталья Ивановна появилась скоро, и теперь они чаёвничали вместе в её кабинете, сидя по разные стороны директорского стола и вглядываясь друг в друга. За дверью пролетали знакомые звуки. Утро обещало солнце. И постепенно женщины разговорились, общего было много: и заботы, и трудности, и дела.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































