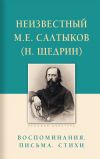Текст книги "Убежище Монрепо"

Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Вообще, я не понимаю, из чего Грацианов тревожит себя и хлопочет. Вместо того, чтоб гневаться, полемизировать, ссылаться на свидетельство граждан ретирадных мест и даже «под рукой» скрежетать зубами, объявил бы прямо: «Веселися, храбрый росс!» – давным бы давно я трепака отхватывал. Да и этого не надо, совсем ничего не надо. Просто надлежит оставить меня в жертву унылости – только и всего. Ибо повторяю: ежели бы и в самом деле унылостью моей я хотел намекнуть, что «хорохорюсь», «кажу кукиш в кармане», – эка важность! Кажу так кажу, хорохорюсь так хорохорюсь – пущай.
Из всего вышеписаного всякий может заключить, что я и сам не весьма отличного об себе мнения. Ибо что же может быть менее лестно: человек «артачится», «фордыбачит», а его не токмо за это не бьют, но даже и внимания никакого на это не обращают? Однако ж и тут загвоздка есть. Говорят, будто бы это «не отличное мнение» касается не только самого меня, сколько тех тенет, в которых я от рождения путаюсь. Вот, мол, какая тут затаенная мысль. Но ежели это и так – эка важность! Были бы тенета, а там, как я о них «промежду себя» полагаю, – это потом как-нибудь на досуге разберется. А покуда: веселися, храбрый росс! – и шабаш.
До меня даже такие слухи доходят, будто бы Грацианов ночей из-за меня не спит. Говорят, будто он так выражается: «Кабы у меня в стану все такие „граждане“ жили, как Колупаев да Разуваев, – я был бы поперек себя толще, а то вот принесла нелегкая эту „заразу“…» И при последних словах будто бы заводит глаза в сторону Монрепо…
А я, признаюсь, на его месте все бы спал. Спал бы да тучнел, да во сне от времени до времени бредил: «Веселися, храбрый росс!» И достаточно.
Сам себя человек изнуряет, сам развращает свою фантазию до того, что она начинает творить неизглаголаемая, сам сны наяву видит – да еще жалобы приносит! Ах, ты… Вот и сказал бы, кто ты таков, и нужно бы сказать, а боюсь, – каких еще доказательств нужно для беспрепятственности спанья!
Ничтожный я! ничтожный! ничтожный! Ваше благородие! господин Грацианов! как вы полагаете, легко ли с этаким эпитетом на свете жить?
«Ничтожный» – это подлежащее. А сказуемое – фюить! Связки – не полагается. Ведь вон он, мой синтаксис-то, каков! А ваше благородие еще почивать не изволите! Изволите говорить: зараза! Ах-ах-ах!
Нет, лучше бежать. Но вопрос: куда бежать? Желал бы я быть «птичкой вольной», как говорит Катерина в «Грозе» у Островского, да ведь Грацианов, того гляди, и канарейку слопает! А кроме как «птички вольной», у меня и воображения не хватает, кем бы другим быть пожелать. Ежели конем степным, так Грацианов заарканит и начнет под верх муштровать. Ежели буй-туром, так Грацианов будет для бифштексов воспитывать. Но, что всего замечательнее, животным еще все-таки вообразить себя можно, но человеком – никогда!
Человек – это общипанный петух. Так гласит анекдот об человеке Платона, и этот анекдот, возведенный в идеал, преподан яко руководство и в наши дни.
Но бежать все-таки надо. Какая бы метаморфоза ни приключилась, во что бы ни обратиться, хоть в червя ползущего, все-таки надо бежать. Две-три десятинки, коровка, пять курочек – все в один голос так говорят! Мне – две десятинки; Осьмушниковым и Разуваевым – вселенная! Такова внутренняя политика. Ежели старые столбы подгнили, надо искать новых столбов. Да ведь новые-то столбы и вовсе гнилые… ах, господин Грацианов!
Не малодушие ли это, однако ж, с моей стороны, не преувеличение ли? Ведь жил же я до сих пор – жив есмь и жива душа моя! – вероятно, ежели и впредь буду жить – и впредь никто меня не съест. Допустим, что все это так. Но, во-первых, разве так живут люди, как я до сих пор жил? А во-вторых, какой горький искус нужно вынести на своих плечах, чтобы дойти до подобного малодушия, до подобных преувеличений? Ведь и малодушие не по произволу является, но сходственно с обстоятельствами дела. Легко указывать на человека и восклицать: вот раб лукавый! – но что же ему делать, если у него, кроме лукавства, услады иной в жизни нет?
Чуть ли не с Кантемира начиная, мы только и делаем, что жалуемся на «дурные привычки». Распущенность, разнузданность, равнодушие, леность, малодушие, лукавство, лицемерие, лганье – вот каков багаж. Конечно, обладающее подобными привычками общество едва ли может чем-либо заявить себя со стороны производительности, а скорее обязывается жить со дня на день, пугливо озираясь по сторонам. Но для того, чтоб дурные привычки исчезли, надобно прежде всего, чтоб они сделались невыгодны. Рамки такие нужны, в которых даже невзначай не представилось бы повода для проявления этих привычек. А где эти рамки взять?
Обратить строгое внимание на выбор подчиненных – отлично! Строжайше соблюдать закон – превосходно! Не менее строго соблюдать экономию – лучше придумать нельзя. Судя по всему, все это так и будет. И вот, когда это случится, тогда и я утрачу дурную привычку преувеличивать. А до тех пор и рад бы, да не могу.
Впрочем, я однажды уж оговорился, что мой личный казус ничтожен. Повторяю это и теперь. Что я такое? – «пхё»! Одно только утешительно: ведь и все остальные – пхё, все до единого. Но какое странное утешение!
Разуваев явился ко мне на другой день и на этот раз был удивительно мил. Расчесал кудри, тщательно вымылся, надел новый сюртук и штаны навыпуск. Вообще, по-видимому, понял, что пришел не в харчевню. Даже про старинное наше знакомство помянул и с благодарностью отозвался при этом о корнетше Отлетаевой.
– Кабы оне в те поры не зачинали суда, а честью попросили, – сказал он, – я, может, и посейчас бы верный слуга для них был.
– Ну, где уж! – усомнился я.
– Верное слово, вашескородие, говорю; даже и теперича завсегда помню, что я ихний раб состоял.
– Что уж о старых делах вспоминать, лучше об нынешних потолкуем. Торгуете?
– И нынче дела нельзя похулить, надо правду сказать. Народ нынче очень уж оплошал, так, значит, только случая опускать не следует.
– Частенько-таки я в последнее время такие слова слышу, но, признаюсь, удивляюсь. По-моему, ежели народ оплошал, да еще вы случаев упускать не будете – ведь этак он, чего доброго, и вовсе оплошает. Откуда вы тогда барыши-то свои выбирать надеетесь?
– Ах, вашескородие! йен доста-а-нит!
Он сказал это с такой невозмутимой уверенностью, что мне невольно пришло на мысль: «Что же такое, однако ж, нам в детстве твердили о курице, несшей золотые яйца?» Как известно, владелец этой курицы, наскучив получать по одному яйцу в день и желая зараз воспользоваться всеми будущими яйцами, зарезал курицу и, разумеется, не только обманулся в своих мечтаниях, но утратил и прежний скромный доход. Легенда эта (в смысле результата) всегда казалась мне достойной вероятия, и я вполне искренно думал, что человек, зарезавший драгоценную курицу, был глупый человек и совершенно правильно за свою глупость пострадал.
И вот теперь Разуваев объявляет прямо, что все это вздор. Судя по его словам, курица не перестает нести золотые яйца, даже если она съедена. Это какая-то вечная, дважды волшебная курица, которую ничто неймет, ничто доконать не может. Это – курица-миф, курица-бессмыслица, но в то же время курица, подлинное существование которой может подтвердить такой несомненный эксперт куриных дел, как Разуваев. И мне кажется, что наши экономисты и финансисты недостаточно оценивают этот факт, ибо в противном случае они не разглагольствовали бы ни о сокровищах, в недрах земли скрывающихся, ни о сокровищах, издаваемых экспедицией заготовления государственных бумаг, а просто-напросто объявили бы: ежели в одном кармане пусто, в другом ничего, то распори курице брюхо, выпотроши, свари, съешь, и пускай она продолжает нести золотые яйца по-прежнему. И она будет нестись – в этом порукою Разуваев.
«Йён доста-а-нит!» Просто, глупо и между тем изумительно глубоко. Эту фразу следовало бы золотыми буквами начертать на всех пантеонах, ибо, в сущности, на ней одной издревле все экономисты и финансисты висят.
– Однако вы, как я вижу, и финансист! – похвалил я.
– Я-то-с? – помилуйте, вашескородие! так маленько мерекаем [11]11
Для незнакомых с этим выражением считаю нелишним пояснить, что «мерёкать» – значит кое-что понимать, на бобах разводить. Первоначальным корнем этого выражения был, очевидно, глагол «мерещиться». Мерещится знание, а настоящего нет. (Авт.)
[Закрыть], а чтобы настоящим манером произойти, – такого разума от Бога еще не удостоены-с.
– Ах, Анатолий Иваныч, Анатолий Иваныч! да ведь и все мы, голубчик, только мерекаем!
– Нет-с, вашескородие, слыхал я, что бывают и настоящие по этой части ходоки. Прожженные, значит. Взглянет – и сразу все нутро высмотрит.
– Это только так издали кажется, мой почтенный, что он нутро видит, а в действительности он то же самое усматривает, что и мы с вами. Только мы с вами мерекаем кратко, а он пространно. Знать не знаю, ведать не ведаю, а намерёкать могу с три короба – вот и разгадка вся.
– Это так точно-с.
– Один придет, померёкает; другого завидки возьмут – придет и наизново перемерёкает. И все одно и то же выходит. А мы, простецы, смотрим издали, как они сами себе хвалы слагают, и думаем, что и невесть какой свет их осиял!
– И это истинная правда-с.
– И ежели по правде говорить, так вы уж чересчур скромного об себе мнения. Именно вы-то и не мерекаете, а самое нутро видите. «Йён достанит!». Ах, голубчик, голубчик! неужто ж вы не понимаете, что вы – финансист?
Не знаю, насколько понял меня Разуваев, но знаю, что он остался польщен и доволен. Разумеется, он воспользовался моей словоохотливостью, чтобы при первой же возможности перейти к действительному предмету своего посещения.
– Главная причина, – сказал он, – время теперь самое подходящее. Весна на дворе, огород работать пора, к посеву приготовляться. Ежели теперь время опустил, – после его уж не наверстать.
– Но почему же вы думаете, что я упущу?
– Вашескородие! позвольте вам доложить! Ну, какая же есть возможность вам за всем усмотреть-с?
– Однако, шло же как-нибудь до сих пор.
– Как-нибудь – это так точно-с. А нам надо не как-нибудь, а чтобы настоящим манером. Вашескородие! позвольте вам доложить! Совсем бы я на вашем месте… ну, просто совсем бы не так я эту линию повел!
– Что же бы вы сделали?
– Оченно просто-с. Купил бы две-три десятинки-с, выстроил бы домичек по препорции, садичек для прохладности бы развел, коровку, курочек с пяток… Мило, благородно!
Стало быть, и он. Все как один, почти слово в слово; должно быть, однако ж, частенько-таки они обо мне беседуют. Вот он, vox populi [12]12
Глас народа (лат.)
[Закрыть], – теперь только я понимаю, что не покориться ему нельзя. Ежели люди так уверенно ждут, – стало быть, они имеют к тому основание; ежели они с такой тщательной подробностью определяют, что для меня нужно, стало быть, они положительно знают, что я сижу не на своем месте, что здесь я помеха и безобразие, а вон там, на двух десятинках, я придусь как раз в самую меру. И, что всего важнее, это же самое сознавал я и сам. Давно уж сознавал, да самолюбие, должно быть, мешало вступить на новый путь, а может быть, и просто лень…
Вероятно, эта же самая причина существовала и теперь. Я очень радушно побеседовал с Разуваевым, но ни своей цены ему не объявил, ни об его цене не спросил. Словом сказать, ни на чем не покончил. Однако ж видимо было, что Разуваев, уходя от меня, был значительно ободрен. Он быстрым оком окинул мою обстановку, как бы желая запечатлеть ее в своей памяти, и на прощание долго и умильно смотрел мне в глаза. Он понял, что я все еще «артачусь», и был так любезен, что взглянул на эту слабость снисходительно. В самом деле, не Бог же знает, что съест человек, ежели и подождать две-три недели, а он между тем жалованье рабочим за месяц заплатит… Во всяком случае, я почти убежден, что от меня он побежал к своим единомышленникам и что там все единогласно уже решено и скомпоновано. Может быть, и Лукьяныч там вместе со всеми советы подает…
– Лукьяныч! а Лукьяныч! где ты? – испугался я.
– Здеся я, – отозвался голос из передней.
– Разуваев-то ведь в сурьез покупать приходил.
– Неужто ж в шутку?
– Истинный ты Езоп! никак с тобой говорить настоящим манером невозможно!
– Чего «настоящим манером»! Апрель в половине, пахать пора, а где у нас навоз-то?
– Так неужто за зиму не накопилось?
– Спросите у садовника, куда он его девал.
– Так, значит, продать?
– Это как вам будет угодно.
– Да ты-то, ты-то, что думаешь! Чай, не цепями у тебя язык скован – шевели!
– И то умаялся, еще при папеньке при вашем шевеливши. Говорил в то время: не покупайте, зачем вам! – нет, купили…
– Ну, ступай!
Но прошла святая, прошла Фомина неделя, а я все еще артачился и недоумевал. Вон выехал Иван старший с сохой на полосу против усадьбы, перекрестился и пошел ковырять. Ишь ковыряет! даже из окон видно, как он на каждом шагу пропашку за пропашкой делает… так бы и налетел! Смотрю, ан и Разуваев стоит на дороге и тоже на пашню любуется: только понапрасну, мол, землю болтают! Наконец, он не вытерпел, крикнул: «А ты бы, Иван, сохой-то не все напусто, а и в землю бы попадал!» И Иван понял, что это не напрасный окрик, что когда-нибудь он отзовется на нем, и начал в землю сохой попадать. «Но-но, миляк! Нно… стерво!» – слышатся мне через полуотворенное окно поощрения, посылаемые им рыжему мерину.
Главное препятствие для окончательной развязки представляла, по-видимому, мысль: наступает лето, – куда деваться?
Ежели в Петербург или в Москву ехать, – упаси Бог! Там теперь такие фундаменты закладываются и такие созидаются здания, что того гляди задавят. Ежели за границу ехать, – не лежит у меня сердце к этой загранице! Во-первых, англичан на каждом шагу встречаешь: ходят прямо, надменно, и у каждого написано на лице: Afghanistan – jamais! [13]13
Афганистан – никогда! (фр.)
[Закрыть] Это, то есть, нас, русских, они так дразнят. Ах, господа, господа! С которых уже пор вы твердите: jamais да jamais, а мы между тем, не торопясь да Богу помолясь, смотрите-ка, куда забрались! Одно нехорошо: объяснить им это прямо нельзя, – того гляди, проштрафишься. Он говорит: jamais! а я ответить ему не могу. Почем я знаю, что по обстоятельствам дела и в согласность с высшими соображениями следует в данную минуту говорить? Может быть, pour sur [14]14
Наверно (фр.).
[Закрыть], а может быть, и jamais. Так уж лучше пусть он один дразнится, а мы помолчим – вот оно, положение-то, каково! Во-вторых, настоящей прислуги за границей нет. Коли хотите, целые города (курорты) существуют, где, кроме лакеев, и людей других не найдешь, а все-таки подлинного, «своего» лакея нет. Тамошний лакей жадный, прожженный, он всякому служить готов, а потому ни настоящей сноровки, ни преданности с него спросить нельзя. А нам нужен лакей постоянный, чтоб с утра до вечера все одного и того же человека шпынять. В-третьих, за границей очень уж чисто. Вычистят с утра и хотят, чтоб целый день чисто было. А нам это невозможно. Помню, я в прошлом году людские помещения на скотном дворе вычистить собрался; нанял поденщиц (на свою-то прислугу не понадеялся), сам за чисткой наблюдал, чистил день, чистил другой, одного убиенного и ошпаренного клопа целый ворох на полосу вывез – и вдруг вижу, смотрит на мои хлопоты старший Иван и только что не въявь говорит: «Дай срок! я завтра же всю твою чистоту в лучшем виде загажу». Так-то и все. Нельзя нам чисто жить, недосуг. Да и приспособлений у нас не заведено. За границей машинами улицы поливают, а мы – ковшичком; за границей громадными щетками грязь вычищают, а мы – метелками! И не то, чтоб мы не понимали, что хорошо, что худо; спросите у первого встречного: что лучше, в чистоте ли жить, или в грязи барахтаться, – наверное, всякий скажет: «Как можно! в грязи или в чистоте!» Но через минуту, непременно, прибавит: «Ах, барин, барин!»
Словом сказать, ни в столице, ни за границей – нигде жить охоты нет. Купить бы где-нибудь в Проплёванском уезде, на берегу реки Гнилушки, две-три десятинки – именно так, ни больше, ни меньше, – да ведь, пожалуй, в поисках за этим эльдорадо все лето пройдет…
Очень возможно, что я долго бы таким образом недоумевал, если б не пришел ко мне на помощь неожиданный случай и не ускорил развязки.
Сейчас после Фоминой я получил письмо от старинного моего приятеля и школьного товарища, Ивана Косушкина (есть такая фамилия и очень древняя: и в Смоленске Косушкины сидели, и в Тушино бегали, но нигде «косушки» не забывали и тем воспрославились). Письмо гласило следующее:
«Соломенное Городище. 26 апреля.
Ау, дружище! где ты и как живешь? Ежели в Монрепе изнываешь, то брось все, продавай за грош и кати сюда. Ибо лета наши приходят преклонные, и, следовательно, закат дней своих нам не унывающе, но веселящеся провести надлежит.
Скоро будет два года, как я поселился здесь, поселился, по-видимому, случайно, а на поверку выходит, что навсегда. Вот краткая повесть о моем переселении.
И я родился в Аркадии, и у меня было свое Монрепо; но в последнее время так оно мне опостылело, что я, как помешанный, слонялся из угла в угол. Дело в том, что, покуда были налицо разные Евдокимычи, да Климычи, да Аксиньюшки, жилось хоть и не особенно сладко, но все-таки жилось. Жил и я. Никто не тревожил меня, никто „распоряжениями“ не донимал. Придет кто-нибудь насчет покосца переговорить – ступай к Евдокимычу; дровец не продадите ли – ступай к Климычу; маслица нет ли залишнего – ступай к Аксиньюшке. Как уж они там ладились, – не знаю, но денег на расходы не требовали и даже меня от времени до времени кушиками побаловывали. Но, что важнее всего, я был уверен (да и теперь верю), что дело у нас идет средним ходом, без грабежа, но и без мотовства, смирно, честно, благородно… И вдруг среди этакой-то тишины и во всем благого поспешения налетел на нас вихрь: стали старики помирать. Сначала умер Евдокимыч, потом Климыч, а наконец и Аксиньюшка.
Умирали по очереди, безмолвно, точные младенцы. Сначала недели две морщится, скучный ходит (Евдокимыч говорил: „В первую холеру я с покойным папенькой вашим в ростепель в Москву ездил – с тех самых пор ноги мозжат“), потом влезает на печку и уж не слезает оттуда: значит, смерть идет. И действительно, не пройдет и месяца, – смотришь, шлют за священником. Причастится, особоруется и совсем уж притихнет. А к вечеру икнёт – и нет его. Тяжелее других умирала Аксиньюшка: все каялась мне, что „еще при покойнице матушке вашей новинку утаила“, и просила простить. Точно ли она утаила новинку, или в порыве предсмертного самобичевания наклепала на себя – сказать не могу; но, вспоминаючи матушкин „глазок-смотрок“, сдается мне, что вряд ли от ее внимания могла укрыться целая недостающая новина.
Не думай, однако ж, что я пишу идиллию и тем паче, что любуюсь ею. Отлично я понимаю, каким образом сложился тип крепостного пестуна и почему все эти Евдокимычи до конца оставались у меня. Прежде всего у них ног уж не было, чтоб бежать, а во-вторых, от отца с матерью они, наверное, и без ног бы ушли, потому что те были господа настоящие, и хотя особенно блестящих хозяйственных подвигов не совершали, но любили игру „в каторгу“, то есть с утра до вечера суетились, пороли горячку, гоношили, а стало быть, сумели бы и со стариков „спросить“. Ну, а мне все равно: живите, только меня не трогайте!
Когда все перемерли, я остался один лицом к лицу с Монрепо. Ужасно это тяжелое чувство; в первый раз в жизни напал на меня страх. Спать по ночам не мог; все чудилось: зачем же Монрепо-то не умерло? и кто меня теперь успокоит? кто добро мое сбережет? Пришлось нанимать чужака.
Явился чуженин и говорит: Филарет Семенов Перебежчиков, здешнего города мещанин; надеюсь вашей милости заслужить. Что ж, очень рад; вот ключи, вот планы, с остальным сами постепенно ознакомитесь. Но на первых же порах начал меня этот человек огорчать. Прежде всего охаял распоряжения Евдокимыча и даже попытался набросить на них неблаговидную тень. Потом стал каждый вечер ходить, спрашивать, какое на завтрашний день распоряжение будет (да еще целых два ему выложи: одно на случай, коли ежели вёдро, а другое на случай, коли ежели Бог дожжичка пошлет)? А я почем знаю? Кому виднее, как по обстоятельствам дела поступать надлежит, мне или ему? Но ты, конечно, понимаешь, что нельзя же прямо человеку сказать: отстань, потому что я ничего не знаю и ничем распорядиться не могу… Вот я распоряжался, распоряжался, да и затосковал.
А к этому вскоре присоединилось и еще обстоятельство: прислали к нам в уезд нового начальника. Глаза как плошки, усы как у таракана, из уст пахнет „Московскими Ведомостями“. Старого-то – отличный был, царство небесное! – сменили за то, что все в городе сиднем сидел (кстати, он мне потом жаловался: „Ведь и Илья Муромец, – говорит, – сколько лет сиднем сидел, однако когда понадобилось…“). Так новый, как дорвался до места, так и поехал. Ездит, братец, по проселкам и все людей выдергивает да в плен уводит. Завелся, видишь ли, „дух“ какой-то в наших палестинах, так вот по этому случаю.
У меня не был, а проезжал мимо не раз. Смотрел я на него из окна в бинокль: сидит в телеге, обернется лицом к усадьбе и вытаращит глаза. Думал я, думал: никогда у нас никакого „духа“ не бывало и вдруг завелся… Кого ни спросишь: что, мол, за дух такой? – никто ничего не знает, только говорят: строгость пошла. Разумеется, затосковал еще пуще. А ну как и во мне этот „дух“ есть? и меня в преклонных моих летах в плен уведут?
Взял и вдруг все продал. Трактирщик тут у нас по близости на пристани процвел – он и купил. В нем уж, наверное, никакого „духу“, кроме грабительства, нет, стало быть, ему честь и место. И сейчас на моих глазах, покуда я пожитки собирал, он и распоряжаться начал: птицу на скотном перерезал, карасей в пруде выловил, скот угнал… А потом, говорит, начну дом распродавать, лес рубить, в два года выручу два капитала, а наконец, и пустое место задешево продам.
Признаюсь, однако ж, что на первых порах тоскливо было. Во-первых, странно с непривычки такие фразы слышать: „А подсвечничек-то вы, кажется, наш с собой уложили?“ или: „Тут полотенчико прежде висело, так как прикажете, ваше оно или наше будет?“ А во-вторых, продать-то я продал, а как с собой поступить, – не знаю. На всякий случай, однако ж, отправился в „губернию“, думаю: там моя невинность виднее будет. Проезжаю мимо Соломенного Городища, смотрю и не верю глазам: волшебство! При самом въезде в город, без конца тянется забор, а за забором зелени, зелени – целое море! И дом большой и развалины какие-то в стороне. Спрашиваю на станции: что за штука? – отвечают: жил-был здесь откупщик, и водочный завод у него был (это развалины-то), а теперь, дескать, дом с землей продаются. Сейчас же побежал смотреть. Место – две десятины; в самый раз, значит, и то, пожалуй, за всем не усмотришь; забор подгнил, а местами даже повалился – надо новый строить; дом, ежели маленько его поправить, то хватит надолго; и мебель есть, а в одной комнате даже ванна мраморная стоит, в которой жидовин-откупщик свое тело белое нежил; руина… ну, это, пожалуй, „питореск“, и больше ничего; однако существует легенда, будто по ночам здесь собираются сирые и неимущие, лижут кирпичи, некогда обагрявшиеся сивухой, и бывают пьяны. Но сад – волшебство! Ни цветников, ни аллей, а все вишни, вишни, вишни, смородина, смородина, смородина! Это „он“ все „на предмет настоек“ разводил! И все запущено, разрослось, переплелось… Словом сказать, так мне вдруг захотелось тут умереть, что сейчас же я поскакал в Москву и в два дня кончил.
И ко всему этому здешний начальник оказался смирный. Любознательный, но смирный. Приехал ко мне на новоселье, посидел, побеседовал и вдруг задумался. „Так вы, – говорит, – к нам… совсем?“ – „Совсем, говорю“. – „Аттестат у вас есть?“ – „Вот он“. Посмотрел; перелистовал: служил там-то и там-то, аттестовался способным и достойным, в походах не бывал, под судом и следствием не состоял… Вздохнул. „А знаете ли, – говорит, – я, воля ваша, этого не понимаю: к нам… совсем… что такое значит?“ – „Да просто значит, что к вам совсем, – и больше ничего“. – „Помилуйте… что же такое у нас?.. никто к нам… никто никогда… и вдруг!“ – „Да ведь надо же где-нибудь жить?“ – „Так-то так… а все-таки… ну, какую вы здесь прелесть нашли! городишко самый пустой, белого хлеба не сыщешь… никто к нам никогда… и вдруг вздумалось!..“ Это было так мило, что я не выдержал и расцеловал его. И вот с тех пор мы друзья. Чтоб окончательно его успокоить, я отвел в доме квартиру для полицейского чина, истребил все книги, вместо газет выписал „Московские Ведомости“ и купил гитару. Все прошлое лето днем и ночью я держал окна настежь: приди и виждь!
Итак, бросай свое Монрепо и приезжай сюда. Ничего, кроме ношенного платья, не привози, но гитарой запасись непременно: это придает шик благонамеренности. Ежели есть прислуга, особенно ежели ветхая, вроде моего Евдокимыча, то также привози, потому что это придаст нашему сожительству шик респектабельности: авторитеты, значит, признаем. По исполнении сего заживем отлично. Будем вдвоем сидеть у открытого окна, бряцать на струнах и петь:
Ах, что кому до нас!
Когда праздничек у нас,
Мы зароемся в соломку,
И никто не найдет нас!
Тпруинь! тпруинь! тпруинь!
Помнишь?
Затем, жму твою руку и жду. Vale [15]15
Прощай (лат.)
[Закрыть].
Иван Косушкин.
P. S. Забыл сказать: при доме есть сажалка и в ней караси. Караси да ежели в сметане… это что ж такое!!»
Первой мыслью по прочтении этого письма было: так вот они, две десятины, об которых мне целый месяц твердят! Затем через час я уже был у Разуваева, и мы в два слова кончили. Finis Монрепо!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.