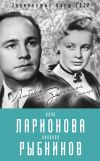Текст книги "Записки Ларионова"

Автор книги: Михаил Шишкин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Увы, все было напрасно. И даже чин умника, потерявшийся было где-то на волжских почтовых перегонах, снова настиг меня на берегах Невы.
В десять вечера дежурный офицер обходил рундом дортуары, проверял, все ли легли спать, погашены ли свечи, и отправлялся на квартиру. Ночью воспитанники были предоставлены сами себе, и тут начиналась уже настоящая корпусная жизнь со своими законами и понятиями о приличии и чести.
На второй день моей ротной жизни ко мне подошли двое огромных, косая сажень в плечах, воспитанников из старшей, гренадерской роты и сдернули с меня одеяло. Они были завернуты в простыни, на головах были подушки, надетые как треуголки. Один с важным видом сказал, что их послал зубной врач осмотреть новенькому зубы. Нас обступили в ожидании потехи. Я хотел вырваться, но первый скрутил мне руки за спиной, а второй, нажав пальцами на щеки, открыл мне рот и стал ломать передний зуб ключом. Я закричал, тогда как по законам чести должен был терпеть положенное испытание молча. Зуб стал крошиться, рот был полон крови. На крик прибежал фельдфебель, и у меня еще, слава Богу, хватило ума сказать, что я оступился и разбил зуб о спинку кровати.
Истинными правителями заведения были так называемые старые кадеты, очерствелые животные, из которых и розги не могли выдавить ни стона, ни слезинки. Таким старым кадетом был Панов, сломавший мне в памятную ночь зуб. Он ходил раскачиваясь, размахивая руками, сжатыми в кулаки, так что встречные должны были давать ему дорогу, ибо он громко предупреждал каждого: “Расшибу!” Ноги он старался сгибать колесом, для этого при ходьбе упирался на мизинцы. Говорил басом, с начальником и учителями был груб, даже дерзок, учился плохо, или, лучше сказать, вовсе не учился, торчал в одном классе три года. Он нюхал табак и по приходе из отпуска, особенно по воскресеньям, часто бывал пьян. В классе он неизменно сидел на задней скамейке, но зато в строю, на ученьях, на смотрах он всегда являлся молодцом, ни у кого не было лучше начищенных сапог и выбеленной с глянцем амуниции, а приемы делались им с таким темпом, что ружье трещало и один раз даже сломался приклад. Подобные ему девятивершковые верзилы выпускались даже не в армейские полки, а в какой-нибудь гарнизонный батальон.
По заведенному еще при царе Горохе неписаному закону, младшие воспитанники поступали в услужение старшим, должны были угождать им во всем, чистить сапоги, за что получали покровительство. Панов почему-то именно меня выбрал в свои protégé. Все восстания младших жестоко подавлялись старшими, и в этом страшном унижении утешало лишь то, что не ты один терпишь, а все – и это делало из унижения обыкновенный порядок. Тем более что рано или поздно младшие сами становились старшими, и тогда уже они пользовались всеми привилегиями силы.
По воскресеньям и в праздники воспитанников разбирали по домам родственники или знакомые, у кого они были в Петербурге. За примерное поведение отпускали и так, в билете было написано: “Отпускается до вечерней зори”, – и, не имея в городе ни одной близкой души, я все равно был рад, что можно вырваться из казармы, и целый день слонялся по широким, занесенным снегом улицам, глазея на гуляющий народ, на санки, что мчались по Неве во всех направлениях по дорожкам, отмеченным полицией рядами елок. Какое наслаждение было после бесконечной бессмысленной недели смотреть на огромные кубы зеленого льда, сверкавшего на солнце, жевать быстро стынущий на морозе калач вместо тошнотворного корпусного фризоля, слушать, как подковы, пробивая снег, звонко бьют по камням, как взвизгивают на мостовой полозья – все петербургские звуки, сладостные для провинциального уха.
Лето мы провели в лагерях под Стрельней.
Два месяца полк готовился к высочайшему смотру, но накануне торжественного события наша рота совершила набег на окрестные сады. Мы объелись кислых неспелых яблок, и я встретил долгожданный день на скользких досках, перекинутых над смердящей выгребной ямой.
Через несколько дней из дома пришло письмо, в котором сообщалось о смерти отца. Во время очередного припадка он сбросил со стола завтрак, поскользнулся на варенье и, падая, разбил голову об угол печки. Сутки почти пролежал он в беспамятстве и на следующий день скончался.
Я просился поехать хоть ненадолго домой, но шли маневры, и меня не отпустили.
Осенью мы были переведены из мушкетерной в выпускную гренадерскую роту.
Мы стали старшими и вовсю пользовались полученными привилегиями. В победоносных драках с младшим курсом я участия не принимал, но зато ходил по воскресеньям в портерную в Большой Гребецкой у самого корпуса. Не знаю, за что облюбовали это заведение воспитанники Дворянского полка, верно, за заплеванный, пахнувший пивом пол и залитые клеенки. Обыватели петербургской части много потерпели от “дворян” и частенько натравливали на портерную полицию, тогда нужно было спасаться оттуда через черный ход.
К радостям выпускной роты относились и посещения Марии Николаевны, полной дамы не первой молодости, рябой, как терка. Мария Николаевна поила чаем с вкусными домашними плюшками, которых можно было есть сколько хочешь, а потом вела в соседнюю комнатку, где стояла пышная, чудесно пахнувшая кровать. Плату она брала чисто символическую, любила гладить по голове и называла меня, а наверно, и каждого: “Жизненочек!”
В первый раз меня привел в маленький деревянный домик на Карповке Панов. Помню, что я вдруг страшно оробел и прирос к стулу, когда мой чичероне, сославшись на срочные дела, ободряюще ткнул меня под столом коленкой, поцеловал Марии Николаевне пухлую ручку и быстро ушел. Я потерял дар речи и на все ее попытки оживить разговор, испустивший дух с уходом Панова, отвечал лишь растерянной улыбкой и все просил подлить еще чаю. Мария Николаевна смотрела на меня, подперев щеку кулаком. Потом, взглянув на часы, отняла у меня ото рта чашку, взяла за руку и повела в соседнюю комнатку.
Я стал посещать этот дом регулярно и вскоре вовсе перестал стесняться Марию Николаевну. Более того, с товарищами обыкновенно молчаливый, я принимался тут рассказывать ей обо всем на свете: и о корпусных новостях, кого и за что оставили без обеда, и о горах, что строила полиция к Масленице, и о театре, где был всего два раза. Я жаловался ей на самовлюбленного дурака Субботина, на плац-мучителя Брайко, которому Бог отомстил за нас, наградив слабоумной дочкой. Когда не было занятий, полковник ходил с ней гулять по двору. Она была старше нас, но ходила всегда только за руку, глядя кругом с бессмысленной улыбкой, беспрестанно работала своей тяжелой челюстью и все норовила запихнуть в рот какой-нибудь камень. Лежа на жаркой перине и кушая плюшку, я даже обсуждал с Марией Николаевной, не с умыслом ли поставил коварный француз монумент основателю империи на санкюлотский колпак.
Мария Николаевна слушала меня всегда с интересом, играя крестиком на моей груди или расчесывая мне волосы своим овальным гребнем, часто расспрашивала меня про дом, про матушку, про отца, и я все-все ей рассказывал, так мне было с ней легко и хорошо.
Однажды Мария Николаевна сказала ни с того ни с сего:
– Тебе, Сашенька, тяжело будет жить.
– Да отчего же? – удивился я.
– А ты не грубый. Все они какие-то грубые, а ты ласковый.
Я только пожал плечами. А потом в комнатке, когда я представлял себе на той же самой воздушной жаркой перине Панова и старался вовсю быть грубым, Мария Николаевна вдруг, испугав меня, засмеялась и зашептала:
– Ну что ты, что ты, жизненочек мой, не нужно!
На Преподобную Марию, как раз начинался Великий пост, я подарил ей перстенек довольно изящной работы, на который потратил почти что все присланные из дома деньги. Я просто хотел сделать ей приятное, а она заплакала, и я успокаивал ее, и весь тот вечер мы просто проговорили, забыв о соседней комнатке.
У Марии Николаевны было так тепло и покойно, особенно в морозы, и с каждым разом все мучительнее было возвращаться студеными бесконечными улицами в полк пешком – воспитанники не имели права взять извозчика.
Как-то, уже весной, я застал у Марии Николаевны молодого человека примерно моих лет, щуплого, с впалой чахоточной грудью. Мария Николаевна представила нас друг другу. Это оказался ее сын. На столе стоял самовар, Мария Николаевна разливала чай. Юноша сидел, опустив глаза в чашку, мне тоже кусок не лез в горло, хотя видно было, Марии Николаевне очень хотелось, чтобы мы подружились. Извинившись, что неважно себя чувствую, я ушел.
Больше к Марии Николаевне я не ходил. Хотя собирался не один раз, называл себя дураком и не понимал, что такое не пускает меня в теплый уютный дом на Карповке.
Как это бывает обыкновенно, жизнь однообразная, когда дни похожи один на другой, будто солдаты на смотре, кажется мучительной и нескончаемой, а пролетает в один миг. Так и два года, проведенные мною в Дворянском полку, тянулись по-черепашьи, а промелькнули, будто ничего и не было, один кошмарный сон.
Помню, как кто-то закричал: “Вышли!” – и все бросились вниз по лестнице, будто боясь, что на последнего не будет распространена высочайшая милость. Выбежав во двор, мы окружили читавшего приказ, и каждому хотелось потрогать своими пальцами заветную бумажку.
С чем можно сравнить чувства, переполнившие свежеиспеченного офицера, надевающего в первый раз мундир прапорщика, эту toga virilis[9]9
Одеяние мужа (лат.).
[Закрыть]? Как не простить задорного мальчишества – пройти весь Невский несколько раз из конца в конец без шинели, хоть и морозит еще северный апрель! Нужно было показать на свет Божий свои эполеты, и я в одном сюртуке, конечно, с фуфайкой под ним, отправился на целый день бродить по городу, с замиранием сердца подходя к каждому часовому, а ну как не отдаст честь, но часовые вытягивались в струнку, встречные солдаты снимали фуражки, и, чтобы испить чашу открывшихся наслаждений до дна, я два целковых прокатал на извозчике.
Я был выпущен прапорщиком в Муромский пехотный полк.
Перед тем как отправиться к месту службы, я получил отпуск и в четыре дня прискакал в Симбирск.
Городок встретил меня майскими цветущими садами. Какими домашними, родными показались мне после Петербурга и Туть, и Куликовка, и Подгорье, не говорю уже о Венце. А когда въехал на Большую Саратовскую, будто вовсе и не было этих двух лет.
Я не вбежал, а влетел на крыльцо. Объятиям, поцелуям, слезам, смеху не было конца. Весь дом переполошился. Суетливо накрывали ужин, послали топить баню. Не знаю, что может сравниться с приездом в родной дом после долгой отлучки.
Матушку я нашел сильно постаревшей и в болезни. Смерть отца она перенесла очень тяжело и винила в ней себя.
В первую минуту мне показалось, что в доме ничего не изменилось, будто я уехал отсюда только вчера. На том же месте висела любимая в детстве картинка с рыцарем, из чрева которого пророс дуб. Все тот же самовар туманил стекла. Все тот же несошедшийся пасьянс был брошен на маленьком столике. Но скоро в гостиную робко вошла худенькая девочка в черном платьице, обшитом белым батистом. Тетка моя взяла на воспитание сиротку. Родители ее, симбирские мещане, погибли при ужасных обстоятельствах. По детской шалости в доме начался пожар. Они бросились выносить вещи. Отец замешкался, задохнулся в дыму, и его накрыла обвалившаяся крыша. Мать же, оттого что схватилась за неподъемный сундук, изошла кровью и умерла в нашей симбирской больнице.
Звали девочку Ниной. Это был угловатый ребенок с длинной шеей и большими испуганными глазами. Она смотрела исподлобья, волчонком, все время жалась к тетке, и за весь вечер от нее не добились ни слова. Я хотел приласкать ее и протянул руку, чтобы погладить по голове, но Нина отшатнулась от меня, как от прокаженного. Несчастная эта девочка была некрасива, и в довершение ко всему в углу рта у нее росла родинка, которую хотелось смахнуть, как приставшую крошку.
На Троицу мы переехали в деревню.
В кабинете отца было непривычно чисто и прибрано. Меня поразило только, что еще не выветрился его запах.
Отца похоронили на пригорке, недалеко от нашего березняка. Этот пригорок он приметил давно и даже сам еще набросал скиццы часовни, которую клали мужики, когда мы пришли на могилу.
Матушка рассказала, что перед самой смертью, придя в себя, отец все грозил кому-то. Она переживала, что он так и умер огорченным.
В гроб отца положили, как жил, небритым, в халате – он так велел.
Очень скоро Нина перестала меня дичиться, привязалась ко мне и повсюду бегала за мной как собачонка. Мы ходили с ней в лес, удили рыбу. Я учил ее ездить верхом. Даже когда я устраивался в беседке с книгой и просил ее не мешать, она садилась тихонько в углу, забравшись с ногами на скамейку и уткнувшись подбородком в колени. Я прогонял ее, но она, обиженно надув губы, уходила не сразу.
Приохотить Нину к чтению мне никак не удавалось, зато она могла часами сидеть с теткой над блюдечками с мелкими камушками, которые находили в утиных желудках. Обе обожали сортировать их по величине и цвету и каждый сорт высыпали в особый, аккуратно подписываемый мешочек.
Каждый день, проведенный дома, становился все томительней. Уже началась долгожданная настоящая жизнь, и хотелось делать дело, а не удить рыбу и спать до полудня.
Вместо месяца я не пробыл дома и двух недель.
Тот магический кристалл, в который я пристально вглядываюсь и вижу самого себя – себя ли? – юного прапорщика, то ли загоревшего по дороге, то ли черного от пыли, срывающего, перегнувшись через борт коляски, одуванчики с обочины, – и тот волшебный камень отшлифован с подвохом. Я вижу себя как бы двойным взглядом. Много ли в нас: в том мальчике, который спешил в полк и медлил одновременно, то торопя возницу, то, наоборот, радуясь, что слетело колесо с оси, и во мне, теперешнем, общего?
Я смешон самому себе. Не был ли я, то бишь тот молодой человек, мечтателен, самонадеян, глуп? Как гордился он жалкой экипировкой, полученной при выпуске, как косил глаза на кованые медные эполеты, на нитяные вытишкеты, как тщательно чистил на каждой станции сапоги, что годились только во время непогоды для ротных учений. Жалованье в 450 рублей ассигнациями, положенное в то время пехотному прапорщику, казалось ему чуть ли не сказочным богатством.
Тот юноша не знал, что ждет его впереди, но не сомневался ни на минуту, что в полку встретит его настоящее мужское братство. Он хотел служить, и не за жалованье, не за чины, а за совесть, приносить пользу отечеству. Он знал, что его будут любить женщины, причем прекраснейшие из них. Он верил в свою судьбу. В каждой встрече, в каждом слове он видел некое высшее предназначение. Даже губастая девка на какой-то станции под Ардатовом, которая чистила у конюшни толченым кирпичом самовар и улыбнулась проезжему офицеру, вытирая потный лоб красной от кирпичной пыли ладонью, показалась ему какой-то необыкновенной, если и сейчас, через столько лет, я вижу тот двор, заросший лопухами, тучи зеленых мух над выгребной ямой, переливающихся на закатном солнце, себя, выпрыгнувшего из брички размять ноги, пока меняют лошадей. Я обмахиваюсь огромным листом лопуха от вечерней зудливой мошкары. Всякий раз, когда прохожу мимо, сапоги мои отражаются в начищенном самоваре. Девка, измазанная кирпичной пылью, хихикает. Я хочу что-то сказать, что-нибудь легкое, острое, неотразимое, но не знаю что и лишь молча прохаживаюсь туда-сюда, вдыхая запахи то конского пота, то жареной рыбы. Из окон кухни доносился со сковородок треск и шипение масла. Лошади были уже готовы, а я так и не нашелся, что же сказать, и все чего-то медлил. В вечернем воздухе разливалась прохлада, а от брички, нагревшейся за день на солнце, исходил жар. Наконец я плюхнулся на раскаленную кожаную подушку, и ямщик тронул. Я зачем-то оглянулся. Девушка засмеялась, помахала мне своей красной ладошкой и крикнула что-то вслед. Я не расслышал и так и не знаю, что она мне тогда крикнула.
Впрочем, какое все это имеет значение?
Первый же день в полку охладил мой пыл.
Седьмая дивизия была на маневрах в Витебской губернии и располагалась в летних лагерях у Яновичей, страшной дыры, где спилось не одно поколение пехотных субалтерн-офицеров.
Встреча нового прапорщика вышла мало похожей на ту, которую я себе представлял.
Целую неделю шли дожди, земля, и так болотистая, превратилась в непроходимую топь. В палатках все отсырело. Моросило без конца, так что по нескольку дней не удавалось просушить платье. Люди ходили замерзшие, злые, усталые. К тому же в день моего приезда произошло несчастье. По нерадивости молодого солдата разорвало пушку, трех человек убило наповал, нескольких изувечило. В тот вечер мои новые товарищи собрались в одну палатку и, чтобы согреться, угрюмо пили водку, хоть это и было на полевых ученьях запрещено. Все сидели в одном исподнем, промокшая одежда сушилась. В палатке было тесно, сыро, пахло несвежим бельем. Зыбкий свет походной лампы освещал хмурые лица, а рубашки в полумраке отдавали зеленью, будто за эти дождливые дни здесь все поросло плесенью. Разговор был унылым, часто прерывался, и было слышно, как по палатке сыплет с деревьев. Впервые тогда я познакомился с полковыми присказками, заменявшими тосты, вроде: “Едет чижик в лодочке в генеральском чине, не выпить ли водочки по этой причине” или “Один шнапс не шнапс, два шнапса не шнапс, и только три шнапса составляют полшнапса”.
Первая же рюмка ударила мне в голову. Я чувствовал, как взгляд мой становится скользким, а в ушах нарастает эхо. Я знал, что по непривычке к водке первый же мой день в полку может окончиться какнибудь необыкновенно, но отставать от других казалось мне оскорбительным, и я вливал в себя водку из последних сил. При этом я чувствовал на себе неприятные насмешливые взгляды скуластого, атлетического телосложения поручика Богомолова. Сам он опрокидывал рюмку за рюмкой и становился все угрюмей. Всякий раз он чокался со мной и криво улыбался, ожидая, что я откажусь от следующей рюмки, но это только подзадоривало меня.
Рядом со мной на походной койке сидел полный, рыхлый человек, свесив толстые босые ноги в грубых, чуть ли не солдатских подштанниках, капитан Бутышев. Он сидел молча, в общий разговор не вмешивался, то и дело шмыгал широким, тавлинкой, носом и держал свой стаканчик в большом пухлом кулаке. Он вдруг наклонился и прошептал мне на ухо:
– Вам, молодой человек, достаточно, не пейте больше!
Я испугался, что все это слышат, отодвинулся от него подальше и нарочито бодро протянул свою рюмку, куда мне тут же налили водки. Бутышев снова подвинулся ко мне и зашептал:
– Да опомнитесь вы! Зачем вам это? Они дурачатся, сговорились вас напоить, а вы, вы как мальчишка, честное слово!
В холодной отсыревшей палатке уже стало душно и даже жарко, стоял пар. То, что сказал Бутышев, было дико и невозможно. Я просто не мог в это поверить. Хмель уже распоряжался мной, как рука паяца балаганным петрушкой. Намолчавшись за день, я вдруг разговорился. Я видел на себе презрительные, насмешливые, недобрые взгляды, но остановиться было уже не в моих силах. Я вскочил, чтобы произнести тост. Рюмка опрокинулась, и водка пролилась мне на колени.
– Господа! Вот он сказал мне что-то несуразное, – язык мой заплетался, я еле стоял на ногах, – будто бы вы сговорились напоить меня! Господа, ведь это же неправда? Скажите, ведь это неправда?
Я не помню, какую я нес потом околесицу. Кто-то из офицеров в сапогах на босу ногу, в шинели, наброшенной прямо на исподнее, хотел отвести меня в мою палатку, но я вырвался и стал кричать, что я никому не позволю себя оскорблять.
– Вот вы, – кричал я Богомолову, – вы хотите обидеть меня! А за что? Что я вам такого сделал?
Снова меня схватили за руку. Я стал драться, заехал кому-то по носу кулаком. Меня скрутили. Я визжал, кусался. Меня чуть не придушили подушкой.
Пробуждение мое было ужасным. Я очнулся на своей походной койке весь в собственной рвоте.
Что за счастье быть юношей! Я думал, что ничего кошмарнее этой минуты у меня в жизни уже не будет.
Я не знал, как смотреть в глаза моим новым товарищам, но они вели себя так, будто ничего особенного не произошло.
Квартировал я в маленьком флигельке у четы Бутышевых. Отец этого недалекого, но доброго человека выслужился из даточных и был капельмейстером. Видно, с детства у Бутышева осталась любовь к полковым оркестрам, и он, когда бывал пьян, начинал уверять всех, что наши полковые оркестры лучшие во всей Европе.
– Ну что, что они там могут? – горячился капитан и шмыгал своим рыхлым, как хлебный мякиш, носом. – У нас отбирают мальчиков лучших из лучших. Из тысячи, может, из десяти тысяч одного. Но этот один – талант! В шинельке, да Моцарт! А у немцев в музыканты нанимаются всякие проходимцы. Сами посудите, ведь что у них таланту делать в полковой музыке? Под Прейсиш-Эйлау мы целый день слушали австрияков. И что, разве это музыка? Тьфу, а не музыка! То ли дело наши! А почему? Да потому, что не за деньги играют, а за отечество! А у них? У них там даже чины не выслуживать, а покупать надо! Подумать только, я отечеству моему служу, а они со своим торгуются! Вот что хочешь со мной делай, а не понимаю!
Сам Бутышев играл на флейточке, которую бережно хранил в дорогом футляре. Сперва меня это даже развлекало. Но каждый вечер из-за стены доносились одни и те же три-четыре мелодии, и с каждым днем от этих концертов становилось все тошнее.
Жил Бутышев вдвоем с супругой, оба сына его служили где-то в кавалерии, дочь была замужем, тоже за военным. Капитанша была незаметной, бессловесной на людях женщиной, набожной и совершенно необразованной. Кажется, она не умела даже толком ни читать, ни писать. Однако это безобидное с виду существо было сущим домашним тираном, к тому же, как я скоро догадался, она сильно злоупотребляла водкой. Помню, как, в первый раз услышав за стеной крики, грохот падающих стульев, звон гибнущей посуды, я бросился к ним и стал барабанить в дверь. Шум прекратился, но открывать мне не стали. Я испугался, сам не знаю чего, и принялся со всей силы бить в дверь сапогом. На пороге вдруг появился Бутышев, растрепанный, пьяный, с расцарапанным лицом.
– Александр Львович, прошу вас, не обращайте внимания. Жене моей нездоровится. Вы идите себе с Богом, идите.
Я обругал сам себя, что лезу куда не просят, и пошел на свою половину.
Вскоре по прибытии в полк я был откомандирован для набора рекрутов в Нижегородскую губернию, в Кулебаки. Партионным командиром был назначен поручик Богомолов, тот самый, который так подло опоил меня в достопамятный вечер. Я думал, что после такого мы будем с ним вечными врагами, но он отнесся ко мне впоследствии весьма снисходительно и даже дружелюбно. Этот широкоплечий кудрявый красавец обладал недюжинной силой. Воткнув палец в дуло солдатского ружья, он мог поднять его и держать горизонтально. Солдаты его справедливо считались лучшими в полку во всем, что касалось выправки, маршировки и прочих плац-премудростей. Педагогических хитростей тут никаких не было. Не довольствуясь розгами и фельдфебельскими зуботычинами, Богомолов сам вколачивал своими кулачищами в солдат необходимые знания. Особенно сильно страдали несчастные мордовцы и прочие инородцы, которые по совершенному незнанию русского языка весьма туго поддавались обучению.
В полку много рассказывали о его отваге. В той командировке мне как раз представился случай убедиться в справедливости этих суждений. Надо сказать, что вообще сборы рекрутов – занятие не из приятных. Только у конченого мерзавца и негодяя не дрогнет сердце при виде того, как матери, отцы, возлюбленные прощаются с этими молодыми людьми, обреченными, иначе не скажешь, на службу отечеству. Наша команда находила этих несчастных юношей запертыми в амбарах, уже под стражей. Местное начальство боялось, что рекруты сделают что-нибудь над собой до передачи их в полк. Тем не менее случаи членовредительства случались. В избе у одного деревенского старосты лежал в сенях на ворохе соломы изможденный, посиневший юноша, почти мальчик. Он хотел отрубить себе палец, но бил левой рукой, неловко, и перебил себе кисть. При нас его отправили на телеге под конвоем в Кулебаки, где должен был состояться суд. В основном же в солдаты шли безропотно, кто в молчании, кто с озорной песней, но все напивались так, что рекрутов приходилось выносить и складывать на телеги мертвецки пьяных. На сборном пункте несчастных ждали протрезвление и простая и страшная процедура превращения человека в солдата. Пьяный лекарь вызывает к себе по одному из толпы голых, белых, с красными ногами и руками людей, которые испуганно жмутся друг к другу, смотрит каждому в рот, в промежность, ставит в меру, кричит:
– Два аршина, четыре вершка и пять осьмых!
Потом раздается короткий приказ:
– Лоб! – И обреченного ведут брить к огромному детине, который без конца харкает на пол и ходит босыми ногами по горе волос.
Уже в последний день один из рекрутов сошел с ума, выхватил у солдата-ротозея тесак и стал бегать в беспамятстве по улице. Собственного брата, который хотел его успокоить, он пырнул с размаха в живот. Спятившего рекрута хотели пристрелить, но Богомолов хладнокровно подошел к нему, увернулся от тесака и кулаком свалил парня с ног. Когда я подбежал, рекрута уже связали, а Богомолов смахивал пыль с панталон.
– Зачем вы это сделали? – спросил я. – Ведь он мог зарезать вас!
Богомолов рассмеялся.
– Коли бы спросил себя – зачем, так и не сделал бы.
Этот человек становился мне все интересней, и на обратном пути, поджидая как-то партию в придорожном трактире, мы разговорились.
– Богомолов, вас считают лучшим офицером в полку. Но вы же бьете солдат. Это свинство. Это же унижает человеческое достоинство, ваше, мое.
Он посмотрел на меня удивленно.
– Вы благородный, неглупый человек, – продолжал я. – Вам должно быть совестно бить людей.
– Милый Ларионов, – услышал я в ответ, – вы правы. Более того, я разделяю ваши убеждения, что путем внушения, а не наказания приличнее всего вести солдата к осознанию своего долга. Но нужно еще, чтобы и солдаты разделяли ваши убеждения. А у нас ведь в России как – не вы побьете вашего слугу, так он побьет вас.
– Неужели человеческое достоинство зависит от местонахождения на ландкарте?
Он снова засмеялся.
– А вы докажите обратное. Вам, Ларионов, дают солдат, так начните с ними говорить на “вы”, откажитесь от битья, организуйте школу, и посмотрим, что из этого получится.
Я вспылил и стал доказывать, что именно так все и должно быть в армии и что я берусь показать на собственном примере, что уважение к человеческой личности даст результаты, которые и не снились розгам.
– Вот и чудно, – сказал Богомолов. – Держу пари, что не пройдет и трех месяцев, как вы прикажете всыпать кому-нибудь палок, пусть и на “вы”.
В полк я вернулся одержимым. Мне дали солдат, и я принялся за дело со всей горячностью молодости.
Первым делом я отменил телесные наказания и стал говорить “вы” каждому рядовому. Солдаты, все хмурые, бессловесные, доведенные по уставу предыдущими командирами до состояния скотской тупости, смотрели на меня исподлобья, с недоверием, ожидали какого-то подвоха.
Я с жаром принялся за их образование. Начались уроки чтения и письма. Я взялся также читать им лекции по римской истории из Роллена, пересказывая перевод Тредиаковского. Все мои нововведения солдаты воспринимали молча, с привычной покорностью, как и все, что им приказывали делать. С историей еще куда ни шло – рассказы про Сципиона, Гракхов, Брута они слушали как сказки про Бову Королевича. Труднее было с письмом и арифметикой. Мои занятия они воспринимали лишь как дополнительное мучение после нескольких часов муштры и выводили закорючки без всякого прилежания.
Вечерами я присаживался к их костру, проводил долгие беседы о пользе образования, рассказывал им о свободолюбивых героях древности, о чудесах западной цивилизации, достигнутых за счет уважения к личности, о том, как устроена североамериканская республика, и о многом, многом другом, что, как мне казалось, должно было возбудить в этих забитых людях хоть какие-то проблески чувства собственного достоинства. Солдаты слушали меня молча и только трясли над огнем свои рубахи, из которых сыпались в пламя с легким потрескиванием вши.
Пожалуй, я нашел лишь одного благодарного ученика. Им был Устинкин, из новых рекрутов, беззлобный щуплый малый, которого в детстве ошпарили, и у него одна щека и шея были в морщинистых пятнах и бледных, бескровных разводах. Бестолковый во фрунте, задумчивый от природы, растеряха, он больше всех подвергался гонениям на плацу. Да и солдаты, бессильные перед командирами, вымещали свою злобу на этом безропотном существе. Все кому не лень угощали Устинкина затрещинами, пинками. Он единственный проявлял живой интерес к моим занятиям, был сметливым, схватывал все на лету, слушал, приоткрыв свой перекошенный ошпаренный рот, а когда выводил буквы, от усердия наклонял голову так низко к бумаге, что казалось, будто он пишет носом, а не пером.
Устинкин был неразлучен с приблудной собачонкой, такой же хилой и чахлой, как он сам. Собачонку, всеобщую любимицу, солдаты звали кто Шрапнелью, кто Баранкой – за свернутый хвост. Все ее подкармливали и тискали как ребенка, но бегала она почему-то только за Устинкиным. Она сопровождала нас на все ученья, и даже когда просто кололи штыками куль с сеном, всякий раз вместе со взводом бросалась с лаем на врага. Меня поражало, как эти люди могут делиться с собачонкой последним сухарем и при этом жестоко издеваться над своим же товарищем по несчастью.
Богомолов как-то после утреннего развода подошел ко мне, дружески потрепал по плечу и сказал:
– Ваши старания похвальны. Но послушайте, Ларионов, неужели вы думаете, что способны что-нибудь изменить? Поверьте мне, это – стена, о которую хорошо разбиваются лбы. Неужели вам не жалко ваших сил, ваших трудов, вашего времени, в конце концов?
Я молчал в ожидании, когда кончится этот беспредметный разговор.
– На носу дивизионный смотр, и я советую вам не заниматься пустяками, а лучше хорошенько помуштровать ваших солдат!
Даже Бутышев счел своим долгом явиться ко мне и заявить:
– Александр Львович, что вы делаете? Зачем все это? Так нельзя!
– Да почему же? – закричал я, не сдержавшись. – Почему же нельзя?!
– Никак нельзя! – снова повторил капитан свой единственный аргумент.
Все это только подстегивало меня в моих начинаниях. Однако то, что поначалу казалось делом хоть и трудным, но благодарным, на поверку оказывалось почти неисполнимым.
После моих нововведений, направленных на очеловечивание их скотской жизни, я ожидал от моих солдат если не воодушевления, то по крайней мере признательности. Увы, все, что так гладко складывалось в моем воображении, выходило на деле боком. Я делал все, чтобы солдаты поняли и полюбили меня, но они ко всему относились подозрительно, чурались меня, на мои попытки поговорить по душам отвечали уклончиво. Они принимали своего нового офицера за какого-то дурачка и за глаза смеялись надо мной. Видя, что бояться им нечего, они перестали на наших занятиях что-либо делать, теряли тетрадки, карандаши, а потом и вовсе, несмотря на мои уговоры, перестали посещать мою школу. В конце концов у меня остался один только ученик, Устинкин, которого стали травить еще сильней за то, что он ходил ко мне за книжками. Солдаты мои, обнаружив, что никто их не наказывает, распустились, ничего не хотели делать даже по службе. Я уже не говорю про воровство, на которое чуть ли не каждый день жаловались местные жители. Все мои разговоры о безнравственности подобных поступков имели на них не большее воздействие, чем дуновение ветерка. Обкрадывание солдатского содержания во всех инстанциях, начиная с дивизионных складов и кончая походной кухней, было таким обычным явлением, что ему никто не удивлялся. Отсюда неизбежно вытекало донельзя легкое отношение солдата к чужой собственности. Невозможно было его убедить в гнусности воровства, если этим воровством он поддерживал свое существование.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?