Текст книги "Фантазии Невского проспекта (сборник)"
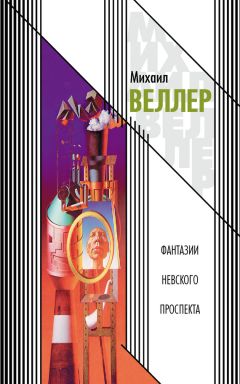
Автор книги: Михаил Веллер
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Чем менее счастлив человек, тем больше он знает о счастье. Мы знали о счастье все. А система наша разваливалась, фактически не родившись, а только так, будучи объявленной.
Вечером я заперся в лаборатории и стал выкраивать из системы монопрограмму. Мне требовалось счастье в работе. Да; так. Перейдя в иное качество, мы откроем для себя то, чего не видим сейчас.
По склейкам и накладкам обнаружилось, что не я первый. Я не удивился; я выругал себя за медлительность и трусость…
…Уплыл по Неве ладожский лед; сдавали экзамены, загорали на Петропавловке, уезжали на целину; отцвели сиренью на Васильевском, отзвенели гитарами белые ночи. Растаяло изумление: ничто, абсолютно ничто во мне после накладки программы не изменилось. Лишь боязнь покраснеть под долгим взглядом: мы не могли сознаться друг другу в нашем контрабандном и несуществующем счастье, как в некоем тайном пороке.
Нас прогнали в отпуск (всех – в августе!) и выдали к нему по пять дополнительных дней; но это был не отпуск, а какая-то испытательская командировка. Я лично провел его в библиотеках и поликлиниках: кончилось переутомлением и диагнозом «гастрит», гадость мелкая неприличная. И теперь, презирая свое отражение в зеркале шкафа, я вместо утренней сигареты пил кефир.
– Счастье труда, – остервенело сказал Лева Маркин, – это чувство, которое испытывает поэт, глядя, как рабочие строят плотину! – В бороде его, как предательский уголок белого флага, вспыхнула элегантная седая прядь.
Люся, вернувшаяся в сентябре похудевшая и незагорелая, с расширенными глазами, даже не улыбнулась. Зато Игорь, после спортивного лагеря какой-то тупой и нацепивший значок мастера спорта, гоготал до икоты.
Более прочих преуспел Митька Ельников: он не написал диплом, был с позором отчислен с пятого курса, оказался на военкоматовской комиссии слеп как кувалда, устроился к нам на полставки лаборантом (больше места не дали), вздел очки в тонкой «разночинской» оправе – сквозь кои нам же теперь и соболезновал, как интеллектуальным уродам, не читавшим Лао Цзы и Секста Эмпирика.
А вот Олаф – молодел: утянул брюшко в серый стильный костюм, запустил седые полубачки, завел перстень и ни гу-гу про пенсию.
В октябре сравнялся год наших мук, и мы не выдали программу. Нам отмерили еще год – на удивление легко. «Предостерегали вас умные люди – не зарывайтесь, – попенял директор Павлик-шефу. – Теперь планы корректировать… А на попятный нельзя – не впустую же все… Да и – не позволят уже нам… Ну, смотрите; снова весь сектор без премии оставите». Павлик-шеф произнес безумные клятвы и вернулся к нам от злости вовсе тонок и заострен как спица.
И поняли мы, что тема – гробовая. Пустышка. Подкидыш. И ждут от нас только, чтоб в процессе поиска выдали, как водится, нестандартные решения по смежным или вовсе неожиданным проблемам.
С настроением на нуле, мы валяли ваньку: кофе, журналы, шахматы… к первым числам лепя тусклые отчеты о якобы деятельности.
И когда вконец забуксовали и зацвели плесенью, Люся вдруг засветилась неземным сиянием и пригласила всех на свадьбу.
Но никакой свадьбы не состоялось. За два дня до назначенного сочетания Люся ушла на больничный, и появилась уже погасшая, чужая.
И понеслось. Развал.
– Ребята, – жалко улыбался Игорь на своей отвальной, – такое дело… сборная – это ведь сборная… зимой в Испанию… «Реал»… судьба ведь… – и нерешительно двигал поднятым стаканом.
– Спортсмен, – выплеснули ему презрение. – Лавры и мавры… изящная жизнь и громкая слава…
– Что слава, – потел и тосковал Игорь. – Сборы, лагеря, режим, две тренировки в день… себе не принадлежишь… А как тридцать – начинай жизнь сначала, рядовым инженером, переростком. Судьба!..
– Не хнычь, – сказал я. – Хоть людей за зарплату развлекать будешь. А что мы тут штаны за зарплату просиживаем без толку.
– Шли открытки и телеграммы, старик!
Вместо Игоря нам никого не дали. Место сократили. Лаборатория прослыла неперспективной. Навис слух о расформировании.
В конце зимы – пустой, со свечением фонарей на слякотных улицах, – от нас ушел Павлик-шеф. Его брали в докторантуру. И ладно.
Безмерное равнодушие овладело нами.
XIВ качестве начальника нас наградили «свежаком».
«Свежак» – специалист, данным вопросом не занимавшийся и, значит, считается, не впавший в гипноз выработанных трафаретов. В идеале тут требуется полный нонконформист. В просторечии такого именуют нахалом. Он должен хотеть перевернуть мир, имея точкой опоры собственную голову. Поэтому голова, как правило, в шишках размерами от крупного до очень крупного.
Если у человека есть звезда – его звездой была комета с хвостом скандальной славы. Неудачник без степеней, пару институтов вывел к свету, но самому под этим светом места не хватило, как водится; а пару ликвидировал, что положения его также не упрочило. Нам его подкинули из Приморья: генеральную тему приютившего самоподрывника института он вывернул таким боком, что Министерство закрыло институт прежде, чем Академия наук раскрыла рты.
Решили, хихикнула Динка-секретарша, что нам он не навредит…
Забрезжило: свежак закроет тему, и заживем мы по-прежнему…
Свежак был подтянут, собран и стремителен. Молча оглядев нас пустыми глазами, он вернулся с графином и тряпкой: чисто протер пустой стол, стул, телефон. Ветер развевался за ним. Ветер пах утюгом, одеколоном «Эллада» и органическим отсутствием сомнений в безграничности его возможностей. Затем он тронул русый пробор, подтянул тонко вывязанный галстук и погрузился в чтение машинного журнала. Звали свежака старинным и кратким именем Карп.
– Пр-риказываю сделать открытие, – передразнил Лева в курилке.
– Матрос-гастролер, – скрипнул Олаф. – Я уше стар для суеты…
То был последний перекур. На столах нас встретили стандартные стеклянные пепельницы. Угрозы коменданта здания Карпа явно не интересовали.
– Курить здесь. – Он отпустил нам взглядом порцию холодного омерзения, опорожняя вербно-окурочный кувшин в корзину.
– Ты взглядом сваи никогда не забивал? – восхитился Митька.
– «Вы», – бесстрастно сказал Карп. – Приступить к работе.
И тоном дежурного по кораблю бурбона-старшины предложил «разгрести свинюшник» и представить личные отчеты за полтора года.
Мы написали отчеты. И он их прочел. И сообщил свое мнение.
– Шайка идиотов, – охарактеризовал он нас всех кратко.
XII– Сократ, если Платон не наврал от почтения, имел неосторожность выразиться: «Я решил посвятить оставшуюся жизнь выяснению одного вопроса: почему люди, зная, как должно поступать хорошо, поступают все же плохо…».
Карп сунул руки в карманы безукоризненных брюк и качнулся с носков на пятки. Подзаправившись информацией, наш чрезвычайный руководитель с лету заехал под колючую проволоку преград и опрокинул проблему с ног на уши:
– Почему люди, зная, что и как нужно им для счастья, сплошь и рядом поступают так, чтоб быть несчастливы? Решение здесь. И?
Вам виднее, товарищ начальник, выразили наши взгляды…
– Представление о счастье у каждого свое, – жал Карп, – ладно. Но отчего порой отказываются от своего именно счастья; и добро бы жертвуя во имя высших целей – нет же! неизвестно с чего! наущение лукавого? как с высоты вниз шагнуть манит, что ли?
Охмуренный стальным командиром Митька запел согласие, приводя рассказ Грина, где новобрачный скрывается со своей счастливой свадьбы, следуя неясному импульсу, и т. д. А Карп прицельно извлек из книжного завала в углу черный том и прочеканил:
– «Томас Хадсон лежал в темноте и думал, отчего это все счастливые люди так непереносимо скучны, а люди по-настоящему хорошие и интересные умудряются вконец испортить жизнь не только себе, но и всем близким».
И мы как под горку покатились считать и пересчитывать. Искаженные судьбы и разбитые мечты вырастали в курган, и прах надежд веял над ним погребальным туманом. Мы прикасались к щемящей остроте странных воспоминаний о том, чего не было, и манящий зов неизвестного терзал наш слух и отравлял сердце.
Барахтаясь в философско-психологическом мраке субъективизма и релятивизма, мы изнемогали: в чем проклятое преимущество несчастья перед счастьем, если в здравом рассудке и трезвой памяти люди меняли одно на другое?..
Ахинея!! – старательно ведя себя за шиворот по пути несчастий, люди не прекращали тосковать о счастье! не успевало же оно подкатиться – раздраженно отпинывали и, тотчас заскорбев об утраченном, двигались дальше!
– О, тупой род хомо кретинос! – рвал Лева взмокшую бороду.
А Митька, кое-как собрав в портрет искаженное непосильным умственным усилием лицо, выпаливал:
– В законодательном порядке! паршивцы! приказ! мы тут мучайся, а они нос воротят! выпендриваются! а потом жалуются еще!
– Да-да-да, – подтвердил Карп при общем веселье. – «Команде водку пить – и веселиться!» Дура лэкс, сэд лэкс: будь счастлив!
Он щелкнул пальцами, Митька виновато поежился, выхватил из кармана бумажку и торжествующе зачел:
«Так что же заставляет нас вновь и вновь возвращаться сердцем в те часы на грани смерти, когда раскаленный воздух пустыни иссушал наши глотки и песок жег ноги, а мечтой грезился след каравана, означавший воду и жизнь?..»
XIII– Мерзавцы, Люсенька, – как, впрочем, и стервы, – самый полезный в любви народ… Вы рассыпаете пудру… Судите: они потому и пользуются большим успехом, чем добропорядочные граждане, что являются объектами направленных на них максимальных ощущений. Они «душевно недоставаемы» – души-то там может и вовсе не быть, достаточна малая ее имитация. Но поведением то и дело играют доступность: мол вот-вот – и я всей душой, не говоря о теле, буду принадлежать только тебе. Обладать таким человеком – как достичь горизонта. Потребители! – они потребляют другого, и этот другой развивает предельную мощность душевных усилий, чтоб наконец удовлетворить любимого, счастливо успокоиться в долгожданном равновесии с ним. Они натягивают все душевные силы любящего до предела, недостижимого с иным партнером, добрым и честным.
Кроме того, они попирают мораль, что неосознанно воспринимается как признак силы: он противопоставляет себя обычаям общества!
Они – как бы зеркальный вариант: зеркало отразит вам именно то, что вы сами изобразите, но за холодной поверхностью нет ничего… Продувая мундштук папиросы, держите ее за другой конец, табак вылетит… Но именно в этом зеркале душа познает себя и делается такой, какой ей суждено сделаться, какой требуется некоей вашей глубинной, внутренней сущностью, чтоб силы жизни ее явили себя, а не продремали втуне…
Конечно, если человек теряет голову – то не все ли равно, сколько там было мозгов… Опыт полезен вот чем: да, интеллект составляется к пятнадцати годам – но ведь способность решать задачи – это прежде всего способность правильно их ставить. Нет?
XIV«Жизнь может рассматриваться как сумма ощущений (ибо ощущение первично). Они могут вызываться раздражителями первого и второго порядков: внешнее, физическое действие, и внутреннее – через мышление, воспоминания, чтение и т. п.
Самореализация – культивированный инстинкт жизни, т. е. активности, действий, мыслей, событий; в известном плане – максимальное стремление ощущать. Стремление к полноте жизни.
Счастье – категория состояния. Возникает при адекватном соответствии всех внешних условий, обстоятельств, факторов нашим истинным душевным запросам, потребностям.
Полнота жизни может быть уподоблена графику в прямоугольной системе координат, где горизонтальная ось (однонаправленная от нуля и конечная) – время, а вертикальная (продолжающаяся неопределенно-длительно) – напряжение человеческой энергии, или ощущения, или эмоции (вверх от нуля положительные, вниз – отрицательные). Чем больше длина ломаной линии, состоящей из точек напряжения во все моменты времени – тем более реализованы возможности центральной нервной системы, тем более полна жизнь. Максимальные размахи в обе стороны от оси времени соответствуют максимальной полноте жизни.
Стремление к страданию объясняется потребностью в самореализации, необходимостью сильных ощущений. Статичность ситуации – даже еще в перспективе – неизбежно снижает уровень ощущения. Когда душа не может иметь сильных ощущений в верхней половине «+», она ищет их в нижней половине «-». Сильная душа неизбежно стремится к такой ситуации, где получит максимальные ощущения, и выходит из нее или вследствие ослабления ощущений, или уже под диктат инстинкта самосохранения, дабы сохранить себя для дальнейших ощущений, с тем чтобы сумма их в результате была максимальной в течение жизни.
Счастье и страдание различны по знаку, но идентичны по абсолютной величине. Упомянутый график не плоскостной: ось ощущений искривлена по окружности перпендикулярно оси времени, и в неопределенном удалении половины «+» и «—» соединяются в единое целое. То есть имеется как бы цилиндр, где предельные отметки счастья и страдания лежат в близкой, взаимопроникающей и даже одной области.
Человек подобен турбине, как бы пропускающей через себя некую рассеянную в пространстве энергию. Мощная турбина захиреет на малых оборотах, слабая – искрошится на больших. Сильная душа жадна до жизни – ей нужен весь цилиндр целиком. Для нее более смысла в сильном страдании, нежели в слабом счастье…»
Дальше шли расчеты.
– Тавтология, – ощетинился Лева. – Счастье – это счастье, а страдание – это тоже счастье… Эх, термины…
– Кого возлюбят боги, тому они даруют много счастья и много страдания, – проскрипел Олаф и кивнул.
– «Для счастья нужно столько же счастья, сколько несчастья», – провещал Митька Ельников, оракул наш самоходный, став в позу.
Рукопись Карп переправил из больницы. С разбирательства пред начальством он вернулся темен лицом, выпил графин воды, выкурил пачку «Беломора»; а на вид такой здоровый мужик.
XVМонтажников нам не дали. И отсрочек не дали. А в случае срыва пообещали распустить.
Чуть пораньше бы – распустились с радостью. Но сейчас… Словно ветер удачи защекотал наши ноздри – неверный, дальний…
Грянули черные будни. Самосильно, под дирижирование Карпа, мы сооружали установку с голографической камерой, действующую модель его «цилиндра счастья».
В чаду паяльников, прожигая штаны и заляпываясь трансформаторным маслом, мы спотыкались среди хлама. Лева хвастал спертыми у юных техников ферритовыми пластинами. Люся прибыла с махновского налета на радиозавод, раздутая от добра, как суслик. Мы шатались по корпусу, подметая что плохо лежит; канючили намотку и транзисторы, эпоксидку и лампы. Сблизились с жуками из приемки старых телевизоров. Люсин серебряный браслет пошел на припой. Карп экспроприировал у Олафа «до победы» золотые запонки, и знакомый ювелир протянул из них роскошную проволоку. Дома, обнаружив пропажу, подняли хай: дочь в панике выпытывала по телефону, не пьет ли Олаф и не завел ли молодую любовницу; а если нет, то почему он так хорошо выглядит и так поздно приходит. В ответ рассерженный Олаф вообще остался ночевать на работе.
Оргстекло, явно казенное, я купил у столяра Казанского собора.
Всех превзошел, опять же, Митька Ельников: он устроился по совместительству в ночную охрану, и прознай начальство об его партизанских рейдах по лабораториям экспериментаторов и внутреннему складу – не миновать Митьке счастья труда подале-посе-верней.
XVIНастал день.
Конструкция громоздилась, зияя незакрашенными швами, пестрея изолентой: рабочая модель… Зайчики текли по стеклу голографической камеры. Наш облезлый друг «МГ-34» в присоединении к ней выглядел насекомым, высосанным раскидистым паразитом.
Мы курили на столах, сдвинутых в один угол: все, что ли? или еще какие гадости предстоят?
– Поехали, – сказал Карп.
Вот так мы поехали.
Митька мекнул, высморкался, махнул рукой, нога об ногу снял кроссовки и полез через трансформаторы и емкости в рабочее кресло, стыдясь драного носка. Мы с Левой обсаживали его ветвистой порослью датчиков и подводили экраны. Олаф с Люсей на четвереньках ползали по расстеленной схеме, проверяя наши манипуляции.
– От винта. – Карп возложил руки на клавиши. В чреве монстра загудело; замигали панели. Передо мной стояла Люся и бессмысленно обламывала ногти.
– Сейчас дым пойдет, – бодро просипел Митька.
Карп, поджав губу, крутил верньеры.
Камера светилась. Зеленоватый прозрачный цилиндр, расчерченный координатной сеткой, проявился в ней.
Ждали – гласа господня из терновой кущины.
Ломаная малиновая линия легла на цилиндре густо, как гребенка. Митька выдохнул и глупейте распялил рот. Работающая приставкой «МГ-34» пискнула, на ее табло вермишелью покрутились цифры и остановились: 0,927.
– Так, – сказал Карп. Этот человек не умел удивляться.
За него удивились мы. Прокол, начальничек. Чтоб лоботряс-Митька оказался, выходит, счастлив на девяносто три процента!..
– Надо же… А по виду и не скажешь…
– Следующий? – бесстрастно произнес Карп.
Люся отвердела лицом и ступила на подножку. Мы подступили с датчиками. Возникла заминка. Она взглянула вопросительно – и рассмеялась, – прежним ведьминским смехом, пробирающим до истомы…
0,96 условного оптимума было у Люси.
И она заревела – детски икая и хлюпая носом. Не умею передать, но какой-то это был светлый плач. И доплакав, стала прямо юной.
– Следующий.
Олаф: 0,941.
Лева: 0,930.
– Почему же у меня меньше? – убежденно сказал он. – Не. Не-не.
– Потому, – назидательно курлыкнул Олаф. – Когда дочек своих выдашь замуж, тогда узнаешь, почему.
А я сказал то, что подумал:
– Халтура.
В ответ Карп поволок меня жесткой лапой за плечо: мы извлекли с улицы преуспевающего джентльмена, по ходу объясняя на пальцах.
0,311 – равнодушно высветило табло.
Переглянувшись – мы высыпали на облаву за следующими жертвами.
Диапазон был охвачен: от 0,979 у закрученной матери четырех детей до 0,027 у чада высокопоставленного отца, коий полагал себя счастливым, как сыр в масле, и высокомерно пожал плечами…
Мне выдало 0,928. Хм. И ничего я такого не испытывал.
Карп вытер белейшим платком лицо и руки и сел последним.
Ломаная, нервная линия легла густо, как нить на катушку. Предостерегающе запищало, замигало, дрогнуло. «1,000».
– Э-э, ты ее по себе сварганил, – разочарованно протянул Лева.
– Ну, вот и все, – опустошенно сказал Карп, не отвечая.
Вылез. Прошелся. Глянул в окно. Сел. Закинул на стол ноги в сияющих туфлях. Выудил последнюю «беломорину» и смял пачку.
– А теперь останется только вводить поправки при наложении программы, – пустил колечко. – Индивидуальное определение режима и загрузки нервной системы мы получили. Нагрузки надо давать на незагруженные участки, напрягая их до оптимума. Качество нагрузок варьируемо, они сравнительно заменяемы; всех мелочей не учтешь, да и ни к чему… Ведь личность изменяется, в процессе деятельности приспосабливая себя к тому, что имеет. Нет? Ромео можно было подставить вместо Джульетты другую… Нет?.. Эх…
– А как же… мы? – не выдержал я, кивнув на табло.
– Не жирно ли нам? – поддержал Лева Маркин.
– «Мы», – усмехнулся Карп. – Мы работаем. Плохо живем, что ли?
Он грустнел. Тускнел. Отчетливей проступало, как он уже немолод, за сорок, наверное, и хоть и здоровый на вид мужик, а выглядит погано: тени у глаз… одутловатость…
– Ах, ребятки-ребятки, – он раздавил окурок и встал. – От каждого по способностям, каждому по потребностям, – великий принцип. Вот на него мы и работаем. Как можем.
XVII– Шо вы хотите, – сказал завкардиологией добрым украинским голосом. – Нельзя ему было так работать; знал он это. Полгода не прошло, как от нас вышел. Гипертония, волнения, никакого режима. Взморье бы, сосновый воздух, физические нагрузки, нормальный образ жизни. Эмоций поменьше. Болезни лекарствами не лечатся, дорогие мои… жить надо правильно…
Вошла сестра с серпантином кардиограмм, и мы поднялись.
– Живи так, как учишь других, и будешь счастлив, – прошептал у дверей Митька стеклянному шкафчику с медицинской дребеденью, и я оглянулся на усталого доктора, вряд ли живущего так, как полезно для здоровья…
А первый инфаркт у Карпа случился в тридцать один год; тогда ему зарубили кандидатскую, зато позже на ней вырос грибной куст докторских в том институте, который он поставил на ноги.
Потом был морг. Потом кладбище. Потом мы вернулись в лабораторию.
XVIIIК нам возратился Павлик-шеф – уже защитивший докторскую и ждущий утверждания в ВАКе. Он посвежел, помолодел, поправился и снова говорил, что ему двадцать девять лет, и он самый молодой доктор наук в институте.
Мы спокойно раскручивали методику и оформляли диссертации. Все постепенно вставало на свои места – будто ничего и не было… Пошли премии. Пошел шум. Павлик-шефу утвердили докторскую, он выступал на симпозиумах и привозил сувениры со знаменитых перекрестков мира.
Над столом у него висит фотокопия графика Карпа: малиновая ломаная кривая, густо, как нитка катушку, оплетающая зеленоватый сетчатый цилиндр.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































