Читать книгу "Москва Первопрестольная. История столицы от ее основания до крушения Российской империи"
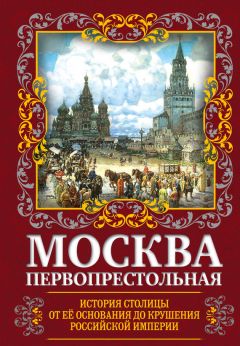
Автор книги: Михаил Вострышев
Жанр: Архитектура, Искусство
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
В селе Коломенском
Дума ведет начало от стародавнего обычая русских князей совещаться о важных делах со своими главными дружинниками, или, как их звали, думцами. Когда-то проводить такие совещания были обычаем, строго исполнявшимся князем. Но с усилением московских государей эти совещания, не представлявшие определенного законного учреждения, утратили свою обязательность. Боярская дума приобретала большое значение только в отсутствие государя в Москве или при его малолетстве. И все же звание думного боярина было очень почетно; получить его могли лишь самые сановитые бояре, да и то по достижении преклонных лет. При назначении в члены Боярской думы царю всегда приходилось считаться с родовым старшинством бояр и жаловать многих в Думу «не по разуму их, а по великой породе», как выразился знаменитый московский подьячий XVII века Григорий Котошихин.
К прекрасному царскому дворцу в селе Коломенском, этой «игрушке, которая только что вынута из ящика», подкатил возок царя Алексея Михайловича. Подбежавшие стольники открыли дверцы возка и
помогли царю выйти. На высоком крыльце стояли уже некоторые из бояр. Царь предполагал устроить в Коломенском заседание Думы по поводу важных вестей из Литвы. На одной из нижних ступенек царь заметил своего любимца, товарища детства, наблюдателя за его соколиной охотой Афанасия Матюшкина.
– Здравствуй, Афанасий Иванович! Давно ли из Москвы? – ласково заговорил царь со своим сокольничим.
– Сейчас только приехал, государь-батюшка. Был по указу твоему на Посольском дворе, шесть кречетов показал цезарским послам. Просили они личину снять с одного кречета, а ты мне указал помехи им не чинить, и по твоему указу все сделано.
– А в добром ли порядке привел их назад? Сам знаешь, птица ценная. А коли вашим небрежением кто из них умрет, вы и на глаза мне лучше не попадайтесь!
Царь, поддерживаемый стольниками, взошел на крыльцо. Алексей Михайлович был среднего роста, с белым, подернутым румянцем лицом. Его умные глаза светились добротою. Царь был заметно тучен, опирался на посох. Наслаждаясь, он глядел вдаль, туда, где до самого горизонта тянулись заливные луга. Здесь в половодье появлялось множество птиц. Глядя на необъятную ширь лугов, царь переживал наслаждение завзятого соколиного охотника. На лугах тешился он летней царской потехой, пускал своих соколов.

Коломенский дворец.
Художник А. Адамов
Не отрывая взора от любимого вида, Алексей Михайлович сказал Матюшкину:
– А соколов-то, что привезли из Севска и из Ростова, я, Афанасий, уже видел. Добрые птицы. Прикажи их взять Петру Хомякову. Да вели звать севских Другом и Юдругом, а ростовских Сирином и Смиреною.
Царь повернулся, и еще лучший вид предстал перед глазами. Внизу текла Москва-река, а за ней виднелись белые стены монастырей.
– Ух! Хорошо! – глубоко вздохнул он, ясно улыбаясь. – Люди как есть облака! То явятся нам воздухом благопотребным, благонадежным и уповательным, то грозят зноем, яростью, злохитростью и ненастьем и пророчат погибель, отчаяние. Здесь люди что воздух – зефир реченный, сладкоточивый!..

Сокольничий.
Художник А.Д. Литовченко
Но вот взгляд его упал на кучку стрельцов. Как назло, чтобы показать, что не все так ладно, как кажется благодушному царю, старший из стрельцов стал рассказывать, как поехали они по царскому указу и велению архимандрита в обитель преподобного Саввы под Звенигород. Встали было на Конюшенном дворе, да пришел зело пьяный монастырский казначей Никита.
– По какому указу здесь стоите? – спрашивает, шатаясь.
Стрелецкий десятник сказал, что по велению архимандрита. Как ударит тогда его Никита посохом по голове. А зипуны, седла и оружие стрелецкое приказал пометать со двора.
Стрелец кончил. Царь вмиг изменился. Пропало все добродушие, лицо стало красным, даже багровым, кулаки непроизвольно сжимались.
– Враг проклятый! Единомышленник сатаны! – глухо выкрикнул он. И, повернувшись к стоящим сзади, быстро бросил стольнику Мусину Пушкину: – Алексей Богданович, жди указа!
Спешно отстраняя стольников, царь вошел во дворец.
* * *
Царь у себя в кабинете. Он уже отошел от гнева, опять ровный цвет лица, добродушная улыбка. Но не веселая, а грустная. Перед ним стоит Мусин-Пушкин.
– Приедешь в монастырь, соберешь братию и прочтешь вразумительно мое письмо. «От царя и великого князя всея Руси Алексея Михайловича врагу Божью, и богоненавистнику, и христопродавцу, и разорителю чудотворцева дома, злому, пронырливому злодею казначею Миките…..» Все прочти. О пьянстве его безумном, – продолжал царь, водя пальцем по своему письму, – о мыслях его вражьих. Поезжай, не мешкая, в монастырь, исполни все по указу.
Мусин-Пушкин ушел. Царь сидел задумавшись. Этот случай с непокорным в пьянстве казначеем оставил свой след в настроении Алексея Михайловича. Вспылив гневом и по обыкновению вскоре отойдя от него, он чувствовал себя утомленным. Сильно болела голова.
Царь позвал лекаря. Тот пришел, посмотрел, сосчитал пульс и решил пустить больному кровь… Действительно, царю помогло. Радостный вышел он в соседнюю комнату, где, ожидая царских приказов, сидело на лавках до десятка стольников. Все встали.

Знахарь
– Гневно стало мне, как узнал о Никите-пьянице, в голову ударило. Но пришел немчин-дохтур, отворил кровь, и хорошо стало, легко. Хочу, чтобы и другим легко было, – с добродушно-хитрой улыбкой продолжал царь. Весело играя глазами, он обратился к врачу: – Пускай, дохтур, и им кровь!
Врач едва заметно улыбнулся, поклонился царю и, подойдя к ближайшему от себя стольнику, взял его за руку. Тот сделал было попытку отстраниться, но тотчас же покорился. За ним пошли другие. Одни подходили со страхом, другие с омерзением. Но отказаться не смели. Царь все время улыбался. В это время в комнату вошел с докладом старик-боярин Родион Стрешнев. Но Алексей Михайлович не дал ему сказать ни слова, жалкие лица стольников настроили его на шутливый лад.
– А мы тут, Родион Матвеевич – весело заговорил он, – кровь себе отворяем. Пускай и ему, дохтур!
Доктор, только что справившийся с последним стольником и уже собиравшийся спрятать свой ланцет, равнодушно направился в сторону Стрешнева. Тот отскочил от него, как от дьявола.
– Нет, нет! Бог свят! – закричал боярин.
– Что?! – грозно прикрикнул царь.
– По старости, великий царь. – начал было Стрешнев.
– Или моя кровь хуже твоей холопской?! Или ты лучше других?!
И царь несколько раз ударил боярина по спине. Тот кланялся и медленно пятился, довольный тем, что бесовское действо не коснулось его.
А царь уже отошел. Он стал говорить о предстоящем обеде, приказывал, кому быть за столом.
Прошло еще полчаса, и за успокоением наступило раскаяние.
– Послать надо за стариком-то Родионом Матвеевичем, – приказал Алексей Михайлович подошедшему Матюшкину. – Да вели подобрать ему подарки, чтобы не гневался на меня за жестокость.
– Тишайший, – шептали между собой стольники.
* * *
Утро. Только что стало вставать солнышко. С реки еще тянет прохладой, кругом поют петухи. Царь уже сидит у себя в кабинете за столом. Около него несколько очиненных гусиных перьев. Вот он взял одно из них, пододвинул к себе начатый лист бумаги и стал продолжать письмо казанскому воеводе князю Никите Одоевскому. Был старик в Казани, а на Москве в его семье случилось горе – умер сын Михаил. Вот царь и начал писать письмо еще в Москве, но там его прервали, да в суете, в хлопотах шумной жизни и не писалось. Зато сейчас в благодатной тишине раннего утра слова утешения как бы сами лились из сердца государя.
«И тебе, боярину нашему и слуге, и детям твоим через меру не скорбеть. А нельзя, чтобы не поскорбеть и не прослезиться. И прослезиться надобно, но в меру, чтобы Бога наипаче не прогневить, и уподобиться бы тебе Иову праведному… Князя Федора я пожаловал, от печали утешил, а на вынос и на всепогребальное я послал сколько Бог изволил, потому что впрямь узнал, что, опричь Бога на небеси, а на земли опричь меня, никого у вас нет. И я рад их и вас жаловать. Только ты, князь Никита, помни Божью милость, а наше жалованье. На то нас Бог и поставил, чтобы беспомощным помогать. И тебе бы учинить против сей нашей милостивой грамоты одноконечно послушать с радостью, то и наша милость к вам безотступно будет…»
Алексей Михайлович кончил писать, бросил перо, прошелся два раза по комнате, подошел к окну. На дворе, прямо против царских окон, у небольшого каменного столба, наверху которого находился небольшой ящик, стояли два бедно одетых крестьянина с испуганными лицами. Один из них держал в руках небольшой бумажный свиток. Увидев появившегося в окне царя, они упали на колени и поклонились ему до земли. Царь махнул рукой. Крестьяне встали, и тот, что держал свиток в руке, положил челобитную в ящик.
Царь вернулся к столу. Он посмотрел на письмо, задумался, затем быстро сел и на обороте листа написал: «Князь Никита Иванович! Не оскорбляйся, токмо уповай на Бога и на нас будь надежен».

У боярского крыльца.
Художник В.В. Поляков
Сзади послышался осторожный шорох. Царь обернулся. В дверях стоял дежурный стольник.
– Великий государь. Бояре собрались на Думу.
– Иду, – сказал царь. И, проходя мимо стольника, добавил: – Не забудь челобитную принять, там, в ящике.
Стольник поклонился.
* * *
Когда Алексей Михайлович вошел в палату, бояре, окольничие и думные дворяне уже стояли по местам, каждый по чести своей, как государь указал, готовые по его знаку рассесться по широким скамьям.
Царь занял свой трон. Заседание началось. Докладывал думный дьяк. Он поведал печальную весть, что двадцатитысячное русское войско было разгромлено поляками, воеводы Хованский и Нащокин с тысячью воинами еле успели скрыться в Полоцке.
Царь спрашивает Думу: как поправить случившуюся беду? Бояре молчат. Встает царский тесть боярин Милославский, самоуверенно разглаживает бороду и начинает говорить:
– Великий государь! Не все еще пропало, то оплошка воевод Хованского да Нащокина. Пожалуй, государь, меня главным ратным воеводою, и я не то что взятое удержу, но и самого круля польского возьму в полон.

Царь Михаил Федорович с боярами в его государевой комнате.
Художник А.Я. Рябушкин
Царь вскочил с трона, бросился к Милославскому.
– Страдник! Худой человечишко! – весь красный от гнева, кричал Алексей Михайлович. – Как смеешь ты хвастаться своим умением в ратном деле! Когда ты ходил с полками?! Какие над врагом одоления чинил?! Или смеешься ты надо мною?!
И, схватив Милославского за бороду, царь пинками в спину погнал своего тестя вон из комнаты. Наградив его у порога последним пинком, он выставил его за дверь и гневно захлопнул ее. Повернувшись к боярам, царь вытер потное от гнева и резких движений лицо, сделал два шага, как вдруг его взор упал на Родиона Стрешнева. Алексей Михайлович вспомнил о нанесенной старику обиде, кивнул ему, спросил о здоровье и попросил забыть старое. Старик был растроган и прошептал, садясь, соседу:
– Незлобивый.
– А то нет! – тихо отвечал сосед. – Не мы одни, чужие люди немцы, и те диву дивятся, на него глядючи. Вчера еще главный цезарский посол говорил, «Что за царь у вас! Власти у него над народом, как нигде в других землях. А как он ее вершит! Ни вотчин не взял ни у кого, ни живота не лишил, ни смертью не казнил никого из своих холопов».
– Тишайший, – шепчет Стрешнев, с умилением глядя на государя.
Просвещенный боярин
«Как хороши были старые московские особняки внутри большого тенистого сада с их флигелями и сараями в глубине двора! – ностальгически восклицал в ХХ веке москвич Николай Львов. Сколько прелести в старой мебели из красного дерева, обшитой бархатным штофом, и в глубоких креслах, покрытых зеленой кожей, и в этих старых портретах в золоченых рамах, которые казались детям такими страшными, точно ночью дедушка может выйти из рамы и в своем синем халате прийти наверх, в детскую комнату! Как хорошо было в няниной комнате! Как пела у нее желтая канарейка в клетке, и ее веселый треск разливался по всему коридору!.. Эти старые усадьбы с белыми колоннами и тенистыми липовыми аллеями – Ивановки, Михайловки, Петровки – и московские особняки в переулках возле Арбата, с Собачьей площадкой и с Поварской, отложившие на русской жизни свой глубокий отпечаток идеализма, давшие поколения людей с возвышенными мыслями, бескорыстных в своих побуждениях и искренних в своих чувствах!….»
Неподалеку от Тверской улицы, за высокой оградой, резко выделяясь среди других строений своей величиной, поднимался изящный дом князя Василия Васильевича Голицына. Обладатель этой большой усадьбы был самым влиятельным вельможей в государстве.
В сентябре 1669 года к каменным воротам голицынской усадьбы подкатила карета. Приехавших гостей встретил дворецкий князя и повел их наверх в большую Столовую палату.
Гости – польский посол француз де ла Невилль и молодой вельможа Андрей Артамонович Матвеев – с удовольствием огляделись вокруг.
– Что за прекрасный дом! – воскликнул де ла Невилль, обращаясь к Матвееву. – Верьте моей опытности, это один из лучших домов в Европе. Как чудесно блестит на солнце покрытая медными листами крыша! А здесь внутри – дорогие ковры, живопись. Я восхищен.

Князь Василий Васильевич Голицын (1643–1714)
И действительно, огромная комната была восхитительна. На потолке изображено нечто похожее на небо с солнцем, планетами и звездами, а вокруг в позолоченных ободках, искусно вырезанных из дерева, целый ряд изображений пророков. Сверху спускается оригинальная люстра с шестью подсвечниками, которую как бы поддерживает золоченая голова лося. Стены отделаны под мрамор, окна частью расписаны, на стенах зеркала в золоченых резных и черепаховых рамах. Кое-где в простенках индийские и персидские ковры с золотыми и серебряными узорами на красном шелковом фоне. Посреди комнаты столы со скамьями вокруг, обитые красным гамбургским сукном, и огромный резной шкаф для серебряной посуды.
Не успели гости хорошенько осмотреться, как вошел хозяин – вельможа среднего роста в богатом темно-синем кафтане польского покроя.
– Здравствуйте, дорогие гости, – начал он и тотчас, переходя на латинский язык, обратился к де ла Невиллю: – Как здоровье его величества?
Не ожидая услышать в далекой варварской Московии чистую латинскую речь, де ла Невилль с некоторым замешательством ответил. Голицын тотчас забросал его вопросами, из которых было видно, что он прекрасно осведомлен в европейских событиях. Откуда-то поблизости раздались звуки струнных инструментов.
Это княжеские дворовые играли на фиолях, услаждая слух иностранца польскими напевами. Хозяин пригласил гостей пойти далее и что-то сказал подошедшему дворецкому.
Миновав несколько палат и переходов, они вошли в небольшую по сравнению с первой, но еще лучше украшенную комнату. Стены частью были завешаны кожами немецкой работы. Кругом портреты царей в дорогих рамах, ниже шпалеры – изображения из охотничьей жизни, как видно, вывезенные из заграницы. В углу стоят клавикорды, далее на особой подставке орган. В простенках меж окон развешаны географические карты. Множество небольших тумбочек, столиков, шифоньерка. На них – поставцы, шкатулки, янтарный ящичек. Около двери висит термометр в тонкой резной раме.

Палаты Троекуровых и Голицыных.
Художник Д.П. Сухов
Хозяин предложил сесть в кресла, обитые дорогой шелковой материей с золотой бахромой по бокам. Но де ла Невилль быстро подошел к большому ореховому, с зеркальными дверцами, шкафу и прочел названия нескольких книг. Среди них были русские летописи, сочинения серба Юрия Крижанича, латинская и польская грамматики, немецкая география, несколько переводных изданий.
«Недаром, – мелькнуло в памяти де ла Невилля, – сюда сходятся иностранцы и для приятной беседы, и за делом. Недаром Голицын отказался от предрассудков своей страны и принимает всех, даже иезуитов».
В это время подали вино. Князь произнес тост за здоровье польского короля. Де ла Невилль собрался отвечать, взял свою чарку и невольно залюбовался ее изяществом: это была почти плоская чарка с двумя ручками, а в ней, как живая, сидела маленькая серебряная лягушка.
– Пью за процветание России и ее главного руководителя, – сказал он, обращаясь к Голицыну.
– Я верю в это процветание, – задумчиво глядя перед собой, ответил князь. – Мы устроим школы здесь, в Москве, выпишем учителей из Греции, предложим боярам отдавать своих детей и сюда, и в латинские школы Польши. Постепенно Россия сравняется с другими европейскими державами. Нужно освободить крестьян, владение рабами только портит человека.
Де ла Невилль, слушая смелые проекты Голицына, увлекся ими, и фигура князя становилась все значительнее. Позднее, взявшись за перо, чтобы описать свое посольство в Москву, де ла Невилль признавался, что многие в России уже не чуждаются Европы, желают ее влияния, и среди них первое место занимает «великий Голицын».
Добровольные мученицы
Боярыню Феодосию Морозову царь Алексей Михайлович назвал «второй Екатериной-мученицей». Хотя по его же приказу боярыню заключили под стражу, но невозможно было не преклоняться перед ее силой воли и стойкостью. На простых дровнях везли по московским улицам боярыню Морозову в застенок. Высоко подняв руку со сложенным двуперстным знамением, призывала она всех крепко стоять за старую веру. Со слезами провожали москвичи страдалицу, и позорное шествие вместо того чтобы отпугнуть народ, наоборот, только укрепило его дух.
Быстро спустились на землю зимние сумерки. Движение на улицах сразу замерло, лишь изредка виднелись запоздалые прохожие и далеко разносились скрип их шагов на морозном воздухе. Сторожевые решетки уже расставлены, и отряды стрельцов пошли по Москве обычным дозором.

Москва.
Художник В.П. Овсяников
В доме вдовы боярина Морозова еще не спят. У боярыни гостья, сестра ее, княгиня Урусова. Обе женщины сидят в спальной хозяйки и оживленно беседуют. Неспокойно на душе у Федосьи Прокопьевны Морозовой, со дня на день ждет она, что потребуют ее наконец к ответу за упорство в старой вере. Знает она, что сильно разгневан на нее государь за это упорство, а еще больше за то, что отказалась присутствовать на свадьбе его, сославшись на болезнь, в которую никто не верит. А как могла она быть на этой свадьбе? В качестве ближней боярыни ей пришлось бы занять одно из первых мест в церемонии и произносить царский титул, где государь, изменивший старой вере, называется благоверным. Пришлось бы целовать его руку, принимать благословение от архиереев, зараженных никонианской ересью. Нет, лучше уж вынести всю тяжесть царского гнева, лучше пострадать и умереть, чем иметь общение с еретиками. Знатные родственники не раз уговаривали ее пойти на уступки хотя бы ради благополучия своего единственного сына-под-ростка. Но боярыня была непреклонна.
– Люблю Христа больше сына, – говорила она.
Княгиня Урусова, всецело находившаяся под влиянием сестры, также держалась древних обычаев, но до поры до времени не проявляла этого. Сегодня утром муж ее, вернувшись из дворца, велел ей предупредить сестру о возможности скорой присылки от царя за ней. На эту тему и беседовали теперь сестры.
Сильный стук в ворота заставил их вздрогнуть. В доме началось движение, испуганная полусонная дворня высыпала в сени. Нельзя было сомневаться в причине переполоха. Как ни ожидала боярыня этого часа, все же в первый миг растерялась и бессильно опустилась на скамью. Но очень быстро мужество вернулось к ней. Сестры положили семь земных поклонов перед иконами и благословились друг у друга для поддержания бодрости. Затем хозяйка легла в постель, а княгиня скрылась в маленьком чулане рядом со спальней. В ту же минуту в комнату вошел чудовский архимандрит Иоаким, а за ним еще несколько духовных и светских лиц. Боярыня даже не пошевелилась при их входе и на требование архимандрита стоя выслушать царский приказ отвечала отказом.
Начался допрос.
– Како крестишься, како молитву творишь? – обратился Иоаким к лежащей.
Та истово перекрестилась, приподнявшись на локте, двумя перстами и произнесла Исусову молитву на старинный лад.
В эту минуту один из спутников архимандрита заглянул в чулан и различил в темноте человеческую фигуру.
– Кто здесь?
При имени княгини Урусовой он испуганно отступил назад – ее муж пользовался немалым влиянием при дворе. Но по настоянию Иоакима княгиня была также допрошена и тоже твердо заявила себя противницей никоновских нововведений. Архимандрит, приказав своим спутникам дожидаться его быстро вышел и поехал во дворец.
В его отсутствие комната стала наполняться челядью, многие женщины плакали. Скоро Иоаким вернулся и заявил, что государь приказал взять и Урусову. Вся дворня была также допрошена, и только двое из
служанок барыни имели мужество заявить себя верными древнему благочестию.
– Не умела ты жить в покорности, – обратился Иоаким к Морозовой, – а потому и постигло тебя царское повеление изгнать из дома твоего. Полно тебе жить на высоте – сниди долу! Восстав, иди отсюда!
Но боярыня по-прежнему не двигалась. Тогда ее силой усадили в кресло и понесли в людские хоромы. Княгиня следовала за нею. Там обеим женщинам надели на ноги кандалы и заперли, приставив крепкую стражу.
Через два дня их потребовали на допрос в Чудов монастырь. Морозова по-прежнему не желала сделать ни шагу, и ее должны были нести на сукне. Все увещевания и угрозы митрополита были тщетны.
На другой день сестер разлучили, ножные кандалы заменили шейными цепями, прикрепленными к стулу (тяжелому обрубку дерева). Боярыню посадили на простые дровни и так повезли на подворье Печерского монастыря.
Какой поразительный пример непрочности человеческого благополучия! Та ли это Морозова, богатую колымагу которой при выездах сопровождали десятки слуг?! Которой принадлежало множество сел и деревень с тысячами крестьян?! Дом которой был одним из богатейших в Москве?! А сколько мужества и несокрушимой силы духа в этой уже немолодой женщине! Несчастье не сломило ее, не заставило опустить голову. С бледным, осунувшимся лицом и вдохновенно горящими глазами, высоко подняв правую руку с двумя сложенными перстами, громко призывала она к стоянию за веру. По всему пути толпами собирался народ. Женщины плакали, многие бежали за дровнями, другие становились на колени, несмотря на глубокий снег, десятки обездоленных и убогих оплакивали свою благодетельницу и посылали вслед ей благословение.

Пытка боярыни Морозовой.
Художник В. Перов
Боярыня пользовалась громадной известностью и уважением в Москве. Благотворительность ее носила широкие размеры. Она лично посещала тюрьмы, раздавая милостыню заключенным, выкупала должников с правежа, делала щедрые вклады в церкви. Дом ее всегда был открыт для больных, странных и убогих людей, а приверженцы древнего благочестия, гонимые светской и духовной властью, находили здесь надежное убежище. Масса населения, глубоко преданная церковной старине и смущенная нововведениями, покорилась никонианству лишь из страха царского гнева. Но с тем большим уважением и благоговением смотрел народ на эту женщину, которая все – богатство, почет и свободу – принесла в жертву истинному благочестию.

Староверы
Потянулись месяцы томительного заключения. Много горечи доставило несчастной женщине известие о смерти ее сына, в которой она винила своих преследователей. Не раз собирал царь духовные и светские власти для совета о том, как бы смирить строптивых сестер. Родственники опальной боярыни не смели поднять голоса в ее защиту. Обе сестры были подвергнуты жестокой пытке и заключены в подземный сруб, где терпели всевозможные лишения и голод.
С памятного ноябрьского вечера, когда их взяли под стражу, прошло четыре года. Лишенные света и воздуха, питаясь незначительными подачками сердобольных сторожей, добровольные мученицы медленно угасали. Первой скончалась Урусова. Тело княгини подняли из сруба с помощью веревки. Через полтора месяца умерла и Морозова. Обе они были причислены старообрядцами к лику святых, а слава об их страданиях, воспетая раскольниками, живет и поныне.






























