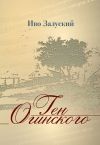Текст книги "Мемуары Михала Клеофаса Огинского. Том 1"
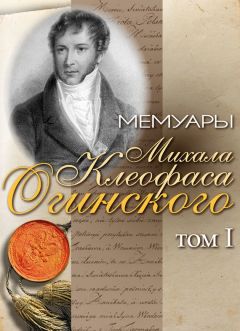
Автор книги: Михал Огинский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Однако наслаждаться этими иллюзорными утешениями довелось недолго. Всего через пятнадцать дней герцог Ришелье[19]19
Тот самый, который был затем генерал-губернатором Одессы и премьер-министром Франции после реставрации Бурбонов.
[Закрыть], прибывший курьером из Вены, принес известие о том, что 21 января 1793 года Людовик XVI был казнен в Париже на площади Революции. Это событие совершенно сразило французских эмигрантов, глубоко опечалило императрицу, возмутило все российское правительство и всех иностранных посланников в Париже, как и всех добропорядочных людей. Мрачная тишина сменила в российской столице все те праздники и увеселения, которым я был здесь свидетелем.
Я покинул Петербург 17 февраля 1793 года и проездом через Могилев и Вильну прибыл в Варшаву в конце того же месяца.
Браницкий как глава депутации генералитета был допущен на общую аудиенцию в Петербурге. Императрица приняла его, сидя на троне в окружении знатных лиц своего двора. Он произнес хвалебную речь в адрес императрицы и при этом использовал самые льстивые выражения для изъявления признательности ей со стороны польской нации – он объявил себя выразителем мнения нации. Он заявил, что поляки желали заключить с Россией альянс, который обеспечил бы неделимость и независимость Речи Посполитой, и закончил свою речь возгласом, что только Бог и Екатерина были опорой, на которой покоились их надежды.
Я присутствовал с качестве зрителя на этой аудиенции вместе со многими иностранцами. Аудиенция завершилась уклончивым ответом, произнесенным великим канцлером от имени императрицы, и вручением великолепных подарков всем депутатам, представлявшим конфедерацию.
Возвращение в Гродно этих депутатов с малоубедительным докладом не принесло большого утешения генералитету. Было отмечено с удивлением, что Браницкий остался в Петербурге под предлогом улаживания семейных дел.
Феликс Потоцкий начинал отдавать себе отчет, но слишком поздно, в той ответственности, которую взял на себя, и уже предчувствовал, что навлек на Польшу новые несчастья.
Желая избавиться от занимаемой им должности маршалка конфедерации и сохраняя, возможно, некоторую надежду добиться от российской императрицы милостей для своих соотечественников, он запросил и получил разрешение отправиться с миссией в Петербург: впрочем, он получил разрешение отправиться туда лишь в качестве посланника и только после соответствующего распоряжения императрицы.
Вот копия инструкций, данных конфедерацией Феликсу Потоцкому, написанная в Гродно и датированная 7 марта 1793 года.
«1. Г-н маршалок должен в скорейшем времени отправиться в Петербург, чтобы определить, совместно с Е[е] В[еличеством] императрицей, условия, на которых обе нации могли бы быть объединены длительным альянсом. После утверждения основных пунктов, он обязан довести их до нашего сведения или запросить у нас полномочий, для себя одного или для иного лица, которое мы можем присоединить к нему, чтобы завершить, и без промедления, доверенные ему переговоры.
2. Основы нашего конституционного режима, являющегося республиканским, должны быть в различных отношениях учтены во взаимных обязательствах, принятых на себя одной и другой стороной; эта форма правления должна учитываться также при принятии решений. Долг г-на маршалка состоит в том, чтобы сделать на этот счет те замечания, которые он сочтет необходимыми, и настаивать на них, если обстоятельства того потребуют.
3. В случае необходимости г-н маршалок должен четко заявить, что нами и всей нацией была принесена клятва относительно неприкосновенности владений Речи Посполитой, которая гарантирована нам самыми торжественными обещаниями в договорах; эта клятва не позволяет нам идти на какие бы то ни было уступки в этом вопросе. Таким образом, никакое предложение подобного рода, от какой бы стороны оно ни исходило, не может быть допустимо в договоренностях, заключаемых с Речью Посполитой через ее представителей.
4. Имея полное доверие к твердости характера и усердию г-на Потоцкого, маршалка общей конфедерации, и к его стараниям соблюсти интересы нации и поддержать их выражением общей воли нации, решено, для придания большей действенности его миссии, скрепить этот общий акт, выражающий нашу волю, печатями обеих объединенных наций за подписями маршалков, и передать его в архивы нашей канцелярии. Данным актом ему передаются наши полномочия».
Нетрудно было предвидеть, что данные Потоцкому инструкции произведут не больше впечатления в российской столице, чем присутствие там самого их носителя.
Феликс Потоцкий, осыпанный любезностями двора, обольщенный надеждами, которым не было суждено сбыться, продолжил свое пребывание в Петербурге, влача в нем томительное существование, и больше не появился на арене политических событий в Польше.
Браницкий остался в Петербурге, как я уже говорил, даже не проводив в обратный путь депутацию, главой которой он был. Канцлер князь Сапега, Ржевуский и большинство главных членов конфедерации, предвидя печальную развязку событий, ретировались в свои владения.
Глава III
Приблизительно за семь недель до отъезда Потоцкого в Петербург генералитет, покинувший по приказу императрицы Брест и расположившийся в Гродно, получил там известие о вхождении в Польшу прусских войск. Этот враждебный акт сопровождался декларацией короля Пруссии, датированной 16 января 1793 года, которая начиналась следующей фразой: «Всей Европе известно, что революция, происшедшая в Польше 3 мая 1791 года, без ведома и участия соседних и дружественных Речи Посполитой государств, не замедлила вызвать недовольство и сопротивление большой части нации и т. п.»
После этой преамбулы шло перечисление тех мотивов, которые подвигли российскую императрицу ввести свои армии в Польшу, и те, которые заставили короля Пруссии последовать ее примеру. Далее указывалось, что эти два государства имели в виду только благополучие польской нации, и речь шла только о том, чтобы предотвратить распространение французской революционности, проникшей в Польшу, помешать умножению революционных групп, усмирить злоумышленников, призывающих к волнениям и восстанию и т. п. и т. д.
Прусский король ввел на территорию Речи Посполитой, а именно в несколько районов Великой Польши, значительный военный корпус, главнокомандующим которого был генерал инфантерии Моллендорф. Главной целью короля, говорилось, была защита своих приграничных областей от проникновения революционной заразы, а также восстановление и поддержание общественного порядка и спокойствия в Польше, чтобы обеспечить благонамеренным гражданам действенную защиту.
Декларация заканчивалась так: «Король льстит себя надеждой, что при его мирных намерениях он может рассчитывать на доброе отношение нации, чье благополучие ему небезразлично, так как он хочет только дать ей доказательства своего доброго расположения».
Можно было удивляться тому, что в этой декларации не был прямо назван Данциг (Гданьск), но в скором времени стала известна судьба, предназначенная этому городу. Король отдал приказ о его осаде. Прусские войска захватили многие владения и замок Вейхсельмунде. Гданьск, к концу марта уже страдавший от голода и внутренних раздоров, 4 апреля открыл ворота осаждавшим. Но, отдавая приказ генералу Раумеру об осаде города, король издал 24 февраля декларацию, из которой я дословно привожу несколько пассажей:
«Те же причины, которые побудили Его прусское величество ввести войска в некоторые районы Великой Польши, сейчас принуждают его к необходимости взять город Данциг и прилегающую к нему территорию.
Не говоря уж о тех недружественных намерениях, которые этот город в течение многих лет проявлял по отношению к прусской монархии, достаточно отметить, что именно в этом городе свила гнездо жестокая и ужасная клика, которая, идя от преступления к преступлению, старается сегодня с помощью своих отвратительных пособников распространиться во все концы и т. п. и т. д.»
Я привожу здесь некоторые фрагменты этих двух деклараций, чтобы отметить: после того как польская нация была обвинена в том, что дала слишком много власти королю по конституции 3 мая, немыслимо обвинять ту же самую нацию в якобинстве и уготовлять ей наказание по двум противоположным причинам.
Достоверно известно, что во Франции вовсе не приписывали полякам те революционные идеи, в которых ее обвиняли ближайшие соседи. В книге, которая была издана в Париже в 1792 году под названием «История так называемой революции в Польше» автор пишет:
«Я не знаю, кто смог внушить людям во Франции, что поляки – наши друзья и что они одобряют нашу революцию. Трудно найти страну, где глупость и гордыня так ожесточились бы против нас, как в Польше!.. Их король однажды простер свое бесстыдство и забвение всяких приличий до того, что открыто назвал французов людоедами. Все это может удивить только тех, кто не сравнивал между собой те принципы, на которых основаны конституции Франции и Польши… Поскольку смысл, придаваемый словам, – вещь условная, то поляки, бесспорно, имеют право назвать возрождением то, что было сделано 3 мая. Но мы, основываясь на существующих уже идеях, смело назовем конституционным деспотом того, кому конституция отводит большую часть законодательной власти, высшую исполнительную власть, командование армией, абсолютную неприкосновенность, право «вето», распределение должностей и чинов, званий гражданских и воинских и иных наград – все это можно назвать одним словом: рабское подчинение, безнаказанность и предательство».
Я цитирую здесь это произведение не как авторитет, на который можно ссылаться, так как его автор несправедлив к польской нации и часто отклоняется от истины. Так, в тех фразах, которые я привел, он приписал королю Польши слова, что французы – это нация людоедов, но подобное никогда не исходило из уст короля. Наименование «конституционный деспот» не может относиться к монарху, который получил власть и права от своей нации, желающей свободы, независимости и своих старинных привилегий. Известно, что все французские якобинцы называли наш сейм сборищем аристократов и не считали поляков способными подняться на высоту революционных идей. И действительно, крайние и извращенные идеи, потрясавшие Францию в то время, не оказывали воздействия на польскую нацию, которая стремилась только избавиться от иностранного ига и организовать собственное управление.
Если же впоследствии экзальтация и отчаяние вынудили поляков громко жаловаться, проявлять нетерпение, аплодировать патриотическим устремлениям французов, желать им успехов и даже основывать на них свои надежды, то все это нужно отнести на счет тех невзгод, которые им пришлось испытать.
Ожесточенные своими несчастьями, наказанные за свою доверчивость и чистоту намерений, преследуемые за то, что дороже всего человеку – за свободу мнений и национальную гордость, поляки, обманутые со всех сторон, были даже более несчастны, чем нации, завоеванные силой оружия и вынужденные подчиняться законам победителей.
Их дружбы искали – чтобы потом ее отвергнуть. По отношению к ним принимались самые священные обязательства – чтобы потом их нарушить. Их подталкивали к действиям, за которые потом обвиняли и осуждали. Им приписывали мысли и намерения, которых они никогда не имели. Их заверяли, что живо интересуются их судьбой, а затем вводили в Польшу войска для захвата ее провинций и подавления жителей. Ради амбиций нескольких заблуждавшихся магнатов пожертвовали судьбой миллионов ее жителей. Наконец было решено, что ради блага самих поляков нужно ограничить их территорию новым разделом, и заставили их санкционировать этот акт несправедливости и произвола на одном из заседаний сейма.
Какие же еще нужны доказательства, что снять с поляков обвинения в якобинстве, которое и послужило предлогом для нового раздела? Патриотический порыв поляков, воодушевление и ненависть к врагам не имели, конечно, ничего общего с теми чувствами, которые владели французами в ту эпоху, о которой идет речь.
Во Франции духовенство и дворянство рассматривались как враги нации, и их вынудили искать личной безопасности в бегстве и эмиграции. В Польше, наоборот, духовенство и дворянство составляли основу нации и старались создать конституцию, которая обеспечила бы личную свободу каждого, также как благополучие и спокойствие других классов, которые не участвовали в обсуждении конституции.
Во Франции надеялись получить все в соответствии с якобинскими принципами – за счет богатых владений тех, кого несогласия во мнениях вынудили эмигрировать. В Польше, наоборот, те, кто составлял просвещенную часть нации, ничего не выигрывали и все теряли, если бы исповедовали якобинство. Ведь они должны были бы лишиться собственности, чтобы разделить ее с теми, кто не имел ничего, при этом без всякой реальной пользы для родины.
И наконец, поляки никогда не были кровожадными и никогда не покушались на жизнь своего короля. То «третье сословие», которое и сделало, собственно говоря, революцию во Франции, никогда не существовало в Польше.
Но вернемся к изложению последовательности событий. Великий канцлер Малаховский направил 23 января ответ на первую декларацию прусского двора, в котором сделал слабую попытку защитить польскую нацию от обвинений и просил отвести прусскую армию. Эта нота не произвела никакого впечатления.
Общая конфедерация сочла нужным опубликовать протест, подписанный Феликсом Потоцким и князем Александром Сапегой 3 февраля 1793 года. В этом манифесте повторялись возражения против конституции 3 мая и возносились хвалы в адрес Тарговицкой конфедерации. Там также воздавалась честь и приносилась благодарность российской императрице, выражалось доверие нации венскому двору и высказывался протест против вторжения прусского короля. В конце стояла фраза, которая заслуживает того, чтобы ее процитировали.
«Мы заявляем, что нами не движет никакое иное соображение, кроме того чтобы передать нашим потомкам Речь Посполитую упорядоченную, свободную и независимую; мы возродили эту Речь Посполитую и либо сохраним ее в целости, либо никто из нас не переживет ее краха».
Не ограничившись этим протестом, генералитет принял решение организовать «посполитое рушение», то есть общее ополчение дворянства страны, но эта попытка, предпринятая без согласия российского представителя, навлекла на генералитет упреки, сопровождавшиеся угрозами.
В ноте, переданной 20 февраля, он выражал удивление, что осмелились на подобную меру, не посоветовавшись с ним. Он хотел, чтобы генералитет отозвал данные им распоряжения, и сообщал, что командующие российской армией уполномочены препятствовать всяким попыткам такого объединения. В конце он рекомендовал генералитету вести себя осторожнее в таких сложных обстоятельствах и воздерживаться от поспешных шагов, которые могли привлечь в Польшу военные силы какой-либо страны, внушавшей опасения.
Подчиняясь приказам российского представителя, генералитет был вынужден отозвать свое обращение и заявить, что он имел намерение всего лишь предупредить нацию об угрожающей ей опасности, чтобы подготовить ее к усиленным действиям, если обстоятельства того потребуют. При этом следовало возлагать надежды только на великодушие императрицы России, которая ввела свои армии лишь для того, чтобы обеспечить свободу Польши.
Тем временем Ржевуский, командовавший вооруженными силами конфедерации, уже отдал приказ о передвижении войска и артиллерии с целью защиты крепости Ченстохова, которая находилась под угрозой нападения, но генерал-аншеф российской армии Игельстром отозвал этот приказ и заявил, что ни один корпус польской армии не может перемещаться без его разрешения.
В то же время он распорядился расквартировать двадцать пять тысяч поляков на Украине, где находился русский корпус в пятьдесят тысяч. Он заставил передать ему крепость Каменец и издал приказ о том, что при малейшей попытке перемещения польской армии он разоружит варшавский гарнизон и захватит арсенал.
Этому распоряжению предшествовало событие, о котором долго не было известно в Варшаве, но которое стало еще одним предлогом из числа фактов, намеренно собираемых для того, чтобы обвинять поляков в якобинстве и угрожать им новым разделом. Так, некая депутация из нескольких поляков прибыла в Париж и явилась в Конвент, где была допущена на трибуну, и один из депутатов произнес речь, вполне соответствующую месту, в котором он находился, и тем трагическим жизненным картинам, посреди которых оказался. Он утверждал, что гордится тем, что разделяет якобинские идеи, равно как и его коллеги, и уверял, что вся польская нация испытывает те же чувства. Слышно было, как некоторые с восторгом пересказывали, какой прием был устроен в Париже этим «посланцам» польской нации, у которой были общие враги с Францией. В довершение рассказывали о братской встрече их со стороны президента ассамблеи и высоких почестях, которые были возданы этой депутации на заседании Конвента.
Эти детали могли бросить тень лишь на нескольких отдельных личностей, которые самовольно, не имея никаких званий и прав, осмелились так скомпрометировать своих соотечественников. Однако эта необдуманная выходка легла пятном на всю нацию и вызвала новые жесткие меры по отношению к так называемым польским якобинцам.
Вернемся теперь в Варшаву в тот момент, когда я приехал туда из Петербурга, то есть в конец февраля.
Глава IV
Несмотря на все эти перипетии и следовавшие за ними преследования честных людей, общественный настрой в столице не изменился. За исключением малого числа тех, кто был связан с Россией личными интересами, и некоторых других, которые держались за нее по своим убеждениям, остальные жители, невзирая на присутствие сильного русского гарнизона, громко жаловались на поведение петербургского и берлинского дворов, нещадно обвиняли глав Тарговицкой конфедерации, сожалели о конституции 3 мая, не щадили и самого короля Польши, считая его главным виновником всех зол.
Многие члены сейма 3 мая уже покинули Варшаву и отправились за границу, но большее их число осталось в столице в надежде, что сейм, деятельность которого была лишь приостановлена, может возобновить свою работу. Их охотно приглашали во все дома, где имели место дружеские собрания и где не стеснялись любыми способами выказывать им предпочтение перед сторонниками Тарговицкой конфедерации.
Несмотря на обеды и балы, даваемые российским посланником и некоторыми генералами, общество не могло более оставаться столь же блестящим и веселым, как прежде, и большинство патриотов отсиживались по своим домам. Это не означало, что избегают русских: их, кстати, нельзя было обвинить в том, что они слепо подчиняются приказам свыше. Но ни один патриот не хотел иметь дела с тарговицкими конфедератами.
Почти все польские дамы демонстрировали высокую преданность родине и не скрывали своих чувств, даже в разговорах с дипломатами и русскими военными. Речи красивых изящных женщин не вызывали обид, но они в немалой степени способствовали поддержанию патриотизма и энергии в поляках, особенно среди молодежи.
Если даже в салонах и дворянских собраниях высказывались свободно и открыто, то еще менее сдерживали себя в кафе, бильярдных и других общественных местах. Даже строгости со стороны русской полиции не могли сдержать нарекания и недобрые выпады против тех, кто призвал российскую армию в Польшу.
Казалось, все несчастья сговорились обрушиться на Польшу сразу. К началу 1792 года не было в Европе такой другой страны, где скопилось бы столько капиталов в наличных деньгах. Золото и серебро лились здесь рекой. В местах, где собиралась знать для заключения контрактов о купле-продаже и для улаживания разного рода дел, что имело место главным образом перед наступлением нового года в Дубно, в Сен-Яне и в Варшаве, – здесь в кассах банкиров и крупных собственников находилось в обороте от двух до трех миллионов голландских дукатов золотом.
Этот невероятный приток наличности и та легкость, с которой она обращалась, довели легкомыслие и тягу к роскоши во всех классах общества до немыслимой степени.
Самые богатые банкиры Варшавы являли собой самые зловещие тому примеры, и можно было предвидеть, что рано или поздно они будут разорены, так как невозможно было длительное время позволять себе такие огромные расходы, к которым они привыкли. И все же никто не ожидал, что так скоро и так внезапно все выплаты будут прекращены, банковские конторы закрыты и банкиры объявят себя неплатежеспособными.
Эта катастрофа стала для многих сильнейшим ударом, и не только в столице, но и по всей стране. Ведь в банки были вложены огромные суммы: даже мелкие собственники вкладывали туда все, что смогли накопить за год, – в расчете увеличить свой капитал за счет предполагаемых семисот-восьмисот процентов; аккуратность в выплате таких процентов и обеспечила банкирам общее доверие и ту легкость, с которой они приобретали столько капитала, сколько им было нужно.
Внезапное заявление о прекращении выплат повергло публику в изумление и ужас. Оборот наличности прекратился, кредит исчез, и каждый теперь старался припрятать свой остаток золота – столько, насколько хватило предусмотрительности не помещать его в банк.
Многие из банкиров, чтобы оправдать свою несостоятельность, заявили, что прекращают выплаты, потому что не могут урегулировать свои расчеты с иностранными дворами и вернуть авансированные им капиталы. Возникло даже общее убеждение в том, что банкирам было подсказано объявить себя неплатежеспособными, чтобы привести всю страну в состояние банкротства и принудить всех ее жителей заняться личными проблемами – вместо политики.
Я с трудом могу допустить такое предположение. Однако не вызывает сомнений то, что критическое положение Польши после событий 1792 года нанесло ущерб состояниям всех частных лиц, земледелию, торговле, общественному доверию и повлекло за собой падение самых старинных и солидных домов.
Следствием этой катастрофы стало не только то, что люди, поместившие свои основные капиталы в банки, оказались разорены, так как многие получили обратно всего лишь тридцать-сорок, максимум шестьдесят-семьдесят процентов от своих капиталов, – но она также отразилась на судьбе земельных собственников, так как земли потеряли до половины своей стоимости. Так и я, понеся значительные убытки из-за секвестра моих земель, потерял еще больше на своих новых приобретениях, которые намного снизились в цене по сравнению с той, по которой я их приобрел. Я также много потерял на капиталах, которые разместил во многих банках.
Среди общей растерянности, безденежья и прочих перипетий, следовавших одни за другими, были получены две декларации: одна – от Фридриха Вильгельма, 25 марта, а другая – от российской императрицы, 29 апреля 1793 года. Эти два документа были переданы дипломатическому корпусу в Варшаве. Они содержали описание того, что должно было стать новыми границами. Там повторялись все те же обвинения в якобинстве, указывалось, что враждебное отношение поляков заставляет опасаться новых сицилийских вечерен и что требуется срочно их предотвратить. В конце было заявлено, что для спокойствия соседних государств и самой Речи Посполитой оба двора, петербургский и берлинский, не нашли лучшего решения, как сократить Польшу до пределов, более соответствующих форме ее правления.
После объявления этого решения представителям нации предлагалось собраться на сейм, и как можно скорее, чтобы достичь добровольного соглашения на этот предмет, удовлетворить требования безопасности обоих дворов и обеспечить самой Речи Посполитой стабильный мир, а также надежную и прочную конституцию.
Михал Валевский, бывший воевода Серадзкий, который заменил Феликса Потоцкого на должности маршалка Тарговицкой конфедерации, занимал этот пост всего лишь несколько дней. Он был попросту подставлен под интересы иностранных дворов. Подвергшийся ложным внушениям, увлекаемый Браницким, своим близким родственником, он согласился принять маршальский жезл, переданный ему Феликсом Потоцким, не подозревая, что его попытаются заставить совершать поступки, противные его убеждениям. Будучи на этом посту, он, как бывший барский конфедерат, не мог отказаться от своих взглядов и не мог отречься от тех чувств, которые испытывал, сидя в кресле сенатора на сейме 3 мая. С первых же дней он отказался от роли президента на ассамблее генералитета – то есть ставить на обсуждение и голосование предложения, которые вызывали в нем отвращение.
Сиверс пригрозил ему наложением секвестра на его земли, но он не переменил своего решения и вышел из зала, оставив маршальский жезл: так он выразил протест против любой попытки покушения на независимость и неделимость Польши.
Результатом протеста Валевского стало секвестирование его владений. Они были возвращены ему только после многочисленных ходатайств его друзей перед послом Сиверсом. Тем не менее он не вернулся более в Гродно, и заменил его там Пулавский.
Через шесть дней после протеста Валевского, то есть 26 апреля, Пулавский как заместитель маршалка конфедерации Короны и Забелло как маршалок конфедерации Литвы подписали ответ, удовлетворявший требованиям посла Сиверса, изложенным в двух нотах – от 9 и 18 апреля.
Сиверс и Игельстром уже давно оказывали давление на короля Польши, понуждая его отправиться в Гродно и созвать там сейм. Недвусмысленные приказы самой российской императрицы наконец вынудили его пойти на это. Однако король указал, что не имеет права созывать сейм без своего Совета. Тогда Сиверс объявил, что нужно восстановить Постоянный совет, и отдал приказ об этом генералитету. Именно этот приказ вызвал протест Валевского, но затем последовал ответ на него, подписанный Пулавским и Забелло.
Несмотря на противодействие нескольких членов генералитета требованию восстановить Постоянный совет, который всегда был ненавистен полякам, в конце концов пришлось уступить угрозам Сиверса. Был издан акт, получивший силу закона, и по этому акту был восстановлен Совет, учрежденный сеймом в 1775 году, – тот самый Совет, который на сейме 3 мая, как надеялись, был отменен навсегда.
Если многие члены конфедерации, с одной стороны, демонстрировали свое отвращение при подписании этого акта, то значительно большая ее часть, со своей стороны, была явно довольна тем, что российский двор возлагал ответственность за созыв сейма на короля и его Совет: они полагали, что смогут снять с себя вину за готовящийся раздел Польши – ведь именно он должен был стать предметом обсуждения на этом сейме.
Прежде чем разослать универсалы о выборах нунциев, король решил еще раз обратиться к императрице Екатерине. В надежде смягчить ее он предлагал самому отказаться от польской короны, так как считал себя не в состоянии и не вправе ее носить. В своем письме он, в частности, говорил: «Тридцать лет трудов, в течение которых я, стремясь к добру, вынужден был бороться с разного рода несчастьями, привели меня наконец к следующему результату: я не могу служить своей родине с пользой для нее, ни даже выполнять свой долг перед ней с честью. Обстоятельства сегодня таковы, что мой долг запрещает мне любое личное участие в тех мерах, которые могут привести Польшу к катастрофе. Мне надлежит, следовательно, отказаться от своего положения, которое я не могу занимать достойным образом… Я желаю, чтобы кто-нибудь более счастливый занял то место, которое, учитывая мой возраст и мое нездоровье, через несколько лет все равно окажется вакантным».
Императрица не ответила королю напрямую и ограничилась тем, что сообщила свое мнение относительно этого предложения в депеше, направленной его посланнику. «Что касается отречения короля, то я нахожу, что момент для этого им выбран наименее удачный. Все соображения благопристойности требуют, чтобы он держал в своих руках бразды правления государством, пока не выведет его из нынешнего кризиса. Это единственное условие, при котором я могу решиться обеспечить ему достойную участь в той отставке, о которой он рассуждает».
Чтобы выбор новых нунциев на сейм отвечал интересам российского двора, посол Сиверс еще раз воспользовался генералитетом. Однако он предполагал, что генералитет, не пользовавшийся доверием нации и строивший свою власть лишь на том страхе, который был вызван присутствием русской армии, – этот генералитет мог быть обманут в своих ожиданиях и провалить дело, если бы позволил все дворянам без исключения свободно голосовать на сеймиках. Тогда Сиверс решил ограничить действие старинных законов, определявших порядок выборов: заставил генералитет издать 11 мая 1793 года «sancitum»[20]20
Декрет конфедерации, имеющий силу закона. (Примеч. пер.)
[Закрыть] о том, что все те, кто не произнес отречения от конституции, не присоединился к Тарговицкой конфедерации, кто голосовал за права буржуазии, кто входил в состав благодарственной депутации в честь празднования конституции 3 мая и участвовал в ее организации, – все они не могли избирать и быть избранными.
Второй «sancitum», изданный по приказу посланника, также ограничивал права тех, кто, присоединившись сначала к Тарговицкой конфедерации, позволил себе затем протестовать против некоторых из ее решений.
Легко представить себе, какое неблагоприятное впечатление произвели эти два декрета на всю страну и какие недоразумения должны были возникнуть в дворянских собраниях во время выборов нунциев. Понятно и то, что для обеспечения выборов, угодных генералитету, были расставлены русские гарнизоны в местах, где должны были проходить сеймики.
Тем временем король, несмотря на все свои попытки уклониться, был вынужден отправиться в Гродно и ожидал там, в смущении и тоске, открытия этого сейма, которому суждено было скрепить официальной печатью катастрофу Польши. 17 июня 1793 года он открыл первое заседание, на котором объявил о своих опасениях насчет дальнейшей судьбы Польши и сетовал на неумолимые обстоятельства, в которых оказались поляки. Он указал, что переговоры являются единственным средством, которое может несколько облегчить положение.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?