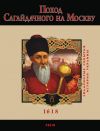Читать книгу "Руина"

Автор книги: Михайло Старицкий
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
XIX
Хозяйка, уложив своих детей спать, подсела к столу и все расспрашивала странника про неслыханные чуда и диковины, какие довелось Божьему человеку видеть на широком свете.
– Не хватит, жинко, не то ночи, а и дня переслушать захожего странника…
– Не то дня и ночи, а и тыжня (недели), – поправил с улыбкой нищий.
– Ну, вот бачишь! Так мы лучше попросим доброго человека остаться у нас отпочить денек – другой с долгой дороги… А пока что постели вот тут ему на лаве, бо слушать-то ушам не помеха, а языку молотить по зубам тяжеленько: и опухнуть сможет…
– Спасибо вам за ласку, добрые люди, – проговорил тронутым голосом нищий, низко кланяясь. – Господь Бог вам отдячит, это уже Его десница милосердная мне указала на такую набожную, богатую щедротами семью… Я иду себе, голодный и холодный, да думаю, где бы мне именем Христовым приклонить голову, да найти кусок хоть черствого хлеба… Ох, времена теперь наступают антихристовы, часто, не внемля Христову имени, дают нам, вместо хлеба, в потылыцю – взашей… Так думаю я про все такое и журюсь, а тут добрый человек, спасенная душа, сам приглашает, угощает, как желанного гостя, и еще просит остаться… Знаете, таких святых душ уже мало на свете – вывелись! Только я вот что скажу: остаться-то мне куда как приятно, лукавить не стану, отдохнуть хочется после долгих скитаний, и рад бы я был подольше пожить в таком приюте после бурь, и дождей, и морозов, да еще в такой Божьей семье, только даром ни угла тереть, ни хлеба есть я не стану…
– Что ты, старче Божий! – запротестовали хозяева. – Чтоб мы с прохожего странника за скибку хлеба гроши брали? Да что мы, басурмане, что ли? Да за этакие вчынки нам подавиться бы следовало Божьим добром!
– Я не про гроши говорю: грошей-то, конечно, я не заплачу, потому что их нема. А я про то, что работою, трудом хочу отплатить вам, иначе я не останусь… дармоедство – найтяжкий грех!
– Слышишь, чоловиче? – толкнула своего мужа локтем хозяйка, но тот только почесал спину.
– А я, люди добрые, обрекся трудиться, – продолжал странник. – Так, без труда, я не останусь. Коли согласны, чтоб я вам помогал в хозяйстве, чтоб был вроде наймыта, то я останусь… и за ласку вашу буду благодарить.
– Да ты, святой странниче, избалуешь совсем моего чоловика, – возразила лукаво хозяйка, – он и без того ленивенький.
– Я до своей работы не ленив, а вот до панщины…
– Какой панщины? – прервал торопливо нищий. – Разве вы подневольные?
– Нет, хвала Богу, а вот мы живем на земле этого женского монастыря, ну, стало быть, и должны послушать в работе: в полевой ли, на ихних землях, либо в самом монастыре, – дрова там рубить или другое что делать… Так вот эта работа тяжеленька!
– А, так я с радостью! – спохватился странник, обнаруживая чрезмерное усердие и непонятный восторг. – Здесь буду помогать вам за ласку, а там, на монастырском дворе, потружусь Богу за Его неизреченное милосердие.
Хозяева должны были согласиться на доводы нищего, а хозяин с особенным удовольствием обещал ему уступить свои монастырские работы.
Так и порешили. Странник остался за наймыта у добрых людей и принялся так за работу, что его нужно было постоянно сдерживать от надсады. За обедом и за вечерею рассказывал он про чужие нравы и обычаи, про святые места, про такие диковины, что слушатели раскрывали от удивления рты; между прочим, в чудесные рассказы свои он впутывал осторожно, что здешний гетман продал край туркам, что это по наущению антихриста, что настоящий христианский гетман будет заднепровский… Мало – помалу его мнения начинали овладевать умами слушателей и распространяться в поселке. Но больше всего странник любил не рассказывать, а сам расспрашивать про монастырь: про его расположение, про церкви, про кельи, про нравы черничек, про мать игуменью и про всякие мелочи, даже про ходячие там рассказы; хозяин, по мере знания, удовлетворял его любопытство, понимая, что интересы Божьего человека сосредоточены лишь в божественном. Не прошло и нескольких дней, как семья сжилась со своим гостем, как с давним закадычным приятелем, и не могла нахвалиться им всем и каждому.
Старая черница после последнего прихода к затворнице более не появлялась, а вместо нее стала приносить ей скудную пищу другая монахиня; выражение лица у последней было не злое, не строптивое, а глаза обнаруживали даже у нее жалостливое сердце, но она все молчала; принесет и унесет посуду, не проронив ни единого слова, не ответив ни на один вопрос заключенной; можно было даже подумать, что новая дозорщица непременно глухонемая, и узница стала испытывать, услышит ли она ее просьбы и исполнит ли ее крайние нужды? Заключенная, между прочим, жаловалась на нестерпимый холод; черница и бровью не повела на ее жалобы, но тем не менее принесла на ночь дров. Это обрадовало узницу. Она стала молить со слезами свою новую дозорщицу, чтобы та поговорила с ней; что она-де слова человеческого здесь не слышит, что от такой муки с ума можно сойти…
Мольбы наконец тронули сердце черницы, и она, зажигая дрова и не глядя на затворницу, пробормотала неслышно:
– Не велено… Если дознаются, то беда!
– Да клянусь моими муками, моим горем, – воскликнула узница, – что никому ни единым словом я не обмолвлюсь, хотя бы ты, сестра, передала мне, что завтра меня будут четвертовать.
– Ох, и бедная ты, горемычная, – покачала головой грустно черница, – и пожалеть-то тебя нельзя… И за что это?
– За что? – заговорила горячо молодая затворница. – За то, что я сердца своего не растоптала ногами в угоду зверю! За то, что мне жить хотелось, светом Божьим порадоваться! За то, что мы, безмолвные да бездольные, считаемся у моцарей – деспотов их власностью (собственностью), их скотом подъяремным, и, наконец, за то, что они могут над нами, беззащитными, показывать свою силу! – И узница зарыдала…
Черница бросилась ее утешать, успокаивать, но долго не прекращались бурные рыдания, и узница билась у ней на груди, как подстреленная горлинка… Наконец это прорвавшееся горе утомило расшатанный молодой организм, и узница мало – помалу притихла.
– Скажи мне… Богом молю тебя… Матерью Божьею заклинаю… – промолвила прерывающимся голосом несчастная. – Долго ли меня так будут терзать? До смерти ли присуждена мне эта каменная могила?
– Ох, не знаю, истинно говорю, не знаю: про то ведомо лишь святой матери игуменье да еще преподобной матери Агафоклии.
– Это той старой ведьме, что приставлена ко мне катом?
– Ой, не говори так… грех!
– А отчего же она ко мне не приходит? Отставили?
– Заболела преподобная мать Агафоклия…
– А! Заболела? Это от лютости… она и тут от лютости да от бешенства как закашляется, бывало, так аж посинеет…
– Ой, какие слова! – всплеснула руками черница и закрыла ими со страху глаза…
– Жестокие? Такие самые, как и она мне шипела! Сколько от нее Я наслышалась и леденящих угроз и проклятий, так что же дивного, если я рада, что палача своего запеклого не буду видеть?
– Может, Господь Бог еще воздвигнет ее…
– На горе мне? Ну ее к лиху! Скажи лучше, что там нового у вас есть?
– Да ничего такого… Девочка вот одна на днях прибежала… Пан какой-то хотел окрестить в польскую веру, что ли, ну, она и вымолила у святой нашей неньки приют здесь и защиту; приняли ее в монастырские служки.
– Ах, отчего меня не сделают служкой? Я бы все работы, самые низкие, взяла на себя, только бы не сидеть здесь взаперти… в темноте…
– Потерпи, сестра; может, тебя и держат на замке из страха, чтоб ты над собой какого греха не учинила, а как уверятся, что ты стала смиренной, покорной да тихой, то, конечно, над тобой сжалятся и выпустят тебя. Сюда вот, я знаю, сажали за провины большие, так не на век, а на некое время – до покаяния… одначе вот и я через тебя, бедную, согрешила, нарушила приказ строгий и болтаю… Ох, прости, Господи, лукавую рабу твою!.. Не вводи ты, голубка, меня во искушение… Слов пару перекину, а больше и не выпытывай… Ну, оставайся с миром!
– Стой! Одно только еще слово! – завопила жалобно узница. – Скажи мне, светит ли у вас солнце, или так же мрачно на монастырском дворе, как и у меня в этой могиле?
– Ох, моя лебедочко, все про волю да про широкий свет думаешь! Ходит, ходит по небу светлое солнышко, не потухло: ясный день у нас, изморозью, как серебром пушистым, приукрашены все деревья, играют самоцветами, искрятся на свету золотом.
– Спасибо, спасибо тебе… Я буду думать про все это и думами тешиться.
– Ну, Бог с тобой; я еще навернусь… принесу масла… и лучший какой кусочек тебе, голодной, – добрая черничка опустилась в отверстие и закрыла за собой крышку.
С этого дня, благодаря снисхождению монашенки, заключение затворницы было облегчено: она стала получать лучшую пищу и постоянный свет лампады, да и самая башня стала отапливаться старательнее, а главное, новая надсмотрщица перекидывалась с ней ласковым словом и сообщала некоторые новости: то о том, что крупу нашли рассыпанную в неуказанном месте и что подняты по этому поводу розыски; то о том, что дров уже нет и что преподобная тетка Агафоклия заказала монастырским селянам порубить стосы, что стоят на черном дворе; то о том, что прибылая служка дикая какая-то, боится купели, от всех прячется и только разговаривает с молодой черничкой Фросиной, обо всем у нее расспрашивает: кто здесь находится, в какой келье кто живет, кто в чести, кто в опале, сажают ли тут под замок – про все, про все интересуется девочка…
Что-то непонятное, беспричинное заставило при этом известии вздрогнуть сердце затворницы: шевельнулось ли у нее какое-либо подозрение относительно новой служки, или простое совпадение, что кто-то интересуется даже затворницами, затронуло ее наболевшие раны; она не могла уяснить себе, но почувствовала только подкравшуюся к ней радость.
– А где же эта девочка? Тут она и останется? – загорелась любопытством затворница.
– Тут, тут… святая мать игуменья оставила… а теперь вот приставила ее к больной тетке Агафоклии; у нее, значит, она на полном послушенстве.
– А Агафоклия эта еще не померла?
– Господь с тобой! – перекрестилась монашка. – Ее преподобной мосци, хвалить Бога, лучше… она уже встает и прохаживается.
– Значит, нет ко мне милосердия у Бога, или уж такой тяжкий, незамолимый грех лежит на мне, что нет ему прощенья, – заломила руки в отчаяньи затворница.
– Не убивайся, сестра! – откликнулась черница сочувственно. – Быть может, что, по слабости ее, меня оставят при тебе на послугах… Коли не промолвишься, что я тебе мирволю…
– Нет, нет! Когда бы только Бог сжалился!
Но, несмотря на горячие мольбы затворницы, дней через пять явилась к ней, в эту келью – тюрьму, прежняя ее старая дозорщица; ее глаза запали в темные ямы орбит и оттуда едва блестели, но уже не злобным огнем, а тихим, умирающим; желтые щеки глубокими складками обтянули кости лица, напоминавшего теперь мертвый череп; с хрипом вырывалось из тощей груди старухи затрудненное дыхание, а движения были так бессильны и шатки, что можно было опасаться, чтоб не рассыпался сразу этот скелет. За старухой шла прислуживавшая во время отсутствия ее черница и какая-то девочка, длинноногая, в послушницком подряснике.
– Ну, вот я и навестила тебя… привел Господь! – заговорила после долгой отдышки старуха, усевшись на табурете. – Ты, верно, уже хоронила меня, а я вот и пришла…
Затворница стояла молча, опустив глаза, и только легкая, пробегавшая по ее телу дрожь обнаруживала охватившее ее волнение.
– А что она, как в это время вела себя? – обратилась старуха к монахине.
– Смирилась, молчит все да вздыхает… сокрушается, видимо, о грехах… Бога молит, – ответила та отчасти подобострастно.
– Ох, дал бы Бог! – вздохнула старуха. – Горда она очень, кичится своим знатным родом… Ох, коли ты хочешь хвалиться им, то и шануй его, чтобы и пальца никто не мог подложить, а то… – она опять вздохнула и подняла набожно глаза к небу.
При последних речах старухи бесстрастное вначале лицо девочки вдруг оживилось, глаза расширились, заискрились и стали бегать по келье, останавливаясь иногда пытливо на затворнице.
– Да, – продолжала старуха, – все мы под Богом, все пред Его нелицеприятным судом будем… все! И «не весте убо ни дня, ни часа»… А что тут весьма холодновато? – прервала она речь и начала тереть свои костлявые руки.
– Дров нет, еще не пришли рубальщики.
– Пошли еще за ними… Только вот что: с черного двора их не пускать сюда и на ступень! Я ведь знаю, что, по лености, вы их заставите дрова таскать по кельям, так чтобы и не наважились; и я, и мать игуменья так приказали. А за дровами посылать служек, вот, примером, ее, Феклу, Матрону, либо послушниц, тех, что постарше, а не ветрогонок… Вот тут будешь убирать, – обратилась она к девочке, – и приносить, что позволят, только приходить будешь не одна, а со мной или вот с сестрой Иринией… только чтоб и рта тут не раскрывала, слышишь?
– Слышу, – ответила робко девочка.
– Ну, так я пойду распоряжусь… а ты тут останься, пока она приберет… Ох, удушье!.. – закашлялась гулко старуха и, поддерживаемая сестрой Иринией, стала спускаться узким и крутым трапом.
Как только скрылись монахини, оставшаяся девочка, заглянув в люк, улыбнулась узнице и многозначительно подмигнула ей.
Словно молния осветила затворницу; из груди ее вырвался сдержанный крик, и она, подбежав к девочке, спросила задыхающимся шепотом:
– Кто ты, на Бога?
– Верный друг… Молчи… ясновельможная… Жди вестей!
Когда возвратилась монахиня, то служка усердно подметала келью, не разгибая спины.
XX
Как-то раз пришли на черный двор соседние поселяне и стали рубить дрова; среди них оказался и знакомый нам нищий: он сдержал слово, данное приютившему его хозяину, и пришел-таки в монастырь заменить его. Нищий работал за троих; секира его звонко стучала в морозном воздухе, и щепы из-под нее летели во все стороны. Но в то время, когда руки его подымались и опускались, глаза зорко следили за всеми, входившими в черный двор; он пробовал проникнуть взором за ворота, но они быстро затворялись, и к ним не было доступа. Приходили за дровами монастырские служки, и нищий пробовал кое о чем расспросить их. Одно только он узнал, что носить дрова будут лишь они, две послушницы, да еще новенькая девочка, что стала служкой. Нищий едва скрыл охватившее его при этом волнение и для отвода глаз начал роптать на монашеские порядки.
– Не женская это работа таскать дрова, – жалел он служек, – о, если бы дозволила ее найпревелебнейшая мосць, то мы вмиг поразнесли бы эти дрова куда требуется.
Служки благодарили его за теплое слово и, изгибаясь под непосильной тяжестью, уходили неспешно.
Минул один день и другой; приходили и служки, и прислужницы, но девочка не являлась; передавали, что преподобная тетка Агафоклия больна, при смерти, и не встает уже с постели и что девочка поэтому при ней неотлучно. На третий день все дрова были нарублены, призванные поселяне стали расходиться по домам, нищий был в отчаянии и думал уже запросить мать экономку, не найдется ли здесь других каких-либо работ, но ему неудобно было объявить свою личность, так как он и без того попал сюда воровски…
Ударил колокол, плавно, торжественно и грустно раздались в чутком воздухе размеренные удары. Все закрестились. Нищий складывал медленно последние дрова, как вдруг за спиной его раздался знакомый молодой голос. Нищий оглянулся – вблизи стояла какая-то девочка, в послушнической ряске, и, не оборачиваясь к нему, усердно набирала дрова.
– Не смотри на меня, дядько, заметят, – прошептала она.
– Насилу дождался, – буркнул и нищий под нос, глядя в сторону и роняя полено. – Ну, что известно?
– Дозналась, видела, передала, что будешь.
– Ха! Уже привык по – бабьи и говорить!.. Молодец!
– Только тут я больше не останусь, сбегу, хоть повесь меня. Лучше сразу смерть, чем ежедневные страхи за шкуру. Вот преподобная мать Агафоклия померла, ее хоронить будут, и я утеку.
– Стой, любый… может, как раз в это время мне удалось бы пробраться…
– И не думай, дядьку, мужского пола не допустят туда, хоть бы сгорел дотла монастырь, – промолвил поводырь нищего, поднимая с натугой вязку дров.
– Знаю… что-либо придумаешь… Слушай, – приблизился к нему нищий, будто помочь вскинуть вязку на плечи, – на похоронах я с тобой свижусь, и коли не придумаю ничего, то, значит, на то воля Божья, и мы уйдем, а коли придумаю, то ты денек еще перебудь… Там условимся.
– Разве денек, а больше – хоть зарежь! – и он, шатаясь под тяжестью, торопливо ушел со двора.
Монастырское кладбище помещалось за его зубчатой оградой, как раз против брамы; оно обнесено было глубоким рвом и тремя сторонами врезывалось в лес, только четвертая, более узкая сторона, была обращена к монастырскому муру и снабжена дубовыми крепкими воротами, вроде брамы. Высокие насыпи на рвах были засажены сплошь колючим, густым и непролазным кустарником, люцией, составлявшим неприступный оплот для мирного сна потрудившихся душевно спасенниц: огражденные от суетного мира, убаюканные шепотом и тихим гомоном леса, здесь они спали спокойно, в надежде дождаться радостного дня пробуждения.
По случаю смерти монахини рабочих оставили еще в монастыре, они должны были выкопать могилу для новопреставленной сестры Агафоклии и вообще оказать помощь при похоронах. Кроме этих рабочих, к печальному и торжественному обряду сходились еще и все поселяне окрестных хуторов и селений поглазеть на любопытное зрелище и потрапезовать на заупокойных обедах: монастырь в таких случаях не жалел средств и старался блеснуть перед миром своею щедростью и гостеприимством. На третий день были похороны. Огромная толпа сошедшегося люда стояла стеной между брамой и воротами кладбища; в монастырский двор и церковь, где стоял гроб и служилась заупокойная обедня, посторонние лица не допускались, да и на самом кладбище пока ворота были заперты и лишь вокруг свежей вырытой ямы, облокотясь на лопаты, стояли монастырские рабочие. Толпа между брамою и воротами волновалась, росла и заливала проход, оставленный для процессии, какой-то дьячок в подряснике суетился, бегал и упрашивал любопытных не напирать, а стоять шпалерами. Наконец загудел низкими тонами большой колокол, к его стонам присоединились минорные голоса прерывистого перезвона, брама отворила свою пасть, и из нее вынырнуло торжественно мрачное шествие: траурные хоругви, траурные ризы священников, темно – зеленые восковые свечи, черный, качающийся на пышных носилках гроб, и за ним черная волна поникших головами монахинь… Звуки печального пения то раздавались гармоническими аккордами, то таяли в туманном воздухе морозного дня, но ни одного рыдания и за гробом. Толпа разделилась на две половины. Процессия медленно двинулась через дорогу к кладбищу; как только последние ряды ее прошли в кладбищенские ворота, вся толпа хлынула вслед за ними и затопила все пространство его до межевых рвов. Черницам уже невозможно было держаться особняком, в строгом порядке, их разбил на отдельные группы натиск толпы.
Нашему нищему не трудно было найти девочку – служку и отбиться с ней несколько в сторону; среди волнующейся, дробящейся толпы, среди нависшего белой густой пеленой тумана их никто не мог бы заметить.
– Слушай, хлопче, – промолвил тихим голосом нищий, – я все придумал, сообразил… Тебе нужно до завтра остаться еще в монастыре.
– Но ведь все равно, в мужской одежде дядька не пропустят, – ответил с нескрываемою тревогой служка; он уже мечтал с похорон дать тягу, а тут опять этот дядько.
– У меня будет женская, да еще монашеская!.. Ты вот только понаблюди, чтоб ворота с черного хода не запирались, а коли их засунут болтом, так ты незаметно отсунь…
– Ой, дядьку! Затеял ты какое-то страшное дело: не попасть бы нам из-за него на кол!
– Волка бояться – так, значит, и в лес не ходить. Раз нас маты родила, так раз и помирать! Ты только присмотри за воротами, а то все оборудуем.
Целый день, во время похорон, клубился по земле и льнул к ней с холодными ласками угрюмый туман, а к вечеру поднялся резкий ветер и смел его в свинцовые тучи. Наступила ноябрьская ночь; непроглядный мрак поглотил и монастырь, и кладбище, и все окрестности и повис черною пеленой над полумертвой землей. Близка уже полночь. Ни зги в глазах, ни единого звука жизни, только завыванье ветра да сухой шум обнаженного леса. Но вот со стороны его послышался подозрительный треск: не волк ли пробирается за добычей? Но что ему найти на мирном кладбище? Ни здесь, ни в монастырском дворе нет для него поживы… А между тем треск повторился на кладбищенском рву, и послышался сдержанный человеческий голос.
– А, чтоб тебя, чертово дерево! Ишь, ровно сатанинскими когтями цепляет да рвет в шматья одежду и тело… А, будь ты проклято! – вслед за этим пожеланием раздались удары по прутьям словно бы алебарды или секиры.
Это был нищий. После похоронной трапезы, устроенной на черном дворе, он вышел незаметно с толпой и притаился до ночи в кладбищенском рву, а теперь, выползши из него, пробирался через кустарники люции в самое кладбище.
– О, насилу! – вздохнул он облегченно. – Только в такую темень и сам угодишь, чего доброго, в яму, или… ай! – вскрикнул он вдруг, забыв всякую осторожность. – Вот так тарарахнулся… лбом! Что это? Крест! И понаставляют же их, что доброму человеку и пройти некуда! – И нищий стал подвигаться в кромешной тьме медленно, ощупью, шаг за шагом, то помахивая впереди заступом, то пробираясь ползком.
«Ну, где ж найти теперь могилу черницы? – задумался, после долгих поисков, полунощный гость. – Тут где-то и зарывал ее, а теперь поди поищи! Ну и ночь, хоть око выколи! По сырой, по свежей земле разве признать можно? Да где она, каторжная?..»
Он стал ощупывать все могилы подряд, двигаясь в темноте без толку и возвращаясь часто на то же самое место.
– Водит, нечистая сила водит! – бормотал он, вытирая рукою холодный пот, выступавший крупными каплями на лбу и на небритых щеках. – В такую волчью ночь ей лафа… Ишь, воет, сзывая сюда всех ведьм на шабаш!.. – И в закаленное сердце нищего, видавшее на своем веку виды, начала прокрадываться неведомая робость. – Уж не бросить ли эту затею? Так все равно отсюда не выберешься… Если б найти хоть сегодняшнюю могилу, то от нее попал бы к браме, мимо ворот. Сторожа ведь тут нет… А там, на черном дворе, ждет мой провожатый… А! вот, кажись, она! – вскрикнул он радостно. – Да, свежая, только что насыпанная земля… она, она самая! Фу ты, как выводила, – ни рук, ни ног не слышу!.. Отдохнуть бы, да подкрепиться. – И он, вытащив из-за пазухи флягу оковитой, выпил добрую ее половину… Но оковитая не оказала на него обычного действия: вместо бодрости и дерзости, стал овладевать им беспредметный, таинственный страх. Нищий оглянулся во все стороны и вперил расширенные глаза в безнадежный мрак, сознавая, что это был уже признак трусости, но, тем не менее, он не мог взять себя в руки; наконец он сделал последнее усилие над собой, отпил еще горилки и с какой-то страстной решимостью стал копать и отбрасывать в сторону свеженасыпанную, сверху чуть примерзшую землю. Стоявший за спиной его страх придавал ему силы; лопата врезывалась в землю, поднимала тяжелую глыбу и откидывала ее в сторону; равномерно раздавался звук врезывавшегося в землю железа и глухой шорох рассыпавшейся глыбы, но работа казалась бесконечной и непосильной одному человеку…
Прошел добрый час, и едва лишь обозначились края ямы, а в глубину она была с добрую сажень, – нищий это хорошо знал, – между тем, несмотря на приподнятую энергию, силы у него истощались и требовали отдыха. Гробокопатель привязал на всякий случай пояс к соседнему кресту, чтоб удобнее было по нему выбраться из ямы, и присел; в голове у него стояла какая-то муть, на душе было неладно: жуткие, щемящие ощущения просыпались в ней и овладевали всем его существом; между ними господствовал уже явно суеверный страх.
«Что я задумал? – набегали на нищего мысли. – А ведь это грех я творю, сатане утеху? Только он сюда, чур меня, приступить не посмеет… да и бояться его казаку не приходится… А без одежи черничьей не выйти с монастырского двора; не проведавши про затворницу, и на глаза не попадайся Самойловичу, а ведь он теперь сила и еще большей достигнет наверно! Ну, а мертвой чернице какая обида? Все равно ведь ей!» – и несколько успокоивши себя такой философией, он, после краткого отдыха, снова принялся за работу. Прошел еще час. Уже яма углубилась ему по пояс. Нищий хлебнул еще оковитой и снова стал отдыхать да прислушиваться. Ветер стихал; только издали еще доносились слабые завывания', да и те не похожи были на завывания ветра. Несмотря на непроглядный мрак, нищему казалось, что в отрытой им яме еще было темнее и что с краев ее засматривали к нему страшные призраки ночи, обступившие могилу со всех сторон; нищий зажмурил глаза, чтоб не глядеть на эти бесформенные чудища тьмы, и тяжело дышал… У него уже шевелилось желание выскочить из ямы, и он начал было искать конец пояса, но какая-то необычайная тяжесть приковывала его к месту, и тупое сознание нашептывало успокоительный афоризм: «Чему быть, того не миновать!» Подкрепившись последними глотками оковитой, гробокопатель принялся снова за работу; он с лихорадочной поспешностью начал выкидывать землю, чтобы чрезмерным напряжением физических сил убить сердечную боль и тревогу. Ни ветра, ни шума леса не стало; в глубокой яме легла зловещая тишина, нарушаемая лишь шорохом да стуком падающей земли. Мрак сгустился в черную, непроницаемую хлябь; ночь притаилась со всеми ужасами за плечами нищего… Но последний не поднимал головы, не оборачивался; он сознавал, что если уступит страху, оглянется, то уже ему не выбраться из ямы. Он копал и копал, напрягая последние силы, не чувствуя истощения их. Вдруг заступ ударился о что-то твердое.
«Гроб!» – прошептал нищий беззвучно и остановился было на мгновение, но подкравшийся к нему ужас начал сковывать ему руки, и нищий почувствовал, что если он обождет еще хоть одно мгновенье, то уже не сдвинется с места; отчаяние толкнуло его довершить начатое: он с бешеной торопливостью начал очищать от земли крышку гроба и, нажавши на заступ, приподнял ее и откинул на сторону. Не помня себя, почти теряя сознание, нищий приподнял холодный труп: тот не сгибался… Нищий нажал… что-то хрустнуло, словно подломились кости… с краев открытой ямы посыпалась мелким градом земля… Какая-то ночная птица захохотала, а нищий, как безумный, снимал с мертвой черницы одежду… Труп скрипел костями, словно распадался под его руками и наваливался на его грудь; но нищий ничего не разбирал, не чувствовал даже, как холодные руки мертвой монахини упали ему на шею… Наконец одежда была снята; нищий скомкал ее, сунув в свою сумку, и двинулся было наутек; но его что-то держало за полу… Пронзительный холод оледенил сердце нищего, в мозгу у него вспыхнуло слово «смерть», и он, потеряв сознание, повалился в открытый им гроб…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!