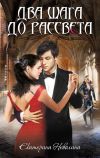Текст книги "Жизнь из чемодана. Миниатюры"
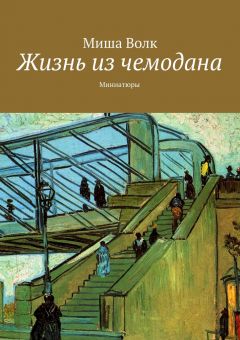
Автор книги: Миша Волк
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Нож
Бывали ли вы на грани?
В пограничном состоянии, когда будущее ваше неясно и изменчиво, а ветер метёт чувства, словно красные сердечки липовых листков?
Была весна, она величаво вплыла ручьями и растеклась по ухабам в поисках равновесия.
Я, помнится, в ещё зимней одёжке, взмок, и, истирая микрокапли пота, чесал под шапкой лоб.
Ничто не предвещало грозы, такой ранней и холодной, как душ при отключении горячей воды.
Курил, смешивая сигаретный кумар с испарением от несогретой землицы.
Летели птицы, они, словно нарисованные буковки, гладко строчили в зеленоватом небе.
Я вспоминал хохочущие метели, бритвенный ожог морозца, и настроение воспаряло почти к самому, что ни на есть, весеннему солнцу.
Лениво оглянувшись, я всегда лениво оглядываюсь, зевнул, как вдруг заметил шевеление в пышных кустах.
Кошка, подумалось тогда, и этот шорох не сомкнул надо мной ощущения опасности.
Я затянулся, вертолётиком бросил окурок и зашагал прочь.
Сзади плелась тень.
Чёрная, как негритянское веко.
Следы съедала грязь.
И вдруг я почувствовал, что тень остановилась и испуганно прижалась ко мне.
Беззвучно блеснуло лезвие ножа.
Оно покачивалось, как кораблик на волне, и приближалось с ухмылкой острия.
Я развернулся.
По кустам бежало жало солнца, и ни одного человека вокруг.
Нож плыл по воздуху, посвистывая и мерцая зеркальной плотью.
Ничего не понимаю – кто-то невидимый двигался по ухоженной тропинке, сжимая рукой перо.
Глаза округлились, но я почувствовал привкус «Дольче Габанны», услышал чей-то плевок в сторону и неосознанно дёрнулся с дорожки.
На секунду солнечный луч полоснул по глазам, я ослеп.
Я чувствовал, как нож с трудом, словно делая над собой усилие, пропорол куртку, прошмыгнул мимо рёбер и с колющей резкой болью проник в самое сердце.
От неожиданности я осел в придорожную стынь.
Дышать было тяжело, каждый вдох – это усилие, усилие, через которое нужно перешагнуть, чтобы жить.
Ещё чуть-чуть – и я потеряю сознание, но я слышал смешок, нож выскочил из моего тела и исчез.
Взор угасает, всё темнеет, контуры разжижаются, я не замечаю, как мимо проезжает машина, останавливается, как меня кладут на носилки.
И только слышу далёкий и незнакомый голос:
– Разряд… Это сердечный приступ…
Операция ы
Редкие выпады остроносого дождя, казалось, выжигали на лице полупрозрачную татуировку слёз.
Бултыхаясь в непогоде, словно пузырь, выдуваемый из мыла, повинующийся порывам безоглядного ветерка, разворачивающего и иссушивающего твою радужную оболочку, бредёшь в забытье.
Только не назад.
Там в холоде грейпфрутовых стен, горьких печальных, сдирающих наждачкой кожуру кожи, осталось то к чему нельзя прикасаться, моё мясо, моё тело.
Веря следам, ведь следы куда-то ведут, идёшь, не оглядываясь, но ветер надувает щёки силясь прорвать своим дышлом хрупкую невидимую плоть.
Люблю когда на тебя не смотрят, любопытно, раздирающе, и, раздевая, хватают за яблочко зада, будто срывая и откусывая плод из райского сада.
Невидим и свободен.
Солнце скукожило тучи, натянуло лазурный небосклон, хватаешь огниво руками, обжигаешься, как от сухого льда, и, словно сплющенный горячий беляшок перекидываешь с ладошки на ладошку.
А затем бросаешь лучиками навостре в лужу и та, отражая пламя, издыхает, испаряется и парком влажным вызывает летнюю лихорадку.
Только не назад, хотя действие наркоза уже заканчивается.
Атракцыон страха
Где потолок?
Г Д Е потолок?
Вместо пола раздвижные жалюзи ещё шаг и они разверзнутся, оголив крохотный обрезок земли.
Не хочу!
Подождите…
Из стен тянуться руки в алых бархатных резиновых клешнях.
По пальцам стучит невидимый молоток, они багровеют – видно, как под резиной скапливается кровянистый сгусток, руки сковываются в мольбе и медленно вползают назад в волокнистую стену.
В сознание вливаются кислотные испарения, тот, кто хоть раз здесь побывал, не сможет забыть, как лопаются мозговые извержения.
Запах тела.
Скукоженный, завёрнутый в обугленную фольгу, запах сгоревшей плоти, такой плотный, видимо застарелый, неужели и я так пахну.
Втягиваю тягучий парок подмышек, так и есть, тлением заразилось и моё тельце.
Затхло, будто в глотку залили строительной монтажной пены, и, вот она, разбухая, высыхает и перекрывает воздухопоток.
НЕ СМОТРЕТЬ НАВЕРХ!
Там…
Там раскуроченный маковым закатом небосклон, как жвачку, крошащуюся в кашицу от бесконечного пережёвывания, сплёвывает, бенгальские искристые звёзды.
Дёргаю дверь – открыто, неужели никто не догадался выйти отсюда…
Выйти, чтобы забыть страх…
Я снова в своей квартире.
НЕ СМОТРЕТЬ НАВЕРХ…
В аду
Кровилось небо.
Сначала я почувствовал натяжение эпидермиса, но уже через секунду ожог от трёхзубчатой вилки превратил нервный посвист в короткий ёмкий возглас.
– Перекур…, – черти спешились с хищников и, усевшись в кружок, гоняли в балду.
Наконец никотиновый туманчик дополз до меня, я закашлялся и, выдыхая едкие пары, уронил голову налево к плечу.
Куришь? – я почувствовал жжение губ, – сними фаску.
Я жадно в три затяжки стянул хабец, и уже довольный, ведь не так уж и плохо в этом расхожем местечке, вспомнил об алкоголе.
Мне тут же преподнесли тающий синевато-оранжевым огоньком Б52, который я всосал, выпуская горячий парок, и отрыгнул послевкусием «Куантро».
На закусь мне подали уже прожаренный румяный кусочек с моей сочной ягодицы, приказывая:
– А теперь бочком, плотоядный, – рогатые терпеливо ждали, пока я доем желтоватый, словно проржавевший, кусок.
– Великолепный антрекот, – я спешил дожевать лакомство.
– Не подавись, жадина, – они включили трип-хоп и, дико улыбаясь, принялись улюлюкать.
Дверь открылась, и меня обняли в круг разномастные демоны, игриво ковыряющие во рту тонкими лезвиями филейных ножей.
Тефаль с резной ручкой в виде винтового рога подостыла, почудился аромат «Дольче Габанны»
Я усмехнулся и приглушённо прошипел:
– Ну, всё. Утро. На работу мне, снова врать, что проспал.
Демоны, чертыхаясь, срезали верёвки, и уже через час, матерясь, проехав не заплатив, я ненасытно дегустировал алкоголь, за что и получал неплохие деньги, которых с избытком хватало и на вечеринки, и на безобразный по своей сути похотливый меркантильный секс.
Ведро воды
Капал снег.
Превращаясь в трухлявую жижу, он неуютно жался к земле, затем плачуще издыхал и трансформировался в похожие на жидкие облака лужицы.
Стайно, они растекались в ручей и, глотками, выделяя парок от пригревающих водяную кожицу лучей, журчаще чавкали, чтобы слиться в поток.
Весна сжигала парик прошлогодней травы, клоками, вырывая лишайно волосяной уголёк.
Недалеко скрипуче надрывалась ось, вращая душащую кричащую цепь.
Дырявый, прогнивший колодец.
Ведро шлёпало по морозной воде, захлёбывалось в талых водах, и нехотя прерывисто лезло вверх.
Ловко поймав дужку, прикасаюсь к губам липким металлом.
Аж передёрнуло, водица с привкусом жжёной земельки ободрала горло.
Под ложечкой зашкворчало.
Чучело голода отлетело.
Заморозки
Остывала от замороженных припадков рыхлая весенняя топь.
Жалобно, изощерённо, воздух резало неясное оперение чёрных с яркими клювами, птиц.
Шипела, пенилась боль каменистого выпада в ночь, короткого беспокойного дня.
Кое-где жгли траву, и густой витой запашок переваливался через оконное дупло, душисто драл ноздри, и, скатываясь в комок, скуляще сворачивался в закрюченного нашкодившего щенка.
Тихо, по-волчьи выло бледнолицее лицо ранней луны, чей кривой нож так настырно пытался отогнать ночные страхи, что крутился ужом после убаюкивающей тюльпановым закатом деньской расслабленности.
Стёкла, стянутые хрусталической плёнкой инея, тревожно трещали.
Заморозки навалились толпой, изломали, скомкали и укрыли лужи плёнкой бархатистого льда.
Я искал спасение в свёрнутом пространстве помещения, но тщетно, голодный воздух добрался и до меня, заключая в холод бесцветного подземелья.
Какая тишь.
Пластмассовая тьма.
Пахнуло розочками.
Исхода нет
Был упругий ветренный вечерок.
Моль снега садилась на кудрявую шапку волос и вырабатываемый адреналин бесшумно уничтожал крылатых.
Оса фонаря, вонзив жало в промёрзшую плоть льда, жалобно жужжала в поиске тепла, даря светлое облачко нектара люменов.
Дома наклонили неясную тень от сгоревшего солнышка, превращённого тьмой в изогнутое лезвие луны.
Каблуки оставляли искорёженные следы на свежем ковре помертвевшего снега.
– Я сейчас, за марафетом сбегаю… – сказал ему приятель и нырнул в облупленный дом.
Фонтанка стояла в крепком застое.
Окна промёрзли и узор скрывал кружевами внутренности помещения.
Через час, чертыхаясь, «благородный профиль» достал карандаш, дунул в сжатый до синевы кулак, и, втянув носом слякотную слизь, вывел в золочённом блокноте:
«Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…»
Последняя слеза
Он выплыл из подъезда, ещё не понимая как же могло случится так, что он живой переполненный силами, оставил там это тело.
Любил ли он вообще?
Да блеск зрачков, да полутона, да обволакивающий запах волос.
Не красавица, да и Бог с ней, он заплатил ей сполна, кто же виноват, что так случилось.
Беспредметная беседа пока они поднимались ввысь, почти к самым облакам, да чуть пониже.
Её рука такая мягкая, будто стёрли часть кожи пемзой, она её шевелит, выкручивает.
За окнами красным катышком свалялся закат, тучи наползли отовсюду и теперь их гребешки оросились бордо.
Они поднялись на этаж, он попробовал её губы и они, словно из тягучего материала, втянулись вглубь, холодные и доступные.
– Не нравлюсь? – она кокетливо сдула волос.
– Губы ледяные…
– Это с морозца, зато у тебя, как каминное пекло.
Они ещё о чём-то поговорили, она начала стягивать с себя одежду не забывая целовать ежовую небритую щёку.
В мандраже он тихонько толкнул её на ступени, но она оступилась.
Голова с тихим шлепком ухнула о угол.
С ужасом он смотрел, как живое существо багрового цвета ползло к нему по ступеням.
Он перекрестился и погнал по этажам, перескакивая через ступени, спотыкаясь, едва не падая,
сбежал вниз.
Всё.
Сердце измученно тёрлось о рёбра, на свежем воздухе он закурил, подумал, и считая ступени поднялся назад.
Стараясь не смотреть в белое лицо, осторожно ладошкой закрыл ей глаза, и провёл по таким же холодным губам.
Из её помертвевших глаз выкатилась, как ему показалось, росинка жемчужного цвета – последняя слеза.
По тарифу зон
Как по иронии судьбы она несла мерзкие жёлтые цветы…
– Пардон, – я вытянул из рук букетик и нещадно сбросил неприятную ношу в канаву.
– Месье, – она не то возмущаясь, подкипая от напряжения, не то просто для показа своей капризности, шёпотом произнесла.
Я достал из за спины кровянистую розу опылённую пульверизатором, протянул ей влажный бутон, и снова изрёк:
– Пардон, – на этот раз вышло не виновато, а напрягающе внушением.
Она взяла цветок, каким-то ласковым почти кошачьим жестом, прошмыгнула розочкой у носа, капельки, как ливневый пот пробежались по её носику, и уже ободрясь витающим ароматом излила:
– Мерси…
– Ком а ля гер, – площадь как ящерное животное, сплошь усеяно булыжниками, её тонкие каблучки то и дело скальзывали и она по восприятию цапала мою руку.
– Терпеть не могу французский, почему ты начинаешь с него, итальянский приятнее и уклюже, си?
– Мадонна, – я уже знал что в последующий концентрат времени, разговор зайдёт о Милане и светлячковых дорогих магазинах, поэтому подрезал тему коротким, но многозначащим:
– Си, – словно свистнул в тёмном переулке – не завязывает внимание на словах.
Поезд рвано обстукивал рельсы, подкрадываясь к перрону, изнурительно шипел змеёй, и уже совсем притормаживаясь выдохнул -Уф.
– Любимый, – перескочила с итальянского каприччо на богемный русский.
– Одни? – Она почти выпорхнула фразой из скворечника рта.
– Нет, -съязвил я и мы медленно втянулись в вагон.
Фантом
Метаморфозила самобытность.
Струной, как нерастянутая жилка, обрывалось бытие коротким возгласом: Прощай!…
Сердце притормаживалось, и его тормозной путь был чуть длиннее жизни.
Гранулированными осколками ссыпалась кровь.
Так бывает, когда провожаешь ушедшие чувства, видимо от разрывающего выстрела разлуки, они в трещинах стекольной меланхолии медленно осыпаются в память.
Режешься бритвенной остротой, но без боли, по привычке, словно скурив сигарету встреч, снова капает бордовый никотин на глянцевые клетки кафеля.
И на душе, так призрачно, эти создания, рождённые твоим разумом, не спешат покинуть полюбившееся тельце, отгоняешь их будто моль – мол, летите…
Так нет!…
Они терпеливо ждут твоей очереди, которая по превратностям судьбы закручена в круг.
Горько расставание, но проще уходить, чем оставаться.
И мечешься бесплотный, призраком в замке, ищешь свою нишу, где так по-семейному тепло и уютно.
Минотаврус
Стены.
Какой страх, скользкий, ползучий, отрывающий откуда-то изнутри рафинад филе, и сыто дрожа болотной трясиной, он ударяется бесплотно о стены.
Бредёшь, тупики – траурные мишени в тире, и ты выстреливаешь дробью в открытое забрало камня.
Статуи рассыпаются.
Странно, какой сытый воздух.
Темнота возбуждённо слизывает потливую сукровицу прямо в пол, и вырастают жилы тонкие вьющиеся, словно кудри.
Как темно, как во сне, только наяву снится своё нетерпеливое сжимание нервных конечностей, таких уплотнённых, будто их нашпиговали протухшим салом, закоптили, и они ватно переступают туда в темноту.
Лабиринт и по всей его внутренней кровосмешанной яме горит углём иссечённая надпись: ЗДЕСЬ Я.
Орхидей сон
Перламутровое ведро сочных орхидей.
Словно обрызганные аортой, на молочных цветках въевшиеся запёкшиеся раздражения.
Запах вводит в лёгкое наваждение.
Проводя опудреным нектаром носом по податливым латексным лепесткам, всё кружится, и проваливаешься в тропический цветочный сон джунглей.
Снится горная тропка ручья.
Обтекая острые камни, вода неспешно сочится вниз.
Ртутная леденящая водица ужом огибает вокруг мохнатые мшистые кочки, на которых в ореоле бабочек высматривают редкие лучи бледно-изумрудные цветы.
Вдоль, по бережку, удивлённые взгляды диких орхидей, и сладковато-наркотический аромат, переливаясь, флюидно переносится тепловатым ветерком.
Неожиданно вспыхивает освещённое солнечным жаром цветочное пламя. Ложусь в цветущее углями пекло, взор угасает, лесной мохер успокаивает и расслабляет.
Нет сил сопротивляться – морфей уносит в небытие.
Перламутровое ведро сочных орхидей…
Мой дождь
Вертикальный хрусталь ливня приколачивал жидкие гвозди к земле.
Несмотря на стекло окна, казалось, он прорвётся внутрь и измочит всю комнату.
Такой настырный, тягучей патокой, он морзянкой хлюпал по козырьку окна, медленно свешивался вниз и уже там хозяйничал, как заправский слуга осени.
Неожиданно он затараторил, будто читая рэп, и превратился в стену, о которую разбивались автомобили, пытающиеся счистить с себя щётками водные наплывы.
Тучи тем временем почти падали ниц, словно губки намокшие, они выжимались невидимой рукой и скрученные чуть-ли не в узел всё продолжали ныть.
А люди отбивали по асфальту окололужевый степ, флиртуя со спицами капель.
Мюзикл, который охватил пространство, гремел динамиками грома.
Видимо, Зевс, разгневанный желтоватым солнцестоянием, возвращал свой гнев бурными потоками коричневой жижи.
Я открыл окно, вымок, как стиранный в машинке плащ.
Но мой дождь, хоть и не в пустыне, освежил воздух так, что я почуял аромат листвы, горькую ягодную взвесь рябины, но короткое наваждение тепла осени так и исчезло, сокрытое от глаз тучами заката.
Накатила ночь.
Струился монотонный свет фонаря.
В ножевом разрезе тьмы тихо плакал дождь.
Никотиновый гад
Я курю давно.
Можно сказать с тех времён, когда стало только светать в облаках моей жизни.
Курил, не задумываясь, машинально, иногда, не замечая, как коварный уголёк дойдя до конца отъедает пальцы, оставляя белые полупрозрачные похожие на икру неведомых рыбин пузырьки.
Вот они лопаются и, вся житуха, пожелтевшего от никотина, пузыря брызжет из икринки через трещину.
Что такое сигарета – лошадиная смерть, а я хоть и осунувшийся вяло всё продолжаю нагло дымить, покрывая ажурные шторки въевшимся нагаром.
И курил-то по-разному.
В отрочестве, отгоняя рукой дымок, чтобы не дай Бог не учуяли едковатый смолистый угар.
Позже вальяжно, хорохорясь, втягивал сигаретную жилу и, делая аккуратно губки, выхлопывал вращающиеся кольца.
Затем, на работе, сжевав картонку «белыча», осторожно упрятав в ладонь окурок, с силой сдувал между ног невидимый выхлоп.
Потом трубка, огонёк вишнёвого Погара, и тугой густой валик от раскуривания, влажноватого табака.
И только недавно, начитавшись о многочисленных вредностях обычного занятия, курю неспешно по три тяжки за раз, чтобы ядовитый пресмыкающийся, с которым в тандеме мне дано жить лениво сворачивал белёсые кольца в тесном угловатом пространстве под потолком.
Подташнивает, чувствую, как выдавливает свой коричневатый сок, привычная мне рептилия.
Изнурение
Злилась весенняя топь.
Местами похожее на талое болото, оно удлиняло путь и мешало прямолинейному продвижению вперёд.
Ох весна сожгла снег докрасна, он розоватый от бутылки разбитой портвейна, испарялся зловонием перегарным и оседал.
Тут же, воткнутая, как сюрреалистическое украшение, изумрудилась клыкастая розочка.
Канареечными трелями из клетки зимы выпорхнули птахи и залили перепевом улицы.
Лужи как тёмные пятна облачных зеркал несут в воде то яркий отсвет солнца, то опухшие рожи помятых весенних туч.
И смесь погожих деньков, прелого запаха гнилостной, переваренной землёй, травушки и моего личного настроя на погоду, взбивалась в коктейль разносторонних эмоций и релаксации.
Скорее бы высохла корочкой болячка весенней распутицы.
Хочется не скрючиваться от холода, опрокинув набок окно, а следить, как звёзды мечут блеск на небосводе, расшитом созвездиями.
А ещё хочется тепла, человеческого тепла, снаружи, внутри и даже в бесшабашных орах ночного гулянья.
Лето подкрадывается огненным плазменным цирковым обручем, который всё чаще выдвигается из косматых перин, обросших паром, облаков.
Кошмар
Перематывая на начало день, видишь белёсое око рассвета.
Оно, не моргая, лезет в окно, скрашивая утренней дымкой запотевшее страхом стекло.
Снова снился кошмар.
Снилось безропотное трепетание ног в полночной вате.
Словно крабьи клешни щёлкали пальцы, диким ритмом задавая такт продвижению по, щекочущему нервы, сновидению.
Чья-то огромная голова футбольным мячиком укатывалась в аут.
Агония сердца сбрызгивала капли заката в ушедший вечер реальности.
Порошковый налёт драл ноздревой пазух, и, казалось, что ещё немного и тело понесётся по туману клети сна.
Лобстер крошился во рту собачьим кормом.
И только лампочка, будто всунутая в чёрную неопределённость задницы, подсвечивала органы раскалённым вольфрамом нити.
Маленькое солнце, взорванное в чреве перенапряжением.
Хотелось вмазать по заплывшей морде уродца, испортившего представление о чудесном восприятии мира.
Затем боль и замедленный марафонский бег, эстафетой огненного факела перерождающегося в подёргивание рук.
Чувствуешь себя зверем, шерсть которого свалялась в мотки колючей проволоки, и с серых волосков капает ночной кран потоотделения, хотя запах вспотевшей шкуры так и остаётся за гранью понимания.
Безумный бред рождает ночь.
Она силится разорвать и искалечить сон.
И даже научившись без помех двигаться по морям ужаса, не избежать резкого возвращения в обыденность.
Драгоценности!
Валиком скрутило малахит стрельчатой осоки.
Фианитовая роса, как по намазанному маслом противню, нехотя скапливалась у заточенных острых колющих жал.
Идти по полю босыми ногами в предрассветную прохладу, стараясь не провалиться в мягкую халву земли, приятно, и неотразимо удовольствие в привычных шагах.
То сползая с горки вниз, то подобно улитке, заползая наверх, идёшь по бессолнечному мирику.
Режет бритвенным лепестком сухожилия, но не прорезая, а оставляя красноватые росинки сукровицы.
Величаво по-королевски вытягивается солнечное пламя, и луч, обогревая, отражается в стекловидной капле искоркой золотистой.
И вот уже полянка нежданно пестрит, как оперение златых птиц на монетке, блёстками рассыпанных дукатов.
Зайдя в лесок зришь: слезливые янтарные вытяжки из древа тоже похожи на драгоценное мидасово пиршество.
Лишь болотце изумрудной ряской манит в трясину, булькая, как кипяточек супца в тёмной непроглядной кастрюльке.
Даже сюда просачиваются первые лучи и, попадая на красный лепесток невиданного цветка, агатно палят, кровинкой скрашивая росинку нежную.
А вода в озере отливает платиной, и круги от верхоплавки в воображении превращают гладь в раскалённую лаву жидкого металла.
Всё сильнее горит солнечное плазменное облако, облако, висящее на небе сплющенным непрожаренным яичным желтком.
И так повторяется изо дня в день, пока листья рыжие не озолотят деревца огнём, сжигающим лесок дотла, оставляя графитовые кости ветвистые без привычной летней шубы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.