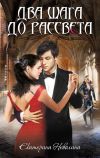Текст книги "Жизнь из чемодана. Миниатюры"
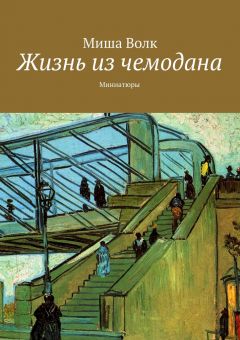
Автор книги: Миша Волк
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Кувырком
Кувырком летела осень.
Хотелось схватить лимонные дни, растянуть их, как жгут, намотать на рукав и ввести дозу тепла.
Но нет, они, подобно засохшей резинке, трескались прожилками неба и укорачивались, иссыхая.
Запах прелой листвы вводил в одичавший сплин, осень – ведь самое короткое время года.
В нашем климатическом нервяке листья держатся на перстах ветвей считанные дни.
Зато, какой ворох мелочужки златой топчется ногами, превращая драгоценности в коричневатый гнилостный ком.
Словно игрушку-тарелку, кто-то швыряет диск солнца, и он, замаскированный тучами, неожиданно выкатывается уже к горизонту, даря красное небо и предвещая непогоду.
Автоматные очереди дождя пронзают стекло окна, и оно в трещинах брызг медленно истекает из прозрачной артерии.
Капустное одеяние свитерковое требует всё больше листьев – курить у открытого окна дрожаще-промозгло.
Снимаю с кухоньки часы и кручу стрелки по кругу назад, да куда там, вместе с вращением удлиняется ночь, и праздничным фейерверком на небосклоне жгут по-осеннему холодные звёзды.
Звездопад закончился, желания не исполняются.
Хандра.
Восход
Сначала светлеет, словно очередной катаклизм бурит горизонт неясным свечением.
Потом начинают скрестись по небу уж совсем белокожие облачка.
Появляется оно неожиданно – ждёшь над морем, выглядывает из полей.
Будто в большом стакане намутили серебрянки, набрали полный рот, и, как при отпаривании утюгом упрямых стрелок, прыснули на подкрашенную золотом траву.
Серебрится роса и медленно скатывается с пологих лепестков в лоно земли.
Затем, будто разожгли оплавленную свечу, небо озаряется ранней зарницей.
И туман кумарным месивом покрывает кожуру поля.
Звёзды тают, беззвучно распыляясь до следующей ночи, не уберечься им от огнива солнечного.
Речка покрывается фольговой кожицей и кажется не прорвёшь плоть, даже рубанув палашом, но нет ныряешь в омут и крутит тебя водоворот, в котором чертей больше, чем рыбы.
Выскакиваешь на носочках и кожа будто революцианирует вся в мелких пупырышках становится.
А солнышко пригревает, и нет надобности облачаться в махровое полотенце, вода и так сушится.
А ведь глядишь скоро белые ночи – это считай бесконечный рассвет только там за пастью горизонта.
Пурпурным свечением мгла
Убранством росинок легла.
Оливковым жалом росток
Осоки вспотевший листок.
Искрит ожерелье из рос,
Свисая гирляндой из слёз.
Рассвет окровавил лес трав,
Небесный золота сплав.
Заход
Фонари ещё не ожили, но беспокойный ток уже бежит реанимировать люмены свечей.
Заводские трубы цедят чёрным, и кажется, мгла, которая скоро накроет звёзды, лишь сажа предприятий.
Вальяжно проплывает минтайная стайка посеребрённых облаков.
Тучи, вроде как окружили, уже не жаркое солнышко, плотным кругом пухлых отростков, но желторотое сопротивляется и подкрашивает кончики бордо.
Солнце изливает ауру желейного жёлтого сока и, даже склоняясь к землице, не боится рухнуть за горизонт.
Небо оно малюет лазурью, а зазубренные деревья стоят, словно опалённые.
Тучи, отступая, лимонно обнажают совсем скромную, ещё не яркую луну.
В масле огня на пурпуре небосклона зарделась первая звёздочка.
Темнеет.
Приятно смотреть, как круг солнца пожирается важными соснами.
Но белое поле как мелованная бумага, расцарапанная усиками травы, на мгновение становится ярче белил.
И вот уже не видно светила только алое марево, будто подожгли остатки закатного небосвода, ещё пылает над безмятежной тьмой деревьев.
Подползает ночь.
Наказание
Разбухшее и фиолетовое небо обрушилось в пряную черноту Фонтанки.
Я шёл не спеша, приподняв ворот пальто, разбросанные повсюду потроха и требуха вызывали омерзение и рвотный рефлекс. На петле под пальто бултыхалось единство дерева и металла.
Прячась в окольную темноту ламповых ищеек фонарей, которые всеми люменами пытались раскрыть моё естество, я шел не пугаясь, зная, что копейки, полученные за совершённое, пойдут на портвейн, и медленно двигался к намеченной цели.
Проходя мимо рынка, с вонью и смрадно истошными выхлопами подгнившей на солнцепёке придонной рыбы, с растрескавшимися бахчевыми с трудом сдерживался, чтобы не окровавить орудие о пахучие арбузные кучи.
Пройдя мимо сворачивающегося рынка, наконец почувствовал себя в безопасности.
Вот и моё убежище и треуголка чердачного оконного проёма.
Я выхватил полированную гладь ручки, вспомнил как навязчиво лепетала зебровая берёза, закрывая видимость из окна, в тот единственный час, когда солнцу бы обжигать мою каморку.
Сделал нелёгкое усилие над собой и с брызгами разлетающегося берёзового сока безжалостно вонзил остриё – на дрова.
Доча
Слилось бордовой кожицей солнце.
Он устало, разгребая минные ямы, шёл, иногда оглядываясь, сцепливая пальцами цевьё, шёл домой.
Была Прага, разрушенная до костей, с шилом заточенных шпилей, Варшава, безлюдная, удручающая обломанными зубьями кирпичовых зданий.
И, наконец, позади осталась колючка, местами изорванная, словно жилы, местами свернувшаяся ежихой, но, сделав шаг через рваньё, он учуял под ногами Родину.
Горела украинская степь, нагар внедрялся в прокаленное порохом лицо, и было тоскливо противно, что война кончилась, а здесь будто полымя съедает.
До его посёлка всего несколько миль, так научили говорить его на флоте, вот пройден ещё кабельтов.
Когда в бомбосклад миноносца всверлилась торпеда, каждый подумал – каюк, но нет, неведомая сила не разорвала тротиловый заряд округлённой акулы – и выжили.
Кто молил Бога, кто цитировал физику, а он сам знал, что спасла его могущественная сила, оберег, который он получил, как охрану, от своей прабабки.
Вот и станица.
Сколько раз, упражняясь, они сшибали шашками тыквы, а тут автомат, который нещадно изливает металл.
Пару таких пуль он всё ещё носил в кармане, как угораздило пробить очередью оба уха, не задев при этом головы, он не понимал.
Три хаты сожжены, а на месте его дородного брусового дома чернела обугленная воронка от бомбы.
Капли росы окропили лицо, как вдруг где -то под досками зашевелилось живое исхудалое существо.
– Доча, – только и смог вскрикнуть он и кубарем полетел в тёмную лужу на дно воронки, отражающую, будто живые, растроганные небеса.
Новые привычки
Танцевала на карнизе ранняя птаха, цепляясь за уступ коготками, едва не срываясь вниз, она с интересом, но с опаской пыталась разобраться, что же творится внутри.
Вязкий дым стелился по внутренностям кухни и полужидким туманчиком уплывал в клети вентиляции.
Пахло рыбой, печеной форелью с луком и поджаренной с корочкой картошечкой.
Паёк дня в виде раннего обеда вызывал не то урчание изголодавшегося по еде желудка, то ли наоборот неосознанное отторжение смеси, бурлящей в золотистом масле.
Когда расстегнулось и откинулось в сторону окно, уличный аромат стал бороться с чадом, запекшимся в ежедневных меню кухни.
Задышала квартира.
Ветерок щеткой сметал клочья пыли и резвился с лепестками источенных карандашом отрывных листков.
Чувствуя прилив апрельского настроя, захотелось сбрить зимнюю щетину, вычистив бритвой до белизны кожу, и облить лицо горячей водой с горчинкой.
Солнце насквозь прокалило стекло, оставляя радужные волоски и превращая дым сигареты в элегантные подтёки белой седоватой патоки.
Вот оно, виноватое, скромное и чуть смеющееся переливами ручьев, изменение настроения – долгожданное разрубание цепей утренних заморозков шаловливым теплом златых прядей светила.
Примулы и мать-и-мачеха, прорвав ещё холодный слой земли, вылезли вдоль обочины, и теперь стало веселее идти по жухлому ковру колючей прошлогодней травы.
Ещё недавно, обворачиваясь, как удавкой, шлейфом шарфа, искал согрева в коротких набегах на магазинчик, теперь можно долго плутая и не боясь сжатия горла морозной ангиной, идти околицей за покупками.
И покупки особенные – тянет на что-то вкусненькое, чего никогда не покупал, а тут, рискнув, открываешь тёртый кошель и расплачиваешься, не считая сдачи, крупной купюрой.
Нежность просыпается, как сонная кошка, она, потягиваясь, разминает тельце чувств, и, кажется, сейчас заурчит от удовольствия.
И душистые деньки подкупают своей неожиданностью, думал ведь, все – промёрзла земля, охладели чувства, вымерла фантазия, а новое веяние весеннего месяца разбудило во мне не только аппетит, но и новые привычки.
Оптимизм
Ну вот, как всегда – кофе нехотя запузырилось в турке и, оставляя катышки гущи, охотно сползло на плиту.
Почему так?
Утром, бреясь, резанул вдоль по щеке и оставил тонкий порез, из которого сразу вытекла слеза сукровицы.
Не везет, так не везет, садясь на плоскую гладь табуретки, услышал хруст, и, надломившись под грузом, лопнула по трещине высохшая ножка.
Полез извлечь сгоревшую лампочку – цапнуло электричество.
Что же это со мной?
Видимо давно, бултыхаясь в еще прохладном море, махнул руками и разбрызгал вокруг едкую морскую соль, как рассыпал.
Сигареты горчат, набрал полный рот никотина, и желтеет слюна, и тошно, хоть срыгивай.
На пальце, разбухая брюшком комара, наполнился водой беловатый ожог, это когда газовую горелку зажигал, припомнилось мне.
А на улице-то красотища, буквально за несколько дней из земли вырвалась целая орава малахитово-бирюзовых росточков, поля покрыла ежовая трава, и солнце, как сеющий свет фонарик освещает люменами тепла непрогретую гладь сероватой дороги.
Все, надо выбираться из склеенного бетонного склепа в чистоту привольного воздуха.
Быстрые сборы, старый, забрызганный морозной кашицей плащ, ботинки – утконосы и вельветовая кепи сафари.
Спускаясь по ступенькам, чуть не растянулся на шпагат, протекторы бот стёрты многочасовыми гуляниями и не держат на мозолистом ребре лестниц.
Сколько это еще будет продолжаться?
Обход округи, будто сторож осматривает закрепленную за ним территорию, вот самовлюбленные нарциссы, рядом печальные лепестки тюльпанов, бутончики листочков, а на ветках дерева свисли сережки берез.
Я кстати заметил, что каждая зебра березки увешивает висюльками себя по-своему: на некоторых ветках украшений маловато, зато другие чуть ли не ломаются под тяжестью семян.
Ускорил шаг, запнулся, наступил на провокационный шнурок.
Лечу в придорожные кусты.
Куст шиповника, как когтями, разодрал колючками лицо.
То еще удовольствие, ну, неужели это никогда не прекратится, может, сглазили?
– Браток, закурить не найдется? – голос прохрипел неожиданно, словно прервав тишину резким выхлопом где-то поблизости.
Оглянувшись на речь, увидел инвалидную коляску и немолодого небритого мужичка, который перебирал короткими обрубками ног.
Достал помявшуюся пачку сигарет и почти виновато добавил:
– Да кури, не жалко.
Тот ловко прикурил цигарку, глубоко и приятно затянулся, испепелив почти наполовину окурок и крякнув:
– Жизнь хороша! – покатил дальше.
Я встал, отряхнулся, поправил копну спутавшихся волос, с минуту постоял, переваривая и настраиваясь, плюнул через плечо, видя, как изогнутая скрипкой спинка черной кошки метнулась передо мной, плюнул еще раз, но уже по-другому, уверенно, и направился в свой новый день, день, который будет лучше предыдущего…
Сантехническая боль
Унитаз глотком поглотил дождь, отрыгивая из себя ошмётки детективного бестселлера, и шипуче матерясь, кое-как успокоил свои нервы.
Примечательная привычка жить в темноте у него с детства тогда ещё ступенчатое лоно его было девственно бело, и лишь пузырики при сливе лопались с запашком фруктов из абрикосового освежителя.
С годами протечка бочка почти вогнала унитаз в постоянную депрессию, а жёлтое в связке с коричневым вызывало у него рвотный рефлекс, вода натужно фонтанировала из нутра, но он делал глоток и взахлёб проглатывал насущное питание.
Неожиданно его каморка обросла малахитовым кафелем, но даже при включённых галогенках,
узкий коробок выглядел мрачно и страшно.
Потом появился мягкий резиновый коврик с водоплавующими птицами и озерцом. Дверь сменилась на раздвижные зеленоватые пластины и дышать стареющему унитазу стало много легче.
В какой – то из дней дверь распахнулась, и он увидел керамические формы изящного изумрудного существа.
Он был заворожён, слова сложно воспринимались, он вообще редко слышал звуки напоминающие слова.
К нему подошёл человек открутил крепёж, вырвал его чрево из фановой трубы и улыбнувшись смёл со лба
пот.
Человек брезгливо взял его за талию и вытащив из темноты деревянного дома, уже обрастающего сайдингом, неаккуратно набекрень, почти кинул беднягу возле гаража.
Изумрудный был грациозен и фешенебелен, каждый попробовал мягкие подушечки стульчака новинки и кивая, задвигал створки, а при сливе чудо бесшумно и практически начисто съедало аппетитно, несмотря на жёванный листок «Смены», свою порцию, чего белый был сделать не в силах, ведь даже рулонную бумагу в него пропихивали ёршиком.
Он не слышал биение фужеров – чтоб дольше работал.
Белый пропустил сквозь себя лёгкий ветерок, а потом лежал на боку и смотрел на звёзды, ведь это была его первая ночь открытий.
Утром сквозь него пробежал ржавый когтистый крысёныш, скользя и царапая керамику, а чуть позже он исчез, и больше никто и никогда его не видел.
Слепой сон
Я ослеп пару лет назад.
В сутолке дней зрение сначала расслабленно размывало контуры и от жжения солнца чесались веки, а потом, словно огарок свечи, дошедший до основания, мир исчез в моих глазах, насовсем.
Ориентируясь на звуки, долго всматриваюсь в окно, пытаясь отличить день от ночи.
Вот проскрипел велосипед, словно циркулярка зажужжала – промчал мопед, птицы несвязно сеют пение разноголосья.
Время, видимо, к утру.
Я попытался прикурить сигарету, но не видел где её конец и спалил половину.
Всё, надо заснуть.
Переливаются зелёным и фиолетовым пятна.
Перетекая, вырисовываются лица, незнакомые, носатые, губы будто вывернуты наизнанку, и упругие гладкие женские ротики, призывно открывающиеся при приближении.
Наконец сон.
Сижу в машине, деревья как ненормальные, сцепляясь ветками, проносятся мимо.
Я их не вижу, но знаю весна, это дыхание прелой земли и раннего расцвета сирени через приоткрытое стекло подсказывает ароматом, что машина едет по аллее.
На коленях кто-то сидит, мне это кажется естественным, воздух переполнен оттенками, и, разделяя их на составляющие, чувствую, что машина наполнена битком.
Рука машинально обхватывает колени, они гладенькие и угловатые.
Веду верх, под юбку, по упругой коже и слышу ласковое постанывание в ухо.
Да это она.
Я вспоминаю дыхание её локонов и привкус кожи.
Разве такое забудешь?
Шелестит голоском, смеётся и, вдруг во сне я открываю глаза, и вижу её фото, как живое.
Резко проснулся, поднёс пальцы к носу и удивлено откинулся на подушку.
На мгновение померещился её запах, да такой сильный, что чуть не упал с кровати.
Сколько лет минуло, а мои рецепторы повторяют один и тот же сон: эта поездка на дачу и её ни с чем несравнимый запах, запах сокровенный, въевшийся на всю жизнь.
Серебро
Пульсация меланхолии опрокидывала назад груды печальных образов, без слёз тихо, словно рассыпанную соль, так и печаль метала через плечо старые всплывшие обиды и боль.
Боль рушилась за спину, выкручивала руки, и, хрустя, выла над ушедшими чувствами.
Да, когда-то было иначе – радость выплескивалась из нутра и оседала на причёске, праздничными золотистыми капельками блестящего дождя. Бывало, счастье, прикрыв истомой глаза, тёрлось плечиком об отшлифованную кожу.
Сейчас на этом месте шрам, с годами притираясь, надёжное плечо превратилось в наждак, а счастье забылось и больше не вызывало дрожи пальцев, которые превратились теперь в связку худощавых перстов, старающихся измять и искривить, ставшей обыденной, пятерню.
Губы, такие ненасытные от поцелуев, раскрасневшиеся алым огоньком, от привычного бытового соития, превратились в почти мозолистые фиолетовые резинки, и лишь дыхание ещё не остыло, но настолько приелось, что вместо нежности напоминает нашпигованное чесноком азу.
И форточка открытая настежь, сметает струёй слова, разбивая их слёту об стены, и источенное в тонкий стилет бытовое общение, давно превратилось в лицезрение аквариумных рыб, живущих в телевизоре и исполняющих под фонограмму, булькающую современную музыку.
Близость отодвинула на разные полюса широкой кровати купленной для утех, но спать, вжавшись носом в потливую подмышку и залепляя кудрями рот опостыло и огромное пуховое одеяло сменилось лоскутными ватными накидками.
Изредка задевание охладевшей кожей вызывало медвежье бурчание, шевеление и храп переходил на другую октаву ниже и ниже к басу.
Утренний кофе на столе, свитерок в катышку, короткий ленивый чмок.
Чуть не попортившие фэн-шуй, расставленные по кухне грязные тарелки с острыми косточками закопчённого сига, швабра в руках, нахально подвязанный халатик и, как эхо, прощальные слова:
– Буду вечером.
На которые с издёвкой хочется спросить: неужели?
Непесочные часы
Часовая цикличность выводила из состяния спокойствия тихим боем.
Темно, золоченые стрелки кружатся не останавливаясь, и лишь перед самым гонгом секундная стрелка правит бал и ровно в полночь, превратившись в единое целое с минутной медлительной стрелой, они незаметно меняют число, день, и, возможно, год.
Вы когда-нибудь пробовали жить без часов – снять наручники времени, остановить круг кукушки и разбить молотком будильник? Какая навязчивая тишина.
Где-то скрипнула дверь.
Шершаво прошмыгнул автомобиль.
Птицы умолкли, и за окном, сожрав солнце, сыто высыпает звездную сыпь ночь.
Словно весенние веснушки, звезды бледнеют на плоском небосводе, к утру и вовсе превратившись в осколочные раны лазури.
Утро, как стиральная машина, удалила пятна мглы, и там за лесом, видимо, желтопузым цыпленком проклюнулось, разбив скорлупу горизонта, еще холодное и бледное светило.
Мир оживает, уже перестали подмигивать из темноты яркие светлячки, превратившись днем в незаметных букашек, которые сотнями ползают в травянистых джунглях или вовсе забираются под кожуру дерева и там дремлют, пока истукан дятел не пронзит своим заточенным шилом крохотное тельце жертвы.
Зато над полями стаями сверлят воздух зоркие грачи, и если ночь была сырой, то неминуемо падают, подобно ньютоновскому яблоку, вниз, чтобы, ухватив кончик червя, извивающегося змеёнышем, отнести в гнездо лакомство пернатых.
Без всяких часов я могу определить полдень, который, выжигает на лице татуировку ожога.
И, растирая рукавом грязь, я все продолжаю свой путь параллельно с Хроносом, чье существо вечно и не останавливается, даже если ты устал, а часы, как бешеные, рванули вперед, но временное пространство не исказило этот выпендреж щвейцарского Ролекса.
Люди привыкли захлёбываться в социальных сетях, ненавязчиво предлагая себя, как товар.
Мобильники заполнили мир прерывистыми мелодиями хитов, то что казалось немыслимым ещё вчера, сегодня явь бытия.
Прогресс неумолим. Иногда хочется нажать на паузу, и вот тогда достаётся оптическая Лейка, и мгновенье превращается в чудную фотокарточку, для которой не определишь её дату рождения, ибо часовые механизмы лишь монстры, придуманные древними.
Под пологом ночи
Огниво чиркнуло напоследок по перьям облаков и истлело в ночь махровым с синевой закатом.
Озерцо озолотилось, словно на поверхность плеснули расплавленным золотом, и погрузилось в тишь.
Изредка воды рвёт мелочужка.
Ивы плаксивые ветви почти утопили в ртутной глади воды.
Смотришь на заплаканные деревца, которые будто поклон природе отвешивают, и щемит где-то там, под толщей костей и кожи, невидимый катализатор восприятия душевный.
Кто-то путает рыбу в сетях, хотя на таком обрубке водной глади и поймать-то нечего.
А днём рассечением гладят озеро не прокрашенные лодочки, молотят безустанно лопастями велосипеды-катамараны.
И лёжа в теньке наблюдаешь, грудастые формы в обтягивающих намокших бикини, почти оголяющих бурые соски, которые в сюре кажутся антеннами-приемниками чужих взглядов.
А хочется уединения от мира, купаться в молочных облаках и в синеве неба найти раннюю звёздочку, которая упадёт на ладонь и тогда желание сбудется.
Но нет, ночь развешивает темень по округе, и ныряешь с головой в ещё более тёмную водицу.
А потом, дрожащий, лесом плутаешь домой, чтобы раскрыть книжицу, да и задремать, не дочитав странички.
На волне
Пузырилось морское полотнище, сначала беззвучно, затем подкатывая к брегу шипя, и уже въевшись в песок оставались лишь радужные окружности на тяжёлом, крупного помола, песчаннике.
Медузы, как желе из аквариумных форм, овальной конфигурации, то всплывали выталкивая студенистую массу краями, то погружались выдохнув морской воздух из таких же желейных, как они сами, лёгких.
Ветер мёл барашки волновых вздохов, и они ссыпаясь исчезали в фыркающих гребнях моря.
Близился рассвет, казалось, в море набросали расплавленных трупов и они, растворившись в солянистой эссенции, подкрасили воды таким алым винцом, что когда величаво и чуть пугнувшись, издалека вытащили красную тряпицу солнца, оно опьянило до слепоты, обезоруживая и вертясь.
Самые сложные шаги через буран льющихся каскадов, и,я как волнорез, пытаюсь разорвать монолитный бурлящий поток своим телом, но тщетно, пробив гребнем пузо, меня отбрасывает далеко, назад, и рвёшься пройти эту метель, которая выхлёстывает бичом южного моря.
Тогда вныриваешь в кипяточные извержения и проскочив, как на мерцающий жёлтый, великана солёного, пытаешься плыть, хотя движение напоминает тренажёр по плаванию, чем изящней стремишься выплыть из плена громад, тем резче бьёт тебя неведомая посейдонова сила.
Но вот наглотавшись наконец, кажется, стянул своё тело с бесконечного движения на месте, но как в ужастике «Челюсти», обнажается водянистая пасть, и вкрутив тело сверлом в рулет катит меня, словно снежный ком, ударяя всевозможными местами о гранитный, как чудится, остов обыкновенного дна.
И лежишь на бережку, судорожно открыв рот рыбкой, и мысленно устало считаешь тумаки от боксёрского катания на валу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.