Текст книги "Звук: слушать, слышать, наблюдать"
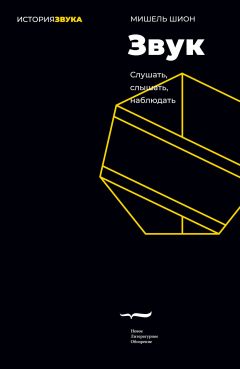
Автор книги: Мишель Шион
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава 5
ШУМ И МУЗЫКА: ОБОСНОВАННОЕ РАЗЛИЧИЕ?
1. Обособлена ли музыка от других звуков?1.1. Музыка и математика, мифическое уподобление
В письме Гольбаху от 17 апреля 1712 года Лейбниц пишет: «Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi». Нам нужно вернуться к этой устойчивой идее, утверждающей, что музыкальное ухо слышит математически.
В школе и из учебников по сольфеджио мы узнаем, что это на самом деле так, что ля первой октавы эталонируется, по крайней мере в официальном диапазоне 1953 года, частотой в 440 Гц, тогда как ля второй октавы (которая звучит октавой выше) обладает частотой в два раза выше – 880 Гц. Точно так же интервал, воспринимаемый в качестве «чистой квинты», как он называется в западной терминологии, соответствует в плане частот математическому отношению 2/3. Говоря конкретнее, струна, которая короче в два раза, вибрирует октавой выше, а звук в другой октаве кажется нашему уху «тем же» звуком, хотя и перенесенным в другой регистр (при пении каждый самопроизвольно выбирает свой регистр и транспонирует в октаву, соответствующую его голосу, чтобы петь в унисон).
Именно эта подчиняющаяся логарифмическому закону «чудесная встреча» качественного восприятия точных интервалов ухом и физической длины струн или труб, соответствующей частотам, подчиняющимся простым математическими отношениям, часто заставляла представлять музыку в качестве перекрестка физического мира, или космоса, и чувственного мира. Процитированная выше в ее латинском оригинале формула Лейбница утверждает, что «музыка – это скрытое упражнение в арифметике, в каковом разум не знает, что считает».
В этой хорошо известной формуле нас поражают слова «скрытое» и «не знает». Перестает ли музыка быть подобным упражнением, если разум знает и если такая арифметика перестает быть бессознательной?
Действительно, мы воспринимаем не числа, а «эффект» чисел, не разницы в длинах вибрирующих струн или труб, а «эффект» (опять же в кавычках) этих разниц. То есть происходит перенос количественных отношений на отношения качественные, но этот перенос математических или арифметических свойств не означает их полного сохранения. Мы воспринимаем интервалы, между которыми существует отношение порядка в математическом смысле (ре находится между до и ми), то есть интервалы, измеряемые в откалиброванных единицах (полутонах и тонах, объединенных темперированной гаммой), но не абсолютные отношения: никто не слышит октаву, которая равна пространству шести тонов, в качестве двойного тритона (интервала в три тона, например между до и фа диез), а большую терцию (два тона) – в качестве двойного тона, то есть они слышатся просто в качестве больших интервалов.
Но все это относится лишь к тональным звукам (см. далее), то есть речь идет о значительной, но в количественном отношении все же меньшей части звукового мира. Тогда как звуки с комплексной массой не принимаются во внимание. И если живопись (как фигуративная, так и нефигуративная5959
Нефигуративное визуальное искусство появилось не вчера – примером могут быть «декоративные» мотивы в арабском искусстве, объясняющиеся запретом Корана на изображения.
[Закрыть]) допускает все формы и не сводится к сочетанию простых форм, то, возможно, музыка, искусство звуков – это такая игра конструирования, которая допускает лишь кубы и сферы?
1.2. Шум, музыка: абсолютное различие
В большей части традиционных музыкальных систем предпочтение в действительности отдается звукам, обладающим точной высотой, которая может быть определена ухом и абстрагирована от звука, то есть тем звукам, которые Пьер Шеффер в своем «Трактате о музыкальных объектах» называет «тональными». Но это предпочтение мы связываем не с тем, что они, так сказать, «приятнее», а с их заметностью. Похоже, что в силу самого способа функционирования нашего уха, а не благодаря своей физической специфике, они способны выделяться на фоне всех остальных звуков, которые Шеффер называет «сложными» и которые, хотя они и могут обладать точными и строго прописанными сенсорными качествами, не обладают при этом точной высотой. По этой причине они обычно исключаются, вытесняются на периферию или же ограничиваются ролью «пряности», «приправы», а потому в значительной части традиционных музыкальных систем (и не только западных) называются шумами.
С акустической точки зрения, на уровне элементов, то есть отдельных звуков, не существует, конечно же, столь четкого разрыва в континууме, который бы строго разделял три области, обычно называемые речью, музыкой и шумом.
Если «музыкальный» звук определяется как «звук с точной высотой», как все еще пишут в учебниках, тогда нота жабы, сигнал трамвая или же гудение неоновой лампы должны восприниматься в качестве музыкального звука, но этого не происходит. И наоборот, звуки ударных, очень высокие или очень низкие ноты инструментов в музыкальных партитурах должны слышаться в качестве немузыкальных, что тоже не соответствует истине.
Конечно, традиционная музыка в основном использует тональные звуки, но они признаются музыкой в силу того, как они связываются друг с другом, а также в силу официального признания их музыкальности. Доказывается это тем, что при помощи современных техник можно легко превратить в мелодию лай собаки, транспонировав его по разным ступеням лада (поскольку в отдельных его фрагментах имеется явная «тональность»), но это не будет восприниматься как музыка. Слушатель просто улыбнется или даже возмутится. Но хотя он и имеет дело с мелодией, имеющей все «официальные» черты, указывающие на нее как на музыку в ее предельно консервативном понимании (регулярный ритм, опознаваемая мелодия…), он сочтет это провокацией или розыгрышем, поскольку собака не является конвенциональным инструментальным источником.
Оценка шума в качестве шума и музыки в качестве музыки зависит, следовательно, от культурного и индивидуального контекста, то есть она связана не с природой элементов, а с признанием источника в качестве «музыкального», а также с восприятием особого порядка или беспорядка среди звуков. Два этих критерия совершенно независимы друг от друга, но кажется, что обычному вкусу нужно, чтобы выполнялись оба.
Конечно, как мы уже видели и еще увидим, существует звуковой континуум, в котором на уровне стихии речь, шум и музыка принадлежат одному и тому же миру. Но наше прослушивание всегда дисконтинуально, оно «лавирует» между совершенно разными уровнями (каузальное слушание, кодовое, редуцирующее, языковое, эстетическое и т. д.).
Конвенциональное трехчастное деление на речь, шумы и музыку утверждается телевидением, видеоиграми и кино. Причем на уровне не только концепции произведений и их технической реализации, но также их анализа, что показывают все исследовательские работы, основное внимание в которых уделяется диалогам, закадровым голосам и «киномузыке». А при перезаписи фильмов музыка, шумы и речь разносятся по разным дорожкам. Но так ли уж важно это различие для анализа кино, и не лучше ли заменить его такой классификацией и сближением звуков, которые бы основались на их собственной форме (точечные звуки, длительные, прерывистые, тональные или сложные, пульсирующие или нет, и т. д.) и на их собственной материи (зернистость, материальные звуковые индексы, аллюр и т. д.)?
Мы утверждаем, что нужно и то и другое: признать трехчастное деление в качестве факта и рассматривать каждый элемент на уровне его собственной организации (а не притворяться, что мы отказываемся слушать диалоги как язык, а музыку – как мелодию и ритм), но в то же время уметь слышать и признавать во всех элементах одно и то же «звучание». То есть уметь слышать то, что удар, звуковая точка, будь то пиццикато виолончели, хлопанье дверью или резкое восклицание, выполняет специфическую функцию в общей темпоральной организации. Или что в фильме, независимо от эстетических категорий, бледное или дрожащее звучание определенной темы в музыкальной партитуре заставляет ее перекликаться с «шумами», относящимися к пространству диегезиса. Именно это мы называем редуцирующим слушанием, о котором будем говорить далее.
2. Что такое шум?На вопрос «Что такое шум (bruit)?», заданный на французском языке, можно ответить, как и на вопрос о «звуке» (son), что это существительное мужского рода. В нашем языке это существительное указывает на ряд понятий, которые не обязательно точно соотносятся друг с другом, к тому же разные их определения не до конца выверены.
2.1. Слово «шум» в разных языках
У каждого языка в этом отношении своя специфика. Например, во французском слово «звук» (son) редко используется в повседневной жизни для обозначения немузыкального или невокального звука, поскольку в таких случаях употребляются слово «шум» (bruit), неизменно имеющее пейоративные коннотации. Во Франции чаще говорят о «шуме шагов» (bruit de pas), чем о звуке шагов (son de pas), тогда как в английском языке слово «звук» (sound) применимо в бытовом языке как к шагам, так и к музыке (характерно, что в английском шумы в кино называются «звуковыми эффектами», sound effects).
Во французском «шуметь» (faire du bruit) – синоним для «мешать», «надоедать». «Не шуми» (Ne faites pas de bruit) – вот что можно сказать французскому ребенку, тогда как в английском есть более позитивное выражение Be quiet («Будь тихим»). С другой стороны, слово «шум» (noise) в английском закреплено за паразитическими звуками и фоновыми шумами (то есть в технике звукозаписи это то, что нужно устранить), а также за акустическим значением слова «шум».
Шумом в смысле «того, что мешает» может оказаться даже самая сладостная музыка Моцарта, если вы вынуждены ее слушать в такой ситуации, когда вам не до нее.
2.2. Противоречие между определением шума как «немузыкального» звука и вопросом о речи
Современное определение слова «шум» на французском, сформулированное в словаре Petit Robert: шум – это звук, который «не ощущается в качестве музыкального». Любопытно, что это довольно осторожное определение (поскольку оно стремится быть психологическим и релятивистским) забывает о проблеме речи, как будто она уже не звук. Однако устная речь состоит из звуков, в которых важную роль играют «различные негармонические колебания» (нетональные звуки). Никто, однако, не называет ее шумом, если только не считать тех случаев, когда это непонятная или неразборчивая речь.
Это противоречие в общепринятом определении, которое встречается повсюду, и в том числе в научных работах, довольно интересно. Похоже, мы не желаем интересоваться феноменами структуры и организации и стремимся во что бы то ни стало «удержать» и «объективировать» на уровне самих элементов различие речи/музыки/шума, полагая, что любая составляющая музыки должна обязательно быть музыкальным звуком, любая составляющая устной речи – словесной фонемой и т. д., что с акустической точки зрения просто не имеет смысла.
2.3. Перекресток смыслов
Существительное «шум» во французском послужило также основой для немалого числа ложных теорий, поскольку оно допускает множество семантических двусмысленностей. В качестве примера мы может привести книгу Жака Аттали «Шумы», вышедшую в 1971 году, на пике карьеры автора. В ней затрагиваются чуть ли не все возможные смыслы этого слова во французском языке, но ни разу не ставится вопрос о единстве предмета изучения.
Шум – это во французском языке одновременно:
• звуковой феномен, характеризующийся непериодической структурой частот, то есть «сложный» по терминологии Шеффера;
• бесполезная часть звукового сигнала – в контексте оппозиции «сигнал – шум», а также теории информации;
• то, что не является ни словом, ни музыкой, опознаваемыми в таком качестве. Это таксономическое значение, которое мы использовали в нашей работе о звуке в кино;
• звук, понимаемый в негативном смысле, как помеха или неудобство. Это психологическое и аффективное значение.
Неразличимость, царящая в бытовом словоупотреблении терминов, связанных со звуком, когда физический уровень смешивается с перцептивным, привела к тому, что шумы в трактатах и словарях часто описываются в качестве феноменов, на перцептивном уровне являющихся «смутными», на том основании, что, с акустической точки зрения, они не имеют простого спектра. Однако в шуме удара молотка, который отвечает трем из четырех вышеприведенных определений слова «шум», нет ничего смутного! Просто для его описания не подходят обычные музыкальные критерии.
Например, в категориях Шеффера звук молотка может описываться как «сложный импульс» и обозначаться символом X′. Можно даже определить его «место» и «калибр», а также резкость атаки, то есть описать его, хотя бы частично, не прибегая к символам традиционной нотной записи, в данном случае неэффективным.
2.4. Сложность и смутность
То, что сложный по Шефферу звук (как и следует из его определения) плохо оценивается с точки зрения его высоты, не означает, что он смазан. Просто для его определения не подходит критерий высоты. Здесь мы сталкиваемся с типичным примером мышления по принципу «все или ничего»: рефлексию до сих пор подталкивает к нему довольно (или даже слишком) большая точность, с которой ухо слышит некоторые звуки, а именно тональные.
Конечно, Клод Бельбле прав в том, что в звуковом мире естественных шумов существует множество «слабых», внешне смутных форм. Однако следует добавить, что то же самое обнаруживается и в визуальном мире, но современная терминология позволяет нам редуцировать эти формы.
Хаотичная и произвольная форма гребня горной гряды может анализироваться как ряд угловатых форм, пилообразный орнамент, закругленных, более или менее плоских форм и т. д. Богатство наших описательных аналогий – вот что делает визуальный мир читаемым для нашего глаза. Визуальный мир, как и звуковой, не дан нам с самого начала в качестве структуры: такая структурация создается только благодаря обучению, языку и культуре. В области визуального она постепенно совершенствуется, в частности при посредстве языка и рисунка, тогда как в области звука она остается элементарной, причем во всех странах. Критерии Шеффера, которые мы имели возможность проверить на деле, предлагают средство для того, чтобы начать воспринимать во внешне неразличенном континууме слышимого универсума отдельные единицы, точки и линии. Конечно, речь идет лишь о минимальных ориентирах, привязанных к разным звукам, и мы не можем свести к этим базовым формам все, что слышат наши уши. Но достаточно подобным образом разметить то, что представляется звуковым «потоком», расчленить его, частично структурировать формы, которые мы из него выделяем, и звуковые планы, которые учимся в нем различать, чтобы он постепенно начал менять свой облик.
Чтобы эта ситуация изменилась, нужно признать, что постепенное развитие восприятия не будет линейным, что значительная часть звуков будет и дальше уклоняться от нашего желания их классифицировать, то есть невозможно мгновенно перейти от неразличенного, с которого мы начинали, к упорядоченному распределению аудиальной реальности.
Не нужно, конечно, думать, что человек, вооружившийся какими-то инструментами описания, предлагаемыми, в частности, книгой вроде этой, и занявшийся наблюдением всевозможных звуков, включая немузыкальные в классическом смысле, мгновенно будет окрылен новым пониманием всего того, что раньше ему казалось бесформенным. Просто до этого он не занимался этим бесформенным. Теперь же он им интересуется и приходит в негодование от того, что не может свести его к простым формам с той же легкостью, с какой может расчленить традиционную музыку (по крайней мере, если он овладел соответствующими техническими навыками) на гармонические, ритмические и мелодические составляющие.
Здесь также есть определенная иллюзия. Классическое музыкальное произведение строится на основе нот, которые мы видим в партитуре, однако оно сводится к форме нот не больше, чем дом – к форме черепицы и кирпичей. Оно также состоит из вихрей, дымки, звонков, ворчания, трезвона, стрекота, выплесков и чириканья, и это не «образы», а образцы форм.
Вернемся к нашей параллели с визуальностью: облака на небе, даже если они соответствуют негеометрическим формам, никогда не кажутся нам смутными, поскольку благодаря, в частности, трудам британца Люка Говарда, занимавшегося их классификацией, мы умеем сводить их сложность к некоторым простым формам. С другой стороны, конфигурация облаков оставляет нам время на то, чтобы понаблюдать за ними, прежде чем их облик изменится, тогда как наблюдать звуки – значит наблюдать облака, бегущие друг за другом и меняющиеся с огромной скоростью. Именно поэтому необходимо учиться наблюдать за движениями форм.
2.5. Музыкальная имитация шумов
Любопытно, что имитация шумов в истории западной музыки является довольно щекотливым вопросом, словно бы она грозила возвращением к материи – той грязи, из которой возникла музыка.
Ветер, впрочем, – один из шумов, который классическая музыка пыталась передать. Его имитации можно встретить как у Баха, так и у Дебюсси, а также во вьетнамской музыке. Однако Оливье Мессиан в произведении «Из ущелий к звездам» и Морис Равель в полной партитуре балета «Дафнис и Хлоя» иногда используют театральный шумовой инструмент элиофон, который довольно верно, хотя и стилизованно, воспроизводит шум ветра благодаря трению свернутой ткани. Это прямое подражание порой критиковалось как слишком вульгарный эффект. Имитация шумов, конечно, вполне допускается, но мы хотим, чтобы это была возвышенная имитация. Следует избегать смешения оригинала и копии, то есть должен быть эстетический скачок: копия должна не походить на оригинал, а напоминать о нем.
В «Фантастической симфонии» Берлиоза присутствует множество различных ворчаний, рокота, криков (особенно во «Сне в ночь шабаша»), но они выражают переживания человека, принявшего наркотик, то есть у них есть предлог-рамка. Отсылка к лаю собаки обнаруживается уже во «Временах года» Вивальди, хотя и немногие об этом знают. В партитуре, сопровождаемой реалистическими комментариями, во втором такте «Весны» над загадочным мотивом из двух упорно повторяющихся басовых нот обнаруживается примечание: «Il cane che grida», «лающая собака», с уточнением: «Исполнять очень громко».
Ни у кого, конечно, не создается впечатления, что он на самом деле слышит собачий лай, да и в намерения композитора не входило создать его иллюзию. Речь идет о возвышенной, транспонированной имитации.
3. Диалектика музыки и шума3.1. Музыка – музыкально разграфленный звук
У областей музыки и речи есть точка пересечения, которая обнаруживается, когда они представляются противоположностью мира шумов. Дело в том, что и в том и в другом случае последовательность звуков воспринимается в качестве подчиненной определенной структуре, организации, удерживающей в каждом звуке некоторые «значения», тогда как в качестве шумов воспринимается то, что не позволяет заметить внутреннюю логику.
Вся проблема тогда в том, должен ли звук, чтобы его можно было встроить в музыкальную организацию, следовать определенному внутреннему профилю, что соответствовало представлению не только композиторов-«сериалистов», но и Шеффера, выделившего подходящие объекты (подразумевается, подходящие для музыки), представлению, которое мы приняли в том, что касается языка. И в самом деле, после определенных открытий в лингвистике мы знаем, что для образования языка подходят какие угодно звуки, поскольку язык образует систему дифференциальных оппозиций.
Игра значений в определенном смысле, особенно в области эстетики, одновременно подчеркивает то, что не является частью этих значений, и развивает дифференциальный дискурс.
Иными словами, музыкальное – это то, что позволяет наслаждаться звуком (который сам по себе не включен в игру значений), сохраняя полное спокойствие и ясность восприятия. Источник музыкального наслаждения, особенно когда речь идет о бельканто или красоте инструментов, лишь отчасти зафиксирован в партитуре. Вокальные звуки, которые не доставили бы удовольствия, если бы представали перед нами поочередно, приобретают тогда иной смысл.
Рассмотрим наиболее характерный для западной музыки пример классической гитары. Слушать гитарное исполнение отрывка Фернандо Сора или Эйтора Вила-Лобоса на диске – значит отчетливо (и даже еще четче, если слушающий – музыкант) слышать высоты, ритмы и гармонию, при этом менее четко воспринимая небольшие шумы, в которых, строго говоря, нет ничего музыкального в классическом смысле этого слова и которые даже не относятся к тому, что официально называется тембром гитары: резкие глиссандо, создаваемые перемещением пальцев по струнам вдоль грифа, удары и т. д. Эти феномены не имеют систематической организации, они не предусмотрены партитурой, которая размечает мелодии, аккорды, ритмы, атаки. Восприятие всего этого звукового комплекса в целом не является, однако, смутным, поскольку такие звуковые детали привязаны к «музыкальной» нити: шум цепляется за нить нот, а музыкальное – не что иное, как сама эта нить. Но стоит убрать эти «малые шумы», и музыка потеряет свою выразительность, как, например, показали электронные имитации гитары на синтезаторе.
Тот, кто считает, что, слушая музыку, он слышит только музыкальное, ошибается, если имеет в виду, что все, что он слышит, подчиняется законам музыки. На самом деле он слышит музыкально разграфленное звучание. Под «разграфлением» мы имеем в виду не что-то «закрытое», а просто размеченное сеткой – так размечается сеткой карты та или иная территория.
3.2. Музыкальное выявляет шум
Нам кажется, что любая музыкальная система (по крайней мере, такова наша гипотеза, поскольку нам в основном известна западная и некоторые азы других традиционных музыкальных систем) неизменно предполагает то, что ее обрамляет и что оказывается ей чуждым. Иными словами, она предполагает интеграцию точечных эффектов, уклоняющихся от действия рассматриваемой системы (от ее гаммы, ее ритмических значений, способов интонирования и тембрирования), с целью изображения реального, шума как такового.
В западной музыке «шумовые» эффекты появляются на довольно ранних этапах, с целью подражания, конечно, но не обязательно для напоминания о каком-либо звучании – скорее для передачи движения, цвета и т. д. В то же время музыкальное выделяет шум как событие, момент реального, тогда как шум подчеркивает музыку, как родинка – красоту женщины.
Всякая музыкальная система является на самом деле системой создания «звукового», причем звуковое, в свою очередь, наделяет ценностью музыку.
3.3. Обстоятельственная шумовая часть
Вопреки распространенному мнению, шумовая часть появилась не в современной музыке, она была важна еще в XVII веке, причем она не ограничивается подражательной музыкой. Повторяющиеся ноты или мелизмы в сонатах Скарлатти для клавесина были нужны для того, чтобы передать треск и стрекот. Выдержка низких педальных нот в органных произведениях Иоганна Себастьяна Баха создает впечатление грома и громыхания, которые так и понимаются, но оправдываются и словно бы «извиняются» музыкальным контекстом и инструментальным источником. В эпоху Моцарта тремоло – это не только драматический и колористический эффект, но еще и зернистость. Начало Концерта для фортепиано с оркестром № 20 ре минор, полное гула и прерывистого дыхания, для которых используется быстрый подъем в басовой партии, быстрые пассажи и дрожания синкоп, погружено в своего рода полумузыкальный туман, который лишь спустя некоторое время освещается более чистыми звуками и нотами. А что говорить об оркестровой музыке конца XIX века!
Эту шумовую часть, как мы уже отмечали, скрывает от уха (а также от глаза и ума) классических музыковедов то, что в партитуре эффекты, призванные ее произвести, отмечаются теми же символами, что и собственно «ноты». Но когда композитор пишет самые низкие ноты контрабаса или самые высокие ноты скрипок или флейты-пикколо, когда он проигрывает гаммы с ускорением или же нанизывает одну ноту на другую в узком промежутке высот, создавая таким образом комплексные массы, он добавляет к классическому музыкальному рецепту – нотам, периодическим циклам – свою «шумовую часть».
Одни эффекты создаются специальными техниками исполнения (тремоло, вибрато, фруллато) и даже специальными инструментами (ударными), а также различными сочетаниями особых тембров, а другие достигаются простым применением предельных нот некоторых инструментов в пограничных регистрах слухового восприятия, как в низкой части, так и в высокой, где мы перестаем четко воспринимать особенности высоты – подобно тому, как человеческий глаз после определенного порога освещенности начинает хуже воспринимать цвета.
Короче говоря, традиционная музыка использует перцептивные полутона, благодаря которым на высоком и низком краях регистра звук в смысле ноты вырождается в шум в смысле звука без определенной высоты. Но в то же время она сохраняет ориентацию на сильные музыкальные значения, воспринимаемые именно в таком качестве.
Многие западные меломаны и даже музыковеды, напротив, убеждены в том, что традиционная западная музыка стремится освободиться от шума. В Европе «этномузыкологи», как они себя называют, давно стали приписывать «неевропейской музыке» (то есть категории, созданной, как и категория шума, за счет исключения) особую характеристику, а именно то, что она, в отличие от западной музыки, не цензурировала свою шумовую часть и не боялась обогащать звук шумовыми составляющими. И хотя это верно для некоторых инструментов (таких как африканский инструмент калимба, в котором металлическое кольцо добавляет потрескивание к вибрации настроенной пластины), есть причины усомниться в общей обоснованности подобного описания. В таком случае «шумность» так называемых незападных инструментов, за которую их раньше упрекали на Западе и которую теперь воспринимают как признак живости и естественности, – только эффект перспективы, заданной определенной культурой слушания, то есть того, что эти инструменты нам незнакомы. Такая же важная шумовая часть присутствует в игре западной поперечной флейты (клацанье клапанов), скрипки (призвуки канифоли) и, конечно, классической гитары, однако образованный слушатель привык не слышать их и бессознательно отсеивать, тем более что на некоторых записях эти эффекты намеренно устраняются. Тогда как записи так называемой традиционной музыки часто делаются теми и для тех, кто находит особое очарование в подобных шумах, а потому ищет способы их сохранить и даже подчеркнуть.
3.4. Возвращение к шуму
Рамки данной работы, стремящейся ограничиться самым главным, не позволяют нам подробно показать, как музыка середины XX века желала «уподобится ангелу»6060
Отсылка к фразе Паскаля: «Человек – не ангел и не животное, и несчастье его в том, что чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше превращается в животное». – Примеч. пер.
[Закрыть], сводя звук к чистым физическим данностям. Нам надо также показать, как она «превратилась в животное» в ходе этого предприятия, то есть как, желая абстрагироваться в чисто концептуальном и параметрическом пространстве, постоянно усложняясь, она в итоге сократила промежуток, отделяющий ее от шума.
Собственно, шум в прерывистом (или дискретном, если использовать современные лингвистические термины) универсуме западной музыкальной системы воплощает в себе ускользающую и одновременно соблазнительную часть континуума. Оказавшись в порочном круге, чем больше мы стремились расчленить или дискретизировать музыкальную материю (умножая тонкие нюансы, сокращая интервалы и т. д.), то есть распространить область музыкальности на те зоны, которые ранее были связаны с «окраской» или эмпирикой, тем больше росло чувство непрерывности и в определенном смысле шума.
В XIX веке западная музыка стремилась умножить звуковые эффекты, обогатить и уплотнить аккорды, все больше играть на том, что называют хроматической тотальностью (а именно на двенадцати черных и белых клавишах фортепиано между определенной нотой и ее нижней или верхней октавой), создавая живую и почти непрерывную музыкальную субстанцию, в которой тембр, высоты и обертоны кажутся – по крайней мере слушателю – все менее разделенными и все более слитными. Недовольство у противников этого процесса (или, по крайней мере, у тех, у кого оно вызывает тревогу) связано не с прогрессивным развитием или усложнением, а, наоборот, с возвращением к примитивности. Словно бы здесь возникал некий круг, из которого невозможно выйти, поскольку, умножая нюансы, тонкости и сложности, уточняя промежуточные степени между нотами, мы снова возвращались к континууму, от которого западная музыка, как считается, хотела освободиться.
В своем сатирическом прогнозе «Париж в XX веке» Жюль Верн высмеивает музыку Вагнера, которую он называет «скучной, путаной, неопределенной», усматривая в ней всего лишь усложненный шум. Позднее Андре Жид также будет критиковать Вагнера, пусть и не столь категорично: «Звук, медленно и причудливо высвобождаемый из шума, к нему же и возвращается»6161
Gide A. Journal, 28 février 1928. Paris: Gallimard, 1953.
[Закрыть].
Эти авторы уподобляют шуму не что иное, как движущуюся, расплавленную музыкальную субстанцию, которая, с их точки зрения, не позволяет ясно и четко выделять звуковые формы. Тогда как Вагнер, со своей стороны, возвеличивает и использует это развитие, наоборот, как захват всей музыки «бесконечной мелодией». Поглощение шума музыкой или музыки шумом (шумом в данном случае в смысле непрерывной породы, из которой высекается музыкальная нота, то есть в смысле сырья, что соответствует словоупотреблению, историческую диалектику которого мы критикуем в работе «Конкретная музыка, искусство фиксированных звуков»)? Вот в чем вопрос.
Ощущение Верна, Жида и многих других отчасти объясняется тем, что звуковая материя традиционной музыки отличается от немузыкального звука, то есть звука реальности, намного четче, чем материя живописных произведений – формы, субстанции, цвета – от видимого мира.
3.5. Музыкальность как рамка для звука
Мы можем добавить, что она, возможно, и нуждается в этом намного больше. Нота – запись звука на нотном стане – часто является единственным средством заключения определенного звука в рамку, отделяющую его от остальных. Нет ничего неудобного в том, что текстура живописного произведения искусства походит на растение, стоящее в мастерской художника или в доме владельца картины, поскольку рамка картины заключает в себе ее формы и позволяет им отличаться от реальности. Со звуком ситуация иная, поскольку у него нет звуковой рамки. Таким образом, то, что музыкальный звук соответствует определенной форме, отличной от звуков обыденного мира, организуется вместе с другими звуками согласно весьма точному закону и, что, наверное, самое главное, возникает из источника, опознаваемого в качестве инструмента, роль которого ограничена производством музыкальных звуков, – все это является эквивалентом заключения в рамку, которое позволяет нам признавать его принадлежащим произведению искусства, а не реальности, поскольку в пространственном плане он смешивается со звуками повседневной жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































