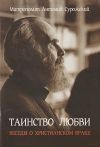Текст книги "Бог: да или нет? Беседы верующего с неверующим"
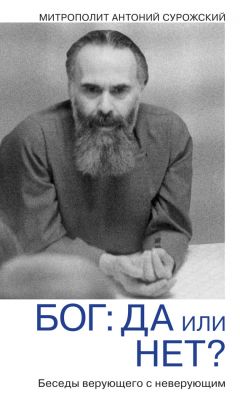
Автор книги: Митрополит Сурожский
Жанр: Зарубежная эзотерическая и религиозная литература, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
V
А. М. Гольдберг. Митрополит Антоний, в прошлый раз в нашей беседе я вам задал вопрос о Божественном вмешательстве в жизнь людей, и в ответ на это вы говорили об этическом вмешательстве, о том, что Бог дает людям силы для борьбы со злом, о том, что Бог дал людям закон, по которому они должны жить, – это я, конечно, понимаю. Но это, по-моему, не исчерпывает сущности вопроса; речь идет также и о другом: о вмешательстве в повседневную жизнь людей. Так, по-моему, понимают Божественное вмешательство очень многие верующие; и тут возникает вопрос о молитве. Слово молитва происходит от слова молить, значит – просить; то же самое и на других языках. Молитва – это просьба: о чем же люди просят? Иногда они просят о том, что, по-моему, ставит их в довольно унизительное положение. В соборе Парижской Богоматери я видел, например, дощечку с надписью «Благодарность Матери Божией за то, что сын выдержал экзамен на аттестат зрелости». Я могу себе представить, что делалось в этой семье до экзамена: не очень преуспевающий сынок и очень волнующаяся мать… Это, конечно, крайний случай; большинство дощечек – с благодарностью за выздоровление какого-нибудь члена семьи; это, конечно, гораздо более благородное чувство. Но и в этом, в сущности, довольно мало логики: почему об этом нужно просить Бога? Почему Бог Сам не думает о том, что тот или иной человек должен выздороветь? Почему умирают некоторые люди преждевременно, в расцвете сил? Видите ли вы в этом Божественную мудрость?
Митр. Антоний. Во-первых, о молитве. Правда, что слово молитва происходит от молить, и у нас это связано с понятием умолять, чего-то добиваться, уговаривать и т. д. Но если говорить о молитве не с точки зрения, так сказать, обывателя, а с точки зрения тех людей, которые в истории человечества могут быть названы молитвенниками, людьми большой, сильной, глубокой молитвы (так же как, скажем, если мы хотим определить литературу, мы говорим не о третьестепенных писателях, а о больших, так же и в музыке, в искусстве или в науке), то можно было бы сказать, что первое, самое значительное в молитве для человека молящегося – это вовсе не то, чтобы от Бога чего-то добиться. Первое и основное это то отношение взаимной любви, взаимного уважения, которое человек находит в молитве или путем молитвы. Это мне кажется самым основанием…
А. М. Гольдберг. Взаимное уважение – простите, что перебиваю: что вы под этим подразумеваете?
Митр. Антоний. Я подразумеваю вот что: что Бога, Которого ты презираешь, ты ни о чем просить не будешь, так же как не будешь просить ни о чем человека, которого не уважаешь. Поэтому со стороны человека должно быть отношение не раболепное и не расчетливое, а достойное его человеческого звания. А со стороны Бога отношение – опять-таки в категориях того, что мы в прошлый раз говорили: Бога, Который нас создал свободными, Который требует от нас, чтобы мы были настоящими людьми, а не пресмыкающимися какими-то рабами или наемниками, живущими за подачку. Бог тоже к нам относится с уважением, принимая в учет человеческое достоинство. И вот между Богом, Которого человек уважает, и человеком, к которому Бог относится как к ценности, можно сказать, как к равному, могут установиться отношения не попрошайничества, не раболепства, а основанные на каком-то общении, которое мы называем молитвой. Есть очень замечательное место у Блаженного Августина[3]3
Блаженный Августин (354–430) – епископ Иппонский (Северная Африка), учитель Церкви, виднейший богослов и писатель христианского Запада.
[Закрыть], где он говорит: пока ты обращаешься к Богу, потому что Он тебе нужен, не воображай, что ты Его любишь; ты можешь сказать о Боге, что ты Его любишь, в тот момент, когда Он тебе не нужен с точки зрения именно подачки, прошения и т. д., а просто существует как ценность, как радость, как красота; и вот здесь настоящая молитва.
А. М. Гольдберг. То есть общение с Богом, откровенный разговор с Богом или, если хотите, с самим собой, с совестью…
Митр. Антоний. Нет, не хочу!
А. М. Гольдберг. Не хотите?
Митр. Антоний. Нет! Откровенный разговор с Богом – да, который проходит как бы через меня, разумеется, через мое сознание, мои чувства, мою совесть, но который обращен к Богу, а не просто монолог с собой, когда я предполагаю, что Бог где-то такое и есть, но я с собой поговорю, а Он будет подслушивать.
А. М. Гольдберг. Нет, нет, я имею в виду не монолог, а диалог с самим собой в этическом плане, диалог со своей совестью.
Митр. Антоний. То есть, значит, совесть для вас в данном смысле как бы равносильна Богу?
А. М. Гольдберг. Совершенно верно; между прочим, именно так понимает Бога большинство неверующих, которые не являются воинствующими атеистами, а пытаются понять, почему религия существует, почему люди верят в Бога, почему это необходимо, почему религия играет огромную роль как морально-этический фактор. Но читали ли вы когда-нибудь книгу итальянского писателя об итальянском священнике Дон Камилло[4]4
Персонаж нескольких циклов рассказов итальянского писателя Дж. Гуарески (1908–1968). Совсем недавно вышел русский перевод этой книги: Гуарески Дж. Малый мир Дон Камилло. М.: Центр книги Рудомино, 2012.
[Закрыть] (М.А.: Читал.), который время от времени разговаривает с Христом, – он разговаривает с самим собой, но разговаривает откровенно, он разговаривает со своей совестью, и это, по-моему, должно соответствовать вашим понятиям? Это вовсе не значит, что человек разговаривает с самим собой, а Бог где-то подслушивает!
Митр. Антоний. Да; если так понимать – да; в какой-то мере я с вами согласен, что это диалог со своей совестью; иначе сказать, стояние перед предельной правдой, на которую ты способен, и сличение себя с этой правдой, прислушивание к правде, которая внутри тебя звучит, есть в какой-то мере отзвук Божьего голоса; в этой правде, заложенной в нас, звучит Божия правда. Но я думаю, что, когда человек молится (скажем, святые или просто даже самые обыкновенные люди в некоторые моменты жизни), он идет куда-то глубже, чем своя совесть, потому что речь идет не всегда о каком-нибудь нравственном суждении, не всегда о том, чтобы поступить так или иначе, не в плане делания, а в плане самого бытия. И где-то совершается встреча; и в этом процессе молитва не всегда является самой встречей, но – исканием этой встречи.
А. М. Гольдберг. Как священнослужитель считаете ли вы, что верующие вправе обращаться к Богу за помощью в повседневных делах? Оставим экзамен на аттестат зрелости в стороне; но считаете ли вы, что верующие вправе обращаться к Богу с просьбой о выздоровлении одного из близких?
Митр. Антоний. Я думаю, что да; и думаю так по двум причинам. Во-первых, потому, что если наш Бог не какой-то «потусторонний» Бог, Бог заоблачный, Бог, до Которого не докричишься, а Живой, близкий Бог, почему с Ним не говорить с такой же простотой и прямотой, с какой ты бы говорил с близким человеком, самым близким, самым понятливым, самым чутким. А с другой стороны, мне кажется, что раньше чем дойти до момента, когда можно ни о чем Бога не просить, а просто радоваться о Боге, надо пройти через какой-то период, когда у тебя хватит веры Ему сказать: «Ты можешь помочь – помоги, потому что то, чего я ищу, это Твоя правда; то, к чему я стремлюсь, то, чего я желаю, укладывается в пределы Твоих путей и Твоего закона».
А.М. Гольдберг. То есть выздоровление одного из близких укладывается в рамки этого закона?
Митр. Антоний. Я не вижу, почему бы не укладывалось…
А. М. Гольдберг. Я понимаю, я понимаю; я только хочу уточнить, это ли вы имеете в виду.
Митр. Антоний. Я это имею в виду; разумеется, при условии, что – и это мне кажется очень важным – человек понимает, что если он жизнь или здоровье вновь получит от Бога, то он должен ими пользоваться по-новому, уже не так, как, может быть, раньше пользовался, отчасти себялюбиво, эгоистично, отчасти небрежно, но что если он получит их теперь как дар, то он должен с ними обращаться, как человек обращается с драгоценным вкладом, за который он ответствен.
А. М. Гольдберг. Вы, по-моему, не совсем последовательны, митрополит Антоний. Вы только что сказали, что этот период молитвы, когда люди просят Бога, является переходным периодом. Иными словами, что через этот период нужно пройти до того, как человек станет способен радоваться Богу – так я вас понял?
Митр. Антоний. Да.
А. М. Гольдберг. Если это только переходный период, то, вероятно, лучше, чтобы его не было вообще? Это какая-то печальная необходимость – так ли это?
Митр. Антоний. Нет, не совсем так; например, быть зрелым мужчиной лучше, чем быть мальчишкой. Но сказать от этого, что юность является несчастием жизни и что лучше было бы родиться сорокалетним человеком, едва ли можно.
А. М. Гольдберг. Родиться сорокалетним человеком было бы, конечно, очень печально, с этим я согласен; нужно проделать целый ряд глупостей. Но я вас хочу спросить: идет ли речь о глупости?
Митр. Антоний. Нет, речь не идет о глупости, а о зрелости. Речь идет о том, что приходит момент, когда ты настолько знаешь Бога, настолько в Нем уверился, что можешь сказать: я не буду ни о чем просить, потому что я просто готов доверчиво отдать себя в Его руки и делать Его дело – а за остальным Он может Сам посмотреть; остальное неважно. Буду просить силы, буду просить мужества, буду просить разума, буду просить всего, что нужно для того, чтобы в этой жизни, в которой я живу, быть человеком в полном, самом глубоком смысле слова. И может быть, даже и этого не просить, а просто жить в уверенности, что Бог даст, и только общаться с Ним на той глубине, которая называется действительно общением.
А. М. Гольдберг. Хорошо; а потом вы сами сказали, что если Бог смилостивится и даст человеку то, о чем он просит, то это уже при условии, что человек будет пользоваться этим по-иному, будет пользоваться этим лучше. Здесь опять-таки возникает вопрос о награде и испытании, обо всем том, чем люди попытались объяснить хаос, который творится на земле; получается так, что можно просить, просить нужно, потому что при известных условиях Бог это может дать. Это, по-моему, не совсем вяжется с той зрелой установкой, о которой вы только что говорили. Но я хочу в заключение задать вам очень простой вопрос: вмешивается ли Бог в жизнь людей, когда речь идет о повседневных делах? Принимает ли Он определенные решения в результате той или иной молитвы?
Митр. Антоний. Можно, я сначала придерусь к одному вашему выражению: вы сказали «при условии»…
А. М. Гольдберг. Это вы сказали!
Митр. Антоний. Я сказал? Простите! Я не хотел сказать, что Бог даст или не даст при условии, я не так выразился; я хотел сказать, что, если человек просит и получает, он уже обязан по-иному относиться к полученному, Бог может и дать – от щедрости. Но человек не имеет права просто взять и унести в лес. Теперь что касается до вмешательства в повседневную жизнь; да, я уверен, что Бог вмешивается! – хотя мне не нравится это выражение, потому что слово вмешательство всегда в себе содержит какой-то оттенок или насилия, или непрошеного чего-то. Бог соучаствует, живет с нами. Он есть жизненная сила нашей жизни.
А. М. Гольдберг. Я понимаю, что Он – жизненная сила; но принимает ли Он определенные решения в конкретных случаях в результате той или иной молитвы?
Митр. Антоний. Я думаю, что да! Не обязательно; но я думаю, что видел случаи, когда на молитву был такой поразительный, поражающий ответ, что я не могу поверить, что случившееся не имело никакой связи с молитвой.
А. М. Гольдберг. Почему же тогда Бог принимает такие решения только в отдельных случаях?
Митр. Антоний. Вот на это я вам ответить не могу – просто не знаю; и вот тут действительно для верующего вопрос в его доверии к Богу – не принципиальном, а личном. Человек может довериться Богу либо вообще, просто говоря, что Бог все равно будет прав и всегда бывает прав, и поэтому спорить с этим не надо. Но может быть другое доверие: зная Бога в какой-то мере внутри своего опыта, мы, даже когда случается непонятное, можем сказать: «Я Его знаю, я могу Ему довериться до конца, хоть и не понимаю».
А. М. Гольдберг. Большое спасибо, митрополит Антоний.
VI
А. М. Гольдберг. Митрополит Антоний, в нашей сегодняшней, последней, беседе я хотел бы задать вопрос: чего вы ожидаете от верующих?
Митр. Антоний. От верующих? Я думаю, первым делом я ожидаю веры. Звучит оно, конечно, нелепо. Но…
А. М. Гольдберг. Почему? Вы – митрополит; совершенно ясно, что вы ожидаете от верующих веры.
Митр. Антоний. Да, но это звучит слишком очевидно. Я этим хочу сказать, что от верующего я ожидаю, с одной стороны, доверчивости к Богу, к жизни; не глупой доверчивости, но и не испуганного отношения, а отношения человека, который с доверием мужественным, умным, опытным идет в жизнь; и, с другой стороны, ожидаю уверенности в содержании его веры. А из этого следует – и это не менее важно, – что он жить должен так, чтобы ясно было, что он верит и во что он верит; соответствие жизни с верой абсолютно необходимо, иначе это пустая болтовня.
А. М. Гольдберг. Другими словами, он должен руководствоваться этическими принципами христианства или какого-нибудь другого вероисповедания.
Митр. Антоний. Должен, да.
А. М. Гольдберг. Так, это я понимаю.
Митр. Антоний. Иначе обессмысливается то, что он говорит о вере.
А. М. Гольдберг. А относится ли к этическим принципам, которыми он должен руководствоваться, терпимость по отношению к инакомыслящим, по отношению к людям других вероисповеданий, по отношению к неверующим?
Митр. Антоний. Я глубоко убежден, что терпимость – одно из свойств, которые должны были бы отличать верующих. Вы мне на это скажете, что это встречается редко (так же как встречается редко хороший писатель или хороший человек); но, в сущности, терпимость – абсолютно необходимое свойство верующего. Нетерпимость происходит от того, что человек не уверен в себе.
А. М. Гольдберг. Но если взглянуть на историю Церкви, то создается весьма определенное впечатление, что именно этот принцип, мягко выражаясь, не внедрялся Церковью систематически; создается даже гораздо более неблагоприятное впечатление, что Церковь выступала против терпимости, что Церковь насаждала нетерпимость.
Митр. Антоний. Мне кажется, что тут два момента. Если человек глубоко, всей душой, всей силой жизни убежден в правде, в истине того или иного представления о жизни или понятия, совершенно естественно, чтобы он о нем говорил, чтобы он его проповедовал, чтобы он хотел им поделиться. Это относится не только к религии, но ко всем областям жизни; когда мы прочли какую-нибудь книгу, которая нас увлекает, слышали музыку, которая для нас очень значительна, мы всех стараемся приобщить к своему опыту; и в этом отношении терпимость может продолжать существовать, но ее нельзя путать с теплохладностью или с безразличием. И есть другая терпимость – или нетерпимость, – которая происходит, как я сказал минуту назад, оттого, что человек неуверен в силе, в убедительной силе того, во что он верит, и хочет внедрять это искусственным образом. И это – преступление; человек, который хочет насильственно внедрить в другого какую бы то ни было идеологию, какие бы то ни было убеждения, какую бы то ни было веру, – это человек, который не верит в конечном итоге в убедительность той истины, о которой он говорит. Всякое насилие говорит о слабости человеческого убеждения или о том, что человек не верит в другого человека, думая, что нельзя и ждать от него, чтобы он отозвался на истину или на правду, а что надо его к этому принудить; это преступление религиозное.
А. М. Гольдберг. Я совершенно согласен с вами в том отношении, что самыми нетерпимыми деятелями Церкви были люди, которые испытывали сомнения и которые хотели убедить не только других, но и самих себя. Но взглянем на это иначе. Существует Церковь. Церковь ответственна за то, чтобы помогать людям верить, чтобы помогать людям жить так, как предписывает им вера; и Церковь не проявляла должной терпимости. Почему?
Митр. Антоний. Я думаю, по двум причинам. С одной стороны, по причине, которую я уже указал: недостаточно спокойной, победоносной уверенности, что истина за себя постоит; что не нам защищать Бога; что не нам защищать истину; что в человеке есть способность отозваться на истину без того, чтобы его к этому принуждали. И с другой стороны, потому что общество верующих – и это относится не только к православным, это относится ко всем верующим христианам и не христианам…
А. М. Гольдберг. Совершенно верно; я не знаю, что вы скажете, но вы совершенно правы: у всех Церквей, у всех религий есть в данном отношении что-то общее, есть этот момент…
Митр. Антоний. Мне кажется, что это происходит от того, что между каждой общиной и тем обществом, в котором она находится, в частности государством, в котором она живет и действует, образуется связь, которая всегда пагубна для верующего общества, которая всегда ограничивает его, которая всегда сводит с пути и которая всегда подменяет высокие принципы веры, любви, надежды, преданности, жертвенности и т. п. чем-то другим, скажем, русификацией (если говорить о Русской Церкви до революции в таких областях, как Прибалтийский край, Польша), или использованием религиозного момента для светских и, я бы сказал, часто противорелигиозных целей.
А. М. Гольдберг. Во всяком случае, для политических целей, это я понимаю. Но это все-таки не исчерпывает вопроса; и вы, по-моему, упомянули о главной причине нетерпимости, сами того не сознавая. Вы упомянули об истине; вы сказали, что человек сам дойдет до истины; другими словами, каждая Церковь, каждая религия уверена, что у нее вся истина, вся абсолютная истина, – ив этом заключается причина нетерпимости. Тоталитарные государства по своему характеру нетерпимы – почему? Потому что они убеждены, что у них вся истина, абсолютно вся, что те, кто с ними не согласен, заблуждаются. И вот то же самое думает и Церковь. Что получается на практике? Церковь убеждает верующих, что у них вся истина, и неминуемый результат этого заключается в том, что верующий – поскольку у него вся истина, поскольку он приобщился истине – начинает считать себя лучшим человеком, чем неверующий или тот, который исповедует какую-то другую веру.
Митр. Антоний. Я думаю, что вы правы в этом отношении, и на это я мог бы сказать несколько вещей – не в защиту верующих, а в защиту принципа терпимости по отношению к истине. Прежде всего, одна из самых, может быть, потрясающих особенностей христианской веры в том, что Евангелие определяет истину не в порядке чего-то, а Кого-то; Христос говорит: Я – Истина (Ин. 14:6). И этим Он совершенно уничтожает для нас возможность считать, будто что бы то ни было, что можно выразить словами или образами, может называться конечной или полной истиной, ибо полная истина – личная, никогда не вещественна. И в этом отношении когда мы, православные люди, говорим, что у нас вся истина, мы говорим какую-то неправду в конечном итоге. Христос – Истина; Бог – Истина; то, что о Нем можно сказать, – приближение к Истине: может быть, хорошее, может быть – относительное. Теперь второе: мы должны были бы учить – себя самих, во-первых, но также и других – тому, что если ты такой счастливый, что у тебя есть больше понимания, чем у другого, если у тебя больше истины, чем у другого, то ты просто богатый человек, который должен делиться своим богатством, а не человек, который имеет право этой истиной бить других, – это опять-таки безбожный поступок, безнравственный поступок.
А. М. Гольдберг. Конечно, это безнравственный поступок, и я и не ожидал, что вы скажете что-либо иное. Но дело в чем: Христос говорит: Я – Истина. Какой же вывод делает из этого христианин? Он говорит: «Я христианин, поэтому я – истина, поэтому мне известна истина; раз она мне известна, значит, я лучше других…» Разумеется, если он хороший человек, если он нравственный человек, он не станет этой истиной бить других; но ведь Церковь знает, что существует огромное число людей, которым нравственность дается нелегко и которые будут бить этой истиной. Кроме того, я не понимаю одного: какое право вы имеете считать себя богаче других? Какое право вы имеете жалеть других? Я вовсе не хочу, чтобы вы меня жалели!!! Вы – священнослужитель, а я – неверующий человек; я вовсе не считаю себя «беднее», – почему же вы меня жалеете?! Это до некоторой степени оскорбительно!
Митр. Антоний. Я с вами абсолютно согласен, но скажем так: Анатолий Максимович, я вас абсолютно не жалею, я бы сказал даже, что я кое в чем вам завидую: вы гораздо умнее меня, вы образованнее меня, и в хорошем смысле я могу вам завидовать в этом; но я вас, простите, очень люблю; и если у меня есть в душе что-то, что меня радует, вдохновляет, я был бы очень счастлив с вами этим поделиться – не потому, что это мое, или не потому, что я лучше, а потому, что вы со мной делитесь своим опытом, знанием, умом, – хотел бы и я поделиться вот этой искоркой, которая для меня есть радость и жизнь. Вот в этом смысле и у вас, и у меня есть естественное желание этого общения.
А. М. Гольдберг. Конечно! Но это диалог, это вовсе другое дело, это, по-моему, то, чего нам нужно добиваться!
Митр. Антоний. И должно добиваться, и это постепенно нарастает. Мне сейчас вспоминается: когда Русская Церковь была принята во Всемирный Совет Церквей, нас попросили сказать слово по этому случаю. И один из епископов Русской Церкви встал и сказал очень короткое, живое слово, где между прочим выразил такую мысль: «Православная Церковь сохранила, как нам кажется, в неприкосновенности залог веры Древней Церкви. Может быть, мы не развили его, может быть, он в наших руках оставался, как сокровище, которое не использовано; но, – говорил он, – это сокровище не нам принадлежит, а всем, кто здесь собран. Мы вам со своей стороны приносим то, что у нас есть; возьмите его, оно – ваше, и принесите те плоды, которых мы по своей косности не сумели принести…» И мне кажется, что каждый человек по отношению к другому может так поступить. У вас одно, у меня другое, у кого-то еще – третье; если мы, с верой друг во друга, с верой в то, что каждый из нас способен вырасти в еще большую меру через общение, делясь с другим, будем друг ко другу подходить, тогда, действительно, мы будем обогащать друг друга, тогда вопрос о терпимости не встает. Речь не идет о том, чтобы вы меня переубедили или я вас, а речь идет о том, что и в вас, и во мне есть что-то, что нам очень дорого, – и нам радостно друг со другом поделиться. Если бы только люди могли так думать – и верующие и неверующие! – потому что в конечном итоге как вы говорили, тоталитарное государство и тоталитарная Церковь одинаково безнравственно относятся к этой теме истины, которая никому в частности не принадлежит, а всем принадлежит.
А. М. Гольдберг. Значит, как священнослужитель вы будете всячески способствовать внедрению терпимости до тех пор, пока этот вопрос не исчезнет вообще, – так ли я вас понял?
Митр. Антоний. Сколько могу – да, и сколько у меня самого хватит терпимости, потому что я, конечно, тоже заражен, ну хотя бы страстностью: я страстно переживаю свои убеждения, и поэтому мне приходится быть очень осторожным, чтобы не кидаться, как дикий зверь, на других людей!
А. М. Гольдберг. Большое вам спасибо, митрополит Антоний!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.