Текст книги "Интервью с дураками"
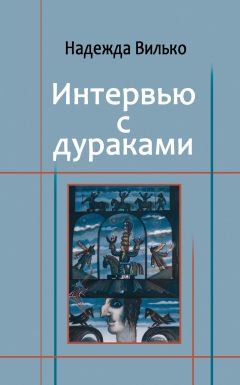
Автор книги: Надежда Вилько
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
IV. Стекло
Аэродром так и не расширили, дом старого Леонардо благополучно стоял на прежнем месте. Была поздняя осень, и высохшие стебли разросшегося за годы плюща гигантской паутиной свисали с заколоченных окон. Внутри было темно, сыро и холодно. Я бродил по комнатам с фонарем, узнавая старую мебель: диван в моей бывшей спальне, стол в гостиной… В мастерской я нашел на полке среди инструментов синюю стеклянную пешку из шахматного набора, который Леонардо однажды отлил мне в подарок на Рождество – мне было тогда, кажется, семь или восемь… Помню, он объяснил мне правила игры и обыграл три раза подряд. Разозлившись, – старый Леонардо почему-то заставлял меня злиться как никто другой, – я раздобыл где-то сборник знаменитых шахматных матчей и всю ночь не спал, изучая тактику и стратегию чемпионов. На следующий день я разбил старого Леонардо в пух и прах, разыграв сначала простую атаку пешками, потом атаку «непобедимым конем», потом гамбит Мора и, наконец, королевский гамбит. После этого я потерял всякий интерес к игре, но не к фигуркам, отлитым из серебристо-белого и темно-синего стекла. Устроившись на полу мастерской, я разыгрывал с ними экспедиции к центру земли, войны ацтеков с испанцами и пьесы Карло Гоцци, от которых Леонардо умирал со смеху.
– Твой интеллект еще наплачется с твоим воображением, – пророчил он.
Я нанял рабочих, чтобы побыстрее привести в порядок необходимую мне для занятий часть дома, подкупил новые инструменты, заказал нужные материалы и уже через две недели владел недурно оборудованной стеклодувной мастерской.
Превосходство римского стекла над стеклом позднейшего франкского периода было разительным. Я с увлечением разбирал старинные латинские тексты и выдувал квадратные и цилиндрические сосуды с шероховатой, похожей на картон поверхностью. Я не пользовался римскими рецептами окраски стекла, а создавал цвета сам, яркие как витражи, но не поверхностные, а «присущие» материалу. Работал я и с приглушенными цветами: например, разными добавками к окиси меди мне удалось добиться опаловой переливчатости сине-серых тонов. Мне не нравилось красить стекло, и даже великолепные витражи Кентерберийского Собора оставляли меня равнодушным. Зато мозаичные окна более раннего периода, от которых отказались, поскольку они, увы, пропускали ветер и дождь, пленяли мое воображение. Я разработал очень простую методику склеивания частей мозаичного витража. И эту методику, и мой рецепт «золотого» стекла купила Бостонская химическая фабрика, а потом и еще кто-то. Приятели дразнили меня, говорили, что всё, к чему я прикасаюсь, обращается в золото. И я смеялся, хотя у оригинальной истории был, кажется, печальный конец.
– Почему ты не приведешь в порядок весь дом? – как-то в конце февраля спросил заехавший в гости Оскар. – За окном день, а у тебя в столовой темно, как в погребе. Ты бы хоть доски с окон убрал!
Я увлеченно работал над барельефом кельтской Богини-Матери, танцующей с бабочками. Я перепробовал прессовку, гравировку, шлифовку и даже так нелюбимую мною поверхностную окраску квасцами, но результаты не удовлетворяли меня. Рельеф стекла оставался плоским, безжизненным и тусклым. Может быть, следовало работать на меньшей площади и большем объеме? Углубить латунную форму так, чтобы стекло застывало медленнее и не так смешивались границы? К тому же и цвета тогда получатся ярче…
Танцующая Богиня предназначалась в подарок Сабине, которую я ждал к маю. Времени оставалось не так много, и потому мне было не до обустройства жилых помещений. Но, поразмыслив, я решил, что ей непременно захочется увидеть дом старого Леонардо.
– Похоже, он для тебя то же, что для меня моя венецианская бабушка, – заметила она во время очередного нашего телефонного разговора.
Когда позволяла связь, мы говорили с ней часами. Трудно было сообразить потом, о чем мы так долго говорили. Правда, я уже многое знал и о La Fenice, и о том, как легко заблудиться в Венеции, и даже об отличии балета от escuela bolera[13]13
Школа болеро (исп.) – школа классического испанского танца.
[Закрыть], нового, внезапного увлечения Сабины.
– Труднее всего изменить привычный ритм прыжка, – объясняла она. – В балете акцент означает – вверх, а тут всё наоборот: вниз, прыжок окончен. А прыжка еще не было: ты упустила время, стоишь, дергаешься вверх-вниз, как мартышка на ниточке, а взлететь без привычного сигнала не можешь. Отвратительное ощущение беспомощности!
И, конечно, я рассказывал ей о стекле.
– Я всегда знала, что ты любишь стекло, – признавалась она. – Я замечала твою… даже не привычку – особенность глядеть не за окно, а на окно, не в витрину, а на витрину. И вино ты пил, по-моему, исключительно для того, чтобы полюбоваться игрой света в бокале. Мне иногда казалось, что если оставить тебя в покое, ты так и будешь сидеть до Судного дня, глядя на разноцветные блики на дне бокала.
Часто мы просто молчали.
– О чем ты думаешь? – прерывала молчание она.
– О тебе, – отвечал я.
Тогда оба мы смеялись и оба знали, что смеемся одному и тому же – обманчивой простоте слов.
К концу марта с окон наконец сняли доски. Было немного жаль обрывать уже зазеленевший дикий плющ.
Пока рабочие мыли стекла, я приводил в порядок спальню в мансарде: расставил там кое-какую перевезенную из квартиры мебель, повесил новые шторы.
Спустился я ближе к полудню, когда рабочие уже ушли, и, проходя мимо приоткрытой в маленькую столовую двери, заметил, что там совсем темно. Решив, что доски с западного окна по какой-то причине забыли снять, я шагнул в комнату. Это была любимая комната старого Леонардо, та самая, в которой он свидетельствовал закат в последний вечер своей жизни. Кресло его всё так же стояло у окна. Но полумрак в комнате объяснялся тем, что само стекло оказалось каким-то темным, словно покрытым копотью. Я провел пальцем по его поверхности, убедился в том, что оно совершенно чистое, и распахнул окно – проверить, как оно выглядит снаружи. Холодный, по-весеннему будоражащий воздух и ясный дневной свет наполнили маленькую комнату. Жемчужно-голубое небо, бледное у горизонта, почти сливалось со светло-серой, спокойной водой океана, и я засмотрелся на эту знакомую с детства картину, позабыв на секунду, зачем открыл окно.
Окно, между тем, было очень странным. Стекла, несомненно ручной работы, оказались гораздо толще обычных, и цвет их не был однороден. Внизу – опалово-серый, подобный греческой копоти, но гораздо легче и прозрачнее; чуть выше он плавно переходил в более темный с оттенком синевы, затем, еще выше, в приглушенный кобальт, сгущавшийся почти до черноты на самом верху. В довершение всего в стекле можно было разглядеть мельчайшие темные вкрапления разной густоты. Я долго ломал голову над странной фантазией Леонардо, но только основательно продрог, ничего не придумал и, закрыв в конце концов окно, отправился на кухню заваривать чай.
В тот день, продолжая размышлять о загадочном стекле, я закончил работу в мастерской рано. Меня почему-то неудержимо тянуло снова взглянуть на окно. Захватив с собой бокал бренди, я спустился вниз. Немного досадуя на себя, – драгоценные часы дневного света еще не истекли, – я переступил порог темной комнаты и замер, боясь шевельнуться и не веря своим глазам. С оглушительным звоном разлетелся выскользнувший из руки бокал. Но если бы в этот момент весь мир со звоном разлетелся у моих ног, я не смог бы оторвать взгляда от волшебного окна…
Подарок Леонардо не был похож на изощренную фантазию моего сна: я не скользил по стеклянному морю и узорчатая луна не скользила навстречу мне. Всё было несоизмеримо проще и, несмотря на сказочную гротескность красок, несоизмеримо вернее. Темно-синее ночное небо окружало огромную, как в детстве, голубую с зеленоватым отливом луну. В ореоле ее света блестели легкие облака, и сверкающая лунная дорога медленно сходила на нет где-то между горизонтом и тем местом, где начинался – или кончался? – океан. И этот закат я доглядел до конца, до того момента, как огромная круглая луна утонула за горизонтом, неторопливо и величественно погрузившись в воду.
Когда синее, горящее страстным огнем ночи окно погасло, я ощупью добрался до леонардова кресла и зажег свечу. И пока свеча горела, мне всё виделась среди отразившихся в стекле предметов – не знаю, наяву или во сне, – странная, чарующая и высокомерная улыбка старого Леонардо.
Оскар очень долго молчал, опустив глаза и улыбаясь. Мы сидели в ресторане Пино Карлуччи, в который я зачастил по вечерам после того, как почти переселился в дом на пустыре.
– История замечательная, – сказал он, выведя меня из задумчивости. Я размышлял о подсветке к законченному наконец барельефу танцующей Богини. Я поднял глаза. – Можно поворачивать ее и так и этак, как ты свой бокал, и углядеть в ней множество граней, кроме той, на которой, как мне кажется, более всего заострено твое внимание.
Я вздохнул:
– Опять ты начинаешь издалека. Нельзя ли попроще?
– Можно, – с готовностью отозвался Оскар. – Всё это прекрасно: и судьба, и подарок, и Леонардо, и доски с плющом, и окно, и кобальт! Но не кажется ли тебе, что лунного заката ты все-таки не видел? Не правильнее ли будет назвать то, что ты видел, прекрасной… иллюзией?
– Если бы ты знал, – сказал я, глядя в его невинно улыбающееся лицо, – как однообразны твои журналистские приемчики! Скажи прямо, что ты хочешь от меня услышать?
– Апологию творчеству, – внезапно посерьезнев, ответил он. – Момент, по-моему, самый подходящий. – И добавил, опять улыбнувшись: – Причем мне нравится даже твой стиль.
– Какой стиль?
– Твой выбор слов, очевидно, обусловлен особенностями твоей памяти: в нем часто присутствует эдакая патетика… литературного штампа.
Я пожал плечами:
– Ты назвал лунный закат Леонардо «иллюзией» только потому, что он создан руками человека.
– Разумеется.
– М-да… бедный человек, – улыбнулся я. – Давай уж хоть мы с тобой будем к нему справедливы. Впрочем, наша справедливость тут не в счет. Насколько легче жилось бы человеку в мире, если бы его представление о справедливости меньше отличалось от представления о справедливости Создателя этого мира. Но оно непримиримо отлично, да и как может быть иначе: человек смертен. И живет он в мире, где утраты необратимы, природа неукротима и судьба неумолима, где столько скорби и бессмыслицы, что порой всё существо его кричит от боли, требуя гармонии и справедливости. И вот тогда художник берет в руки кисть, музыкант – инструмент, поэт – что там берут поэты… а стеклодув – песок. Берет, может быть, потому, что это единственный способ высказать и смягчить боль. И всё, что для этого нужно, он вдруг находит под рукой: краски, голос, струну, бумагу, талант, дневной свет… потому что в мире есть всё. И он вдруг замечает, что мир жестких фактов превращается для него просто в мир, в котором есть всё. На минуту взгляд его охватывает это всё, почти как взгляд Создателя, и ничему из этого всего не может отдать предпочтения. И в эту минуту его рука, голос, дыхание, жест – это почти рука, голос, дыхание и жест Создателя. Тогда наступает странное перемирие с Творцом – перемирие, которое, конечно, закончится, но о котором останется память. – Я помолчал. – Художника можно уничтожить, унизить, раздавить, но оттого что в нем живет эта память, его почти невозможно… смутить. Так что не морочь мне голову, лунный закат я все-таки видел, – добавил я, спускаясь со стилистических высот. – Более того, это был мой и более ничей лунный закат. Понимаешь ли ты?..
Тут я бросил взгляд на Оскара и осекся: глаза его поблескивали иронично и доброжелательно, в моих разъяснениях он не нуждался.
– О-ха-ха! – сказал я. – Поддел-таки меня на свой журналистский крючок.
– О-ха-ха, поддел-таки, – самодовольно усмехнулся он. – Итак, давай подытожим, – он поднял руку и принялся по мере перечисления загибать пальцы. – Творчество проистекает из несогласия с Творцом в вопросе справедливости. Творческий процесс есть перемирие с Творцом по причине временного признания за Его справедливостью права на существование. Это признание вытекает из понимания того, что в мире есть всё и что ничему не отдается предпочтение. Результатом творческого процесса является почти божественный продукт творчества и память о перемирии с Творцом. Так? – поскольку все пальцы, кроме большого, на его руке были загнуты, он поднес к моему носу нечто, напоминавшее одновременно и кулак, и кукиш.
– Да уж, – сказал я, отводя эту конструкцию от своего лица. – И меня обвиняют в использовании литературных штампов! Уж лучше литературная патетика, чем канцелярщина, да еще вкупе с невежливыми жестами!
– Из Его руки, в Его руке, Его рука… – не слушая, бормотал Оскар, глядя на свою раскрытую ладонь. – Алекс, – вдруг обратился он ко мне, – может быть, пойдем? Я хотел бы взглянуть на барельеф Богини-Матери, если не возражаешь. Ты ведь собираешься ее кому-то дарить?
– Собираюсь, – ответил я. – Да не кому-то, а другой Богине, танцующей с бабочками в Венеции.
– …и услышавшей-таки твои молитвы, – подхватил Оскар.
– Аминь, – улыбнулся я. – Мы решили жить вместе, вот только пока не соображаем где. Но это не проблема: в отличие от меня Сабина очень практична, пусть она и выбирает.
– Гм… а ты не боишься, что практичный человек, удовлетворяя свои практические нужды, не всегда берет в расчет практические нужды ближнего?
– Тогда это называется не «практичный», а «эгоистичный», – возразил я и добавил: – Не беспокойся, Сабине можно довериться, потому что она и в самом деле Богиня.
Оскар скептически приподнял одну бровь.
Я улыбнулся:
– Когда она танцует, ей подчиняется мир.
– Ну, а потом? – посмеиваясь, спросил он.
– А потом… – я пожал плечами, – ей остается только не выпускать мир из своих прелестных ручек и не позволять ему никаких выкрутасов.
Пока Оскар смеялся, я вспомнил то, о чем хотел и не успел рассказать ему.
– Знаешь, так странно… когда я сидел в кресле и глядел на погасшее окно, готов поклясться, что видел в нем лицо Леонардо. Во всяком случае, я узнал его улыбку. У Леонардо была особая улыбка, чарующая и высокомерная, как у Луиджи Торлини. Что ты на это скажешь?
– На это, – поднимаясь со стула, ответил мой друг, – я скажу то же, что скажет тебе твоя практичная Богиня: мой дорогой, ты видел свое отражение в стекле.
«Счастливая» сумка Оскара
Все сто́ящие знакомства моей жизни были уличными. К таковым относилось и знакомство с Алексом Грацини, который сидел напротив меня, сосредоточенно рассматривая пустой бокал.
– Ну, что мы будем заказывать? – спросил я, убедившись, что мой приятель не намерен прерывать своего созерцания ради пошлого чтения меню.
– Можно заказать телятину, – отозвался он, – здесь ее отлично готовят.
– Что ты там ищешь в своем пустом бокале? – поинтересовался я.
– Синий цвет, – ответил Алекс. – Знаешь, почему мне нравится приходить сюда? Из-за этих цветных неоновых ламп. – Говоря это, он обвел пальцем синее пятно отраженного света на своем пустом бокале. – Я никогда не видел стекла такого поразительно интенсивного синего цвета. А если налить красного вина, – и он протянул мне бокал, – то он становится еще глубже и бархатистее. Только наливать следует не более трети бокала, иначе всё тонет в темно-фиолетовом. Зеленый, впрочем, тоже хорош; я имею в виду вот этот, светло-изумрудный.
Я наполнил его бокал на треть, как было велено, и он поводил рукой, чтобы поймать на стекло ускользнувшее было зеленое пятно.
– Но видишь, зеленый с вином теряет чистоту.
– Вижу, – сказал я. – Зато с этой эссенцией гораздо веселее жить.
– Эссенцией, – задумчиво повторил он, – жить… Это интересное сочетание слов. – И добавил: – Как удивительно, что мы так долго не знаем, что составляло эссенцию нашей жизни.
– Что ты там бормочешь? – насторожился я. Рассуждения моего друга Алекса на отвлеченные темы настраивали меня порой на размышления этимологического характера. Он не стеснялся прибегать к высокопарным словесным штампам, но всегда в контекстах, заставлявших меня заново задумываться о смысле входящих в них слов.
– Я говорю, – отозвался он, – что средоточие сути нашей жизни вовсе не там, где мы полагаем средоточие ее смысла.
– Какая разница между смыслом и сутью? – подзадорил его я.
– Смысл – это результат волевого усилия, то есть он там, где мы сами его полагаем, а суть… – он на секунду задумался, – это радость.
Я усмехнулся:
– Радость? Я слышал одного пуританского проповедника, утверждавшего, что земная жизнь есть «суть – трагедия». Так и заявил: «трагедия изгнанных из рая».
Но Алекса было нелегко сбить с толку.
– Такое суждение противоречит моему только на первый взгляд. Трагедия… – он снова задумался, – это ступень в постижении сути.
Я рассмеялся:
– Этак у тебя получается изгнание из рая наоборот.
– Как это – изгнание наоборот?
– Наоборот – это как одна маленькая девочка заметила, когда меня тошнило в городском парке: «Дядя, а что вы делаете – кушаете наоборот?» Вот и у тебя, Алекс, получается: рай – это радость, изгнание из него – трагедия. Через трагедию ты и предлагаешь войти в рай снова, в обратном порядке, наоборот, так сказать.
– Ничего я не предлагаю, – с улыбкой отмахнулся он и снова занялся разглядыванием бокала.
Мне было жаль, что он замолчал, я задумался над его странным определением трагедии. В строгом смысле слова определением оно, конечно, не было, но звучало, пожалуй, вразумительнее известных мне попыток уточнить трагедию как жанр и интереснее использования этого слова в качестве синонима горя.
Мне хотелось заставить его разговориться, но в тот вечер получилось опять-таки наоборот – разговорился я.
У меня тоже имелась причина, по которой мне нравилось приходить в ресторан Пино Карлуччи, – она оказалась сродни Алексовым цветным лампам. Этой причиной являлась фотография, висевшая на стене над нашим столиком. Благоволивший к нам Пино всегда старался придержать этот столик для нас.
Карлуччи считался тонким знатоком и ценителем оперы, и стены его заведения густо украшали фотографии оперных див и сцен из постановок La Scala и Wiener Staatsoper.
На той, которая висела над нашим столом, улыбалось улыбкой сложной и прекрасной, как редчайшая музыкальная гармония, юное женское лицо.
– Знаешь, – снова прервал я созерцание своего приятеля, – мне тоже нравится приходить сюда, и у меня тоже есть на то причина – эта фотография.
– Кто это? – спросил он, взглянув на изображение вслед за мной.
– Понятия не имею, – отозвался я, – какая-то миланская певица в молодости. Ее лицо напоминает мне… об одном давнем знакомстве.
– Расскажи, – Алекс чуть отодвинул бокал, и мне, по достоинству оценившему жертвенность этого жеста, ничего другого не оставалось, как поведать ему историю, происшедшую со мной двадцать с лишним лет назад.
* * *
В то время я был двадцатидвухлетним балбесом, только-только начавшим задумываться над тем, чем являюсь и чем бы мне хотелось являться в оставшиеся, за вычетом двадцати двух, годы моей жизни. Я играл на гитаре в одной из бесчисленных в те годы рок-н-ролльных групп и гордо не отвечал на заигрывания юных поклонниц этого музыкального жанра, потому что был тягостно и безнадежно влюблен.
Ее называли Фриной, и так же называл ее я, хотя настоящее ее имя нравилось мне больше – Жизель. Но она ненавидела свое настоящее имя. Для нее оно стало клеймом, символом заранее спланированной пожилыми и состоятельными родителями судьбы, от которой она пыталась бежать в семнадцать лет.
Она приехала ко мне, доверчиво внеся в мою темную полуподвальную комнату изящный кожаный, тисненый серебром саквояж и дорогой бежевый плащ на шелковой белой подкладке.
За два месяца до этого я познакомился с ней в портовом кафе в Новом Орлеане, и она просила меня приютить ее на некоторое время, пока она не отыщет работу.
Она подошла к столику, где я сидел с приятелями-музыкантами в перерыве между отделениями концерта, спросила, откуда наша группа приехала и смогу ли я потом немного задержаться. Она была ошеломляюще красива и обращалась только ко мне, что, конечно, очень польстило моему самолюбию.
Я просидел с ней на ведущих к Миссисипи сбитых каменных ступенях до самой зари.
Она рассказывала о своих родителях, о том, что они уже пожилые люди и у них долго не было детей, говорила, что оказалась единственным объектом всех их жизненных устремлений, что это невыносимо и что она чувствует себя так, словно живет на витрине. В детстве, – рассказывала она, – у нее были очень темные волосы, и ее родители недоумевали по этому поводу, поскольку и сами они, и все их близкие родственники имели светлые волосы. И вот она заметила, что ее волосы стали светлеть, и испугалась. Ее поразила мысль о том, что окружающие могут менять ее по своему усмотрению – лепить, раскрашивать, – стоит им только пожелать…
Она также сетовала на то, что родители ее богаты и это, в сочетании с ее красотой, всегда и везде привлекает к ней чрезмерное внимание. Она даже жаловалась, что была самой способной ученицей своего выпуска и что красавец учитель истории, в которого были влюблены все девочки, танцевал с ней на выпускном вечере и объяснился ей в любви.
Я заметил ей, что в этом нет ничего удивительного и, уж тем более, ничего страшного, но она покачала головой.
– Очень опасно, – сказала она, – постоянно ощущать, как видят тебя другие. Так я никогда не научусь видеть себя сама. Я словно все время гляжусь в кривое зеркало.
Я признался ей, что подобное опасение никогда не приходило мне в голову. Родители в основном обращали на нас с братьями внимание для того, чтобы что-нибудь запретить или за что-нибудь наказать, как, впрочем, и полагается родителям. Что же касается прочих людей, то было бы странно, если бы я терзался на сцене мыслью о том, что привлекаю чересчур много внимания. Честно говоря, мне, наоборот, всегда казалось, что этого внимания недостаточно. Меня удивило и позабавило, что кому-то может прийти в голову, будто нет ничего ужаснее, чем быть объектом внимания окружающих.
– И меня, – добавил я, – нисколько не расстраивает то, что ты обратила внимание именно на меня, а не на кого-нибудь другого из нашей компании.
Она улыбалась и кивала, слушая меня, и повторяла:
– Так я и думала.
Несколько сбитый с толку этим нашим разговором, я спросил ее, чего же она, собственно, хотела бы для себя.
– Я хочу, – сказала она, – чтобы вещи ничтожные были для меня неважны, чтобы я всегда радовалась радостному и печалилась печальному.
Помню, слова эти почему-то показались мне безжалостными. Мне показалось, что они могут отнять у меня что-то или… надежду на что-то. Помолчав, я съязвил:
– Значит, ты хочешь стать святой.
– Нет, – ответила она. – Я хочу стать сама собой. И я хочу всегда этого хотеть. А ты? Чего хочешь ты?
Я смотрел на нее. Вся она, с загадочным блеском темных глаз, с бледным, как лунный свет, лицом, со светлыми, чуть колеблемыми речным ветром волосами, с зеленым шелковым кружевом сказочно красивого платья, была так же волнующа и неизбежна, как окружавшая нас ночь. Больше всего на свете мне хотелось прижать ее к себе и целовать, целовать, пока хватило бы дыхания. Но хоть рядом со мной, считавшим себя опытным мужчиной, сидела семнадцатилетняя девочка, я не осмелился даже придвинуться к ней ближе.
И когда она под утро купалась нагишом в желтоватой, пахнущей нефтью воде у пристани, я остался на берегу. Я держал на коленях ее зеленое шелковое платье и беспокоился о том, что ее могут заметить, когда она будет выходить из воды, потому что уже светало.
Получасом позже, когда она спокойно взяла из моих рук платье, я впервые заглянул в ее глаза при свете дня. Они были светло-карими, почти золотыми. Волосы ее тоже казались золотыми, и всё ее юное точеное тело золотилось в первых утренних лучах солнца. В ней не чувствовалось ни смущения, ни кокетства; она была похожа на богиню, но не высеченную в мраморе, а отлитую из светлого золота.
Очевидно, я и смотрел на нее как на богиню, потому что она усмехнулась и сказала:
– Юрист моего дяди однажды заявил, что взялся бы оправдать меня перед любым судом, раздев донага, как Фрину.
Я не знал тогда, кто такая Фрина, но, конечно, не спросил ее об этом. Не спросил я ее и о том, каким образом юрист ее дяди мог видеть – и видел ли? – ее нагой.
Когда мы прощались в десяти шагах от обшарпанного автобуса, на котором нашей группе предстояло продолжить турне по Луизиане, она попросила:
– Когда я приеду, пожалуйста, больше не называй меня Жизель, называй меня Фриной.
Через два месяца она приехала. Ждал ли я ее приезда? Очевидно, поскольку, помню, всё время пытался убедить себя в том, что она не приедет.
Она обладала удивительной способностью нравиться абсолютно всем. Я не хочу сказать, что она не вызывала зависти женщин или отчаяния мужчин, или что она, скажем, не ущемляла самолюбия невежд обоего пола. К слову сказать, к последней категории я относил и себя. К предпоследней, впрочем, тоже. Но я не помню, чтобы она хоть раз вызвала чью-нибудь неприязнь или неодобрение. Женщины старались ей подражать, мужчины – нравиться, а невежды – сказать что-нибудь умное. Во Фрине были очарование, такт, любезность и отстраненность, причем безо всякого видимого усилия с ее стороны и безо всякой аффектации. Очевидно, именно такой букет качеств звался когда-то светскостью.
Но в те дни я мало задумывался над секретом ее всегдашней уместности. Мне было над чем задуматься и без того.
Чтобы немного подзаработать, – за концерты платили мало, – я устроился рассыльным, и с шести часов утра до полудня успевал обегать полгорода. Я полюбил эти часы, когда измученное бессонными ночами тело казалось невесомым, а голова – легкой, рождавшей кристально четкие, хоть и невеселые мысли.
Ночи же мои были бессонны не потому, что я занимался любовью с Фриной, а по причине совершенно противоположной. Поверь мне, по тем временам, в том кругу, в котором протекала моя жизнь, такая ситуация казалась совершенно невероятной. Тем не менее, это было так. Она спала на моем диване, отгороженном по случаю ее приезда старой китайской ширмой, а я на надувном матрасе у противоположной стены. Матрас я, разумеется, на день убирал – было совестно заходивших приятелей. Они же шутили по поводу алькова за ширмами и по поводу моего бледного вида.
Вскоре мне посчастливилось недорого снять светлую комнату в приличном районе. В ней было не так дико смотреть на мою золотую богиню Фри-ну. В суматохе поспешного переезда я позабыл в старой комнате свою любимую сумку и не сразу хватился ее. Это была старая, черная, кожаная, ничем не примечательная сумка на ремешке, протертая по углам почти до дыр. Но я всегда отправлялся с ней на гастроли – это была моя «счастливая» сумка. Я хватился ее не сразу, а когда хватился, подумал, что это дурная примета.
Фрина легко могла бы устроиться работать в рекламном агентстве. Ей предлагали и это, и даже участие в какой-то телевизионной программе, но все такого рода предложения она называла предложениями «служить манекеном» и с презрением их отвергала. От этой категоричности мне становилось немного не по себе. С одной стороны, я, конечно, восхищался ее принципами, но с другой, совершенно выбивался из сил, стараясь подзаработать везде, где мог. За бутылку приличного вина, ингредиенты для нехитрого обеда на двоих, который, кстати сказать, готовил тоже я, и букет цветов мне приходилось полночи играть дурацкие танцевальные песенки в каком-нибудь Богом забытом пригородном клубе, а оставшиеся полночи добираться домой. Смущало меня и то, что Фрина совершенно не замечала ни моих героических попыток наладить сносный быт, ни тех скромных знаков внимания, которые я мог себе позволить.
В конце концов она нашла себе место библиотекарши при университете. Она поступила на вечернее отделение какого-то гуманитарного факультета этого университета, что было, как оказалось вскоре, большой неосторожностью с ее стороны.
Если не случалось ночного концерта, я встречал ее после занятий и мы шли пить кофе, потом гуляли по городу, заходили в кино или в ночной клуб.
Фрину никак нельзя было назвать наивной или лицемерной. Она была честна и, казалось, обладала мужеством, достаточным для того, чтобы с любопытством заглянуть в самую страшную черную бездну и, пожав плечами, сказать: «Это черная яма, она глубока, и в ней ничего нет». И я ломал себе голову над тем, как она может не понимать, что происходит со мной, и может ли? Постепенно мне стало казаться, что я нашел правильный ответ на этот вопрос. Она так стремилась не замечать того, как видят ее другие, что сама перестала видеть их. Она не хотела знать моих чувств именно потому, что они относились к ней. Чувства же мои к тому моменту представляли собой весьма странную смесь сильного влечения и не менее сильной неприязни. Всё чаще у меня возникало яростное желание бросить всё к черту и уехать куда-нибудь подальше, и, разумеется, навсегда. Но и этим, как мне казалось, я словно стремился доказать ей, что и я чего-то стою. Да и, кроме того, я не мог уехать, не оставив ей денег или хотя бы не заплатив за квартиру за пару месяцев вперед, а денег у меня не было. Я ничего не мог сделать: она связала меня по рукам и ногам. И как же я временами ее ненавидел!
В конце сентября я, как обычно, встретил ее в университетском сквере. Выдался ясный, теплый вечер, чуть горьковато пахли какие-то только что распустившиеся осенние цветы. Мы присели на скамейку, и Фрина сказала мне, что получила второй чек и что ей теперь хватит денег для того, чтобы снять свою комнату.
Признаюсь тебе, я не испытал ни малейшего облегчения. Напротив, я ощутил страшную тоску. Как! Она уйдет, а я так ничего и не сделал, ничего не сказал, не доказал! Я всего лишь послужил ей манекеном. Я вдруг почувствовал такую ярость, что, совершенно не владея собой, схватил ее за плечи и повернул к себе.
– За то время, что ты живешь рядом со мной, я узнал о себе многое. Я узнал, что я невежда, трус и глупец. Что еще ты хочешь, чтобы я узнал о себе?! Не знаю, научилась ли ты не замечать, как видят тебя другие, но ты прекрасно научилась сама никого не замечать!
Не помню, что говорил ей еще. Помню только, что больше всего на свете мне хотелось ударить ее… или задушить. Мне показалось, что ее оказавшиеся вдруг совсем близко глаза стремительно темнеют, становятся почти черными. Иллюзия была столь пугающе явственна, что я немного опомнился и, когда опомнился, увидел, что лицо ее бело, как мел. Плечи ее отчаянно напряглись под моими пальцами – я понял, что причиняю ей боль, и разжал руки.
Не знаю, о чем она думала, молча идя рядом со мной по оживленным вечерним улицам; я же думал о том, что теперь всё потеряно, и взамен слетевших с моего языка грубых и бешенных фраз мысленно складывал достойный греческих трагедий монолог, который, к счастью, мне не пришлось произносить вслух.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































