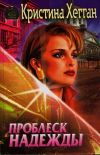Текст книги "Люди удачи"

Автор книги: Надифа Мохамед
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
4. Афар
– Миссис, вы не убавите музыку? – спрашивает тяжело отдувающийся полицейский в форме, возникая в дверях столовой. Свою черную каску он прижимает к животу, его веки подрагивают.
– Выключи приемник, Грейси. Чем могу помочь? Опять сработала охранная сигнализация?
На его лице отражается замешательство.
– Нет… произошло несчастье. С вашей сестрой.
– Что?.. – Дайана выглядывает из-за его плеча и видит в лавке других людей. – Прошу прощения… – говорит она, мягко отстраняя полицейского с дороги.
Грейс сбрасывает туфли на каблуках и в белых носках спешит за матерью.
– Что происходит? – Дайана переводит взгляд с одного незнакомого лица на другое.
Мужчины поднимают головы и оценивающе смотрят на нее.
– Мои соболезнования, миссис Танай. Мы только что прибыли. Ее обнаружил вот этот джентльмен, когда зашел за сигаретами. – Детектив указывает на мертвенно-бледного старика в кепке.
Холодный ночной ветер раскачивает входную дверь, и, только когда Грейс направляется вслед за матерью к кассе, Дайана замечает на полу кровь, пропитавшую подошвы носков ее дочери – белых, с оборочками.
– Стой! – кричит Дайана.
Она оттаскивает Грейс, затем заворачивает за угол, к северной стороне лавки. Вайолет лежит лицом вниз, освещенная низкой лампой с застекленного шкафа, кровь забрызгала белые стены вокруг нее.
– Вайолет, вставай! Что случилось, дорогая? – Дайана порывисто наклоняется, чтобы поднять сестру, думая, что она ударилась головой и потеряла сознание, но, отведя волосы в сторону, видит длинную зияющую рану у нее на шее. Отшатнувшись на каблуках, она кричит: – Кто это сделал?
Полицейский в форме помогает Дайане подняться и просит ее увести Грейс обратно в столовую.
– Неужели вы правда ничего не слышали, миссис Танай?
– Нет! Нет! – Дайана лихорадочно озирается в поисках Грейс, но та все еще у прилавка с кассой, поднимает сначала одну ногу, потом другую, разглядывая красные пятна на носках. – Не смотри, детка, не смотри!
Она прикрывает глаза Грейс ладонью, но сама, не удержавшись, оглядывается – на отпечатки рук и коленей, ведущие в глубину ниши, где хранятся коробки с обувью и где лежат, перевернутые вверх толстой подошвой, туфли самой Вайолет.
Осторожнее, Гвилим, в крови топчешься. Приблизительное время смерти – между 20:05 и 20:15. Первым на месте преступления оказался некий Арчибальд… Нет, исправь на «Арчболд». Зашел за пачкой сигарет. В соседней комнате ни звука не слышали. Ее сестра малость глуховата, а на двери столовой уплотнитель от сквозняков. Чертовы криминалисты опять не торопятся. О, вот и старший инспектор подтянулся. Наложить запрет на все суда, выход которых из порта был намечен на сегодня. А ближайшие родственники все это время ужинали. Кажется, она видела чернокожего в дверях в девятом часу. Несколько попыток взлома в последнее время. Как видите, в доме нет мужчин. Никаких криков, должно быть, впустила его. Всего пару дней назад ее видел. Упокой, Господи, ее душу.
Ха-Шем! Ха-Шем! Мэгги, Мэгги, погляди, что сделали с нашей Вайолет. Горло ей перерезали. Где Грейс? Здесь, Дайана, вот здесь, рядом. Сколько же там чертовых полицейских. Почему нас к ней не пускают? Как же так вышло, что ты ничего не слышала? Сходи наверх, возьми в шкафу бренди. Справа. Выпей, Дай, пожалуйста. Прекрати качаться. Вайолет. Вайолет. Вайолет. Вайолет. Вайолет. Вайолет. Вайолет. Вайолет. Сегодня вы должны остаться у нас с Дэниелом. Никогда, никогда, никогда. Как такое могло случиться? Отвернулся Бог, что ли?
Снаружи целая толпа зевак, шеф. Отгоните ее. Родственники видели на крыльце какого-то черного прямо перед тем, как все случилось. Обойдите все ночлежки для цветных. Останавливайте все суда, покидающие порт. Они тут рядом прямо плач по покойнице устроили. Такой у них обычай. Вы уже сделали все снимки, какие надо? Судя вот по этим отпечаткам, она пыталась спастись. Стало быть, мы имеем дело с настоящим злодеем. Знаете, они ведь собираются завтра же похоронить ее. Сначала вскрытие. Вообще-то тут и так все ясно – да, шеф? Здоровенные резаные раны на шее. Что-нибудь пропало? Пока неизвестно, но наверняка. Прибыла машина из морга.
Барух даян га-эмет. Потерпи, Дайана, Господь тебя утешит. Ты правда в это веришь? Грейс, иди сюда, посиди у меня на коленях. Да ты совсем холодная, детка. Закрой глаза, прислонись ко мне. Я уже всех обзвонил, все едут. Господи. Равви Герцог уже выехал из Римни. Они меня сметут. Мне их ни за что не сдержать. Кто-то у задней двери. Это Джошуа, кантор из синагоги.
– Да утешит вас Всемогущий среди скорбящих Сиона и Иерусалима.
– Я сразу вижу, когда человек под гипнозом.
– Но как, Док?
– Тебе ли не знать, Манди! У тебя на родине, в Гамбии, ведь есть обиа, так? Не одни же там только бонго и джунгли.
Раздражение вспыхивает в раскосых глазах гамбийца. В этом доме он самый образованный из всех, в шестнадцать окончил школу при миссии, но Док то и дело норовит его принизить. Резко выдохнув, он потирает бугристый келоидный рубец на шее, где несколько пружинистых волосков врастают в кожу, ввинчиваются в нее, как миниатюрные сверла. В тусклом свете кажется, будто на голове Манди надета плотно прилегающая коричневая шапка; волосы сбриты под острыми углами на висках и шее и набегают на лоб, пока не останавливаются внезапно несколькими сантиметрами выше кустистых бровей.
– По мне, гипноз – это другое. Его показывают старые хрычи в белых куртках.
– Необязательно. Хоть в варьете, хоть у стариков в белом – типа подчинить и заставить во всем признаться, – понимаешь, к чему я веду? Это мощная штука. Если уж попался, ты под ним.
– Так как же ты это видишь, Док?
– В газетах-то все черным по белому. «Бледность, вид как у помешанного, апатичная реакция», и я в море повидал людей, которые могли вытворить что угодно, а потом были не в состоянии объяснить ни черта, а теперь этот доктор Франкенштейн решил представлять такое в Новом театре. – Док Мэдисон тянется к тумбочке за кучкой таблеток, которые обычно глотает в восемь вечера. Его кровать с железными столбиками, заваленная подушками и цветастыми стегаными одеялами, имеет вид восточного трона, оплота величия и мудрости, а пурпурная шелковая пижама Дока лишь усиливает царственную атмосферу. Он ушел с торгового флота, купил этот обветшалый дом в ряду точно таких же, на улице за тюрьмой, а затем улегся в постель и нагло пренебрег законом белых, продолжая получать государственное пособие и при этом сдавать комнаты в аренду. Док живет и спит в гостиной, вместе с Джекки. Его квартиранты шутят, что эти двое в постели – готовое пособие для студентов-медиков: вот так выглядит молодое сердце, вот какой становится печень старого моряка, вот пухлая здоровая матка, а вот обвислая старческая мошонка.
– И что ему сказали?
– Чтоб поискал другое место! Они еще в своем уме.
– Загипнотизируешь хоть дядьку, хоть тетку – и приказывай им что хочешь, отдать бумажник или ключи от дома, и влезай девчонке в трусы без ее причитаний, что папаша ее убьет, или вопросов, сколько у тебя припрятано. Мощная штука.
– Думает, он важная птица, ведь он еще и доктор медицины, но какой доктор будет просить деньги с порога, да еще захочет антракт? Мошенник, вот какой. Подбрось-ка еще угля, малец, прямо до костей пробирает, да еще проклятый дождь льет всю ночь.
Манди ворошит кочергой оранжевые угли, потом берет большой брикет угля и бросает его подальше в камин.
Входная дверь рядом с комнатой Дока грохает так, что трясутся хлипкие окна с подъемными эдвардианскими рамами и сквозь щели в гнилом дереве в дом влетает свирепый сквозняк. Весь дом такой же немощный и хворый, как его хозяин: сырость ползет все выше по шелушащимся стенам, кишки водопроводных и канализационных труб урчат и страдают засорами, прохудившиеся и обмотанные там и сям газовые трубы изрыгают вонь.
– Чтоб его черти взяли! Зачем так хлопать дверью?
Манди презрительно втягивает воздух сквозь зубы и ерзает, снова умещаясь в ямы, продавленные его мышцами в красном бархатном кресле, и скрывая своим телом проплешины на обивке и видимые части остова. По голым сосновым половицам коридора слышны шаги, оба мужчины устремляют возмущенные взгляды на дверь.
Как и ожидалось, медная ручка поворачивается, в комнату входит Махмуд: дождь придал лоска его черному шерстяному пальто, расшил его блестками, с хомбурга стекают струйки на единственное ковровое покрытие во всем доме.
– Ну, надо же, вот и он, прямо как смерть с косой. – Манди окидывает Махмуда взглядом от залысин до мысков остроносых туфель.
– Так и будешь дубасить мою дверь, пока не треснет? Ты хоть знаешь, во что встанет замена?
– Да остынь ты, Док, ничего твоей деревяшке не сделается. – Махмуд широкими шагами проходит по комнате и садится на обитый твидом диванчик. Порой ему приходится напрягаться, чтобы разобрать резкий ямайский акцент Мэдисона.
– Смотри не намочи обивку!
Кинув взгляд на домовладельца, Махмуд снимает пальто и кладет его, свернув лицевой стороной внутрь, на подлокотник рядом.
– «Эхо» у тебя есть?
– Ну как, сегодня повезло? – спрашивает Док, бросая ему газету.
– Слегка, – никаких других ответов на этот вопрос он никогда не дает, не хватало еще, чтобы кто-нибудь совал нос в такую деликатную сферу, как его насииб[7]7
Удача, везение (сомали). (Прим. пер.)
[Закрыть].
– Слегка – значит, можешь оплатить жилье вперед за следующую неделю.
– Нет, это если бы я сразу выиграл много. – Он медленно переходит от страницы к странице, разглядывает хорошеньких девушек в рекламах, листает газету наоборот, от конца к началу, как будто она на арабском.
– Пальто новое, – это утверждение, а не вопрос, и Манди переводит взгляд с Махмуда на его пальто. Он подносит расписанное цветами блюдце к губам и с хлюпаньем выпивает пролитый на него чай.
– Оно старое.
– Я вроде бы видел, как утром ты уходил в этом своем старом спортивном пиджаке.
– Переоделся.
– Ты что, Золушка, – крутанулся на месте и на тебе уже другая одежда? – встревает Док.
Махмуд улыбается.
– Что скажете насчет завтрашних скачек?
– В четырнадцать часов интересные лошади, от Старого Табаско, с хорошим жокеем-шотландцем, и все такое.
Махмуд просматривает список; по-английски он читает еле-еле, но любит делать вид, будто читает бегло, вдобавок он разбирает несколько знакомых кличек и все цифры.
– Этот пройдоха Рори Харт опять попал в газету – за пьянство и нарушение порядка, – Док скалит крокодильи зубы, – значит, говорит он судье, мол, хотел только оттолкнуть лодку[8]8
Раскошелиться или развлечься. (Прим. пер.)
[Закрыть], – он смеется, выдыхая через ноздри, – а почтенный судья ему: «Что же помешало вам оттолкнуть ее снова?» И знаешь, что отвечает ему Харт? – У Дока вырывается смешок, эхом отдается от стен. – «Так эта лодка затонула». Эта. Лодка. Затонула.
Все трое смеются удачной остроте докера.
– Да уж, надо быть ирландцем, чтобы сказать такое судье! – Хихикнув, Манди чуть не давится чаем.
Прихватив пальто, Махмуд пользуется случаем, чтобы улизнуть, пока Док не завел все ту же песню про плату за жилье, или про дверь, или уголь, который сам собой с улицы не придет, или про молоко, пролитое на кухонный стол.
В своей почти пустой комнатушке Махмуд снимает костюм в узкую полоску и вешает пиджак и брюки на покореженную проволочную вешалку. Его тонкие носки промокли на мысках и пятках, но он их не снимает, боясь ложиться в постель – при этом ему всегда кажется, будто он ныряет в ледяную воду. Раньше этим вечером он пытался встретиться с той русской, черноволосой воровкой, которую заприметил в пабе «Ведро крови». Она старше его, умнее и злее, между ними вспыхивают опасные искры. Хоть он и давал себе зарок, что больше не будет видеться с ней, сам не заметил, как очутился перед ее красной дверью. Но ее не оказалось дома, наверное, крутила шашни с каким-нибудь другим болваном. Надо ему просто порвать с этой женщиной и позаботиться, чтобы Лора о ней никогда не узнала.
Сделав глубокий вдох, он ныряет под шерстяные одеяла, его жилистые руки и ноги передергиваются, когда хлопковая простыня норовит лишить его и без того жалких остатков тепла. Ворочается в постели, старается разогнать кровь, но холод сильнее его. Уминая кулаком древнюю затхлую подушку, чтобы придать ей хоть немного сносную форму, Махмуд вдруг вздрагивает от громкого стука во входную дверь.
Слишком позднего для хороших вестей, слишком дерзкого для кого угодно, кроме полиции.
Слышатся тяжелые шаги Манди, потом скрип двери.
– Привет-привет, извиняюсь…
– Инспектор! Пожалуйте, пожалуйте.
У них на меня ничего нет и быть не может, думает Махмуд. Наверняка это из-за того нового ямайца наверху – Ллойда, или как там его: говорит, что боксер, а сам никогда не тренируется и в боях не участвует, только сидит наверху да курит травку, выпуская дым в окно.
Док повысил голос, Махмуду отчетливо слышно его через стену.
– Детектив Лейвери! Что привело вас сюда в такую гнилую ночь? Я прилагаю все старания, чтобы мое заведение было приличным, христианским, и очень, очень расстраиваюсь, когда что-нибудь в нем возбуждает у вас подозрения.
– Для чрезмерного беспокойства нет никаких причин, мистер Мэдисон, ваш ночлежный дом не единственный, куда мы намерены заглянуть сегодня. Ваши жильцы все дома? – У Лейвери сильный валлийский акцент, голоса этих двоих вместе звучат как у лорда и его егеря из комической радиопостановки.
– Думаю, да, детектив, но у нас наверху новенький, а он вроде как сам собой, извиняюсь, сам по себе.
– Нам надо побеседовать с каждым, мистер Мэдисон.
– Он здесь, здесь, – уверяет Манди.
– Начнем с Маттана.
К нему стучат еще до того, как Махмуд успевает надеть брюки.
– Кто там? – кричит он.
– Полиция. – Его застают одетым в трусы и майку. Знакомые лица. Моррис и Лейвери.
– Чего вам? – Махмуд застывает прямо перед ними.
– Где вы были этим вечером? – спрашивает Лейвери, а тем временем Моррис, пошарив повсюду взглядом, уже щупает пальто Махмуда.
– В «Центральном».
– Какие фильмы смотрели?
– Про корейскую войну и ковбоев.
– В какое время вы покинули «Центральный»?
– В половине восьмого, – обернувшись к Моррису, Махмуд резко спрашивает: – А ордер у вас есть?
Не обращая на него внимания, Моррис продолжает рыться в карманах пальто.
– Какой дорогой вы вернулись домой?
– Мимо бань.
– В кино вы были один? Видели кого-нибудь из знакомых?
– Да. Нет.
– Вы проходили сегодня вечером по Бьют-стрит?
– Нет.
– Вы носите с собой нож, Маттан?
– Нет.
– Нам предстоит обыскать вашу комнату, Маттан.
– Зачем?
Моррис хлопает по карманам пиджака, висящего на спинке стула, и находит сломанную бритву.
– Раньше я брился ею. Она не так давно сломалась.
– Другая бритва у вас есть?
Махмуд указывает на туалетный столик.
Лейвери берет со столика безопасную бритву и осматривает лезвие. И кладет на прежнее место, ничего не сказав.
– У вас есть деньги?
Моррис показывает несколько серебряных и медных монет, найденных в карманах пальто.
– Куда вы ходили после кино?
– Сразу пошел домой. – Махмуд напрягается, а Лейвери и Моррис лапают все подряд. – Что вы ищете? Зачем ходите к мне? У вас нет ордера.
– Не надо наглеть, ордер нам не нужен. Сегодня на Бьют-стрит совершено тяжкое преступление, подозревается цветной.
Махмуд фыркает:
– Почему сразу цветной?
– Вы должны сказать нам правду, где были сегодня вечером, Маттан. Дело гораздо серьезнее ваших прежних краж из магазинов.
– Я с вами не говорю. – Махмуд хватает брюки, расправляет их и быстро сует ноги в штанины.
– Убили женщину. – Лейвери смотрит ему в глаза.
– Вы лжете. Все полицейские – лжецы.
– Лучше придержите свой длинный язык. Еще раз спрашиваю: где вы были сегодня вечером?
– Ничего я вам не говорю.
Моррис трогает обе пары туфель, стоящих у постели, потирает пальцы, ощущая влагу.
– Если услышите что-нибудь, обязательно зайдите в участок и сообщите нам, понятно?
Махмуд стоит навытяжку у своей двери, пока они не уходят, потом тяжело садится на кровать. Спокойная ночь испорчена. Что это за женщина, которую убили? Нет конца вранью, которое они плетут, лишь бы осложнить жизнь чернокожему.
Услышав шум, он подходит к двери и выглядывает в коридор. Верхний жилец, ямаец, дерется с полицейским в форме и явно побеждает. Лейвери и Моррис с грохотом сбегают по ступенькам и ввязываются в драку. Повернувшись к Манди, который ошарашенно застыл посреди коридора, Махмуд пожимает плечами и закрывает свою дверь, отгораживаясь от хаоса.
Сомертон-Парк, стадион для собачьих бегов. Ньюпорт. Махмуд целует корешки билетиков со ставками, которые держит в правой руке, и идет к окошку тотализатора забирать выигрыш. Бумажные фунты ложатся один на другой, пока между ним и кассиром в кепке не вырастает стопка из двадцати таких купюр. Вот он, заработок за десять недель, пухлый и легко доставшийся, бумажки хрустящие, с острыми краями: тронь – обрежешься. Хватит и на жилье, и на Лору с детьми, и на какое-то время ему на жизнь; пачка такая толстая, едва вмещается в его изголодавшийся бумажник.
– Похоже, удачный у тебя выдался день, Сам, – говорит кассир, который выдает ему выигрыш и курит при этом трубку.
– Сам? Меня зовут не Сам.
– Да я всех ваших называю «Сам».
– Всех наших? И что это значит? По-твоему, это смешно – звать нас «Самбо»? Да я тебе череп разобью. – Махмуд хлопает ладонью по стойке, и кассир в испуге отшатывается.
– Я никого не хотел обидеть, – уверяет он, выставляя вперед ладони.
– Кусаете первыми, а потом распускаете нюни. И так всегда. – Он качает головой, бросает монеты в карман брюк и оглядывается на беговой круг. Скоро еще один забег, новые собаки уже выстраиваются за воротцами, тяжело дышат, пар вылетает из их разинутых пастей, и он ощущает возбуждение со всех сторон, предвкушение того, что пьянит сильнее победы. Нет-нет, не глупи, одергивает он себя, заставляет переставлять ноги и вскоре возвращается на безлюдную улицу, направляясь к автобусной остановке.
На семьдесят третьем, идущем до Королевской больницы, он проезжает через центр Кардиффа и глядит в запыленное окно, как в кинотеатре на экран, полностью отделенный от его разоренной войной, унылой неприкаянности. На залатанные шпили, на деревянные ручные тележки, на чахлых цыплят и окровавленных кроликов, вывешенных в витринах у мясников, на матерей, со свирепым самозаб-вением везущих младенцев в колясках, на широкий, цвета слоновой кости купол мэрии, почерневший от копоти, на витрины магазинов с их буквами, которые болтаются, как сережки, на веревочках, на чайные с дежурным блюдом за два пенса, состоящим из хлеба с маслом и чашки чая, на заколоченные окна, на обнесенные заборами разбомбленные здания. Тяжко здесь живется, если у тебя в кармане нет денег; он порадовался бы, если бы все здесь снесли подчистую, как хотят снести доки. И непонятно, почему они смотрят на Бьюттаун свысока, если им самим почти нечем похвастаться. Бэй возникает из промышленного дыма и морской дымки, словно древняя окаменелая тварь, выходящая из воды. Можно пройтись вдоль доков и поглазеть на матросов с попугаями или обезьянками в самодельных курточках – их держат или на продажу, или как память, можно пообедать китайским рагу чоп-суй и поужинать йеменской сальтой, и даже в Лондоне не найти таких симпатичных девчонок – с предками со всех континентов мира, – какие запросто попадаются в Тайгер-Бэе.
Другой Кардифф для него означает хождение по замкнутому кругу между заводом, домом и пабом, тяжкое, как у ломовой лошади. Он не может, нет – не хочет скатиться до такого. Лишаться фунта из заработка каждую неделю по милости ворюги, который считает, что ты должен быть благодарен уже за то, что вообще работаешь. Подметать, чистить, даже близко не подходить к машинам, потому что тогда тебе придется назначить плату, как другим людям. Ужас столовых в том, что посетители щупают тебя, как раба на торгах, спрашивают, оттого ли ты черный, что вылез у матери из задницы, и от нарастающего волной смеха желчь подкатывает к горлу. Розовую солонину и вареный картофель подают с гарниром «англичанин, ирландец и ниггер заходят в бар». Белые сами по себе несчастны, раздражены и ожесточены, но обращаются с тобой так, будто это ты стал для них последней каплей. А ведь он не то что другие сомалийцы, которые когда-то спали рядом с верблюдами и знают жизнь только как жесткое ложе из шипов и камней. Нет. В детстве он всегда спал с удобством, на индийском матрасе, утром его ждала чашка молока с сахаром, мать вливала текучие строки своей поэзии ему в уши, хваля его. Благодарности с их стороны он не чувствует. Берет два шиллинга и пять пенсов с кивком и улыбкой, хоть у него раскалывается спина, ноздри забиты пылью, пальцы не гнутся и костяшки кровоточат. Белые для него – ничего особенного, он знает их с малых лет, когда таскал холщовые мешки с сахаром и чаем в колониальном клубе Харгейсы и подбирал теннисные мячи на сожженном засухой корте. Он умеет смотреть им в глаза и пререкаться, но это все равно трудно. Трудно.
– Уходи из моего дома.
– О чем ты говоришь, Док?
– Не собираюсь я с тобой разводить разговоры, у тебя две недели, чтобы собрать пожитки и найти другое жилье.
Манди сидит в кресле и ухмыляется.
– Знаешь, что я сейчас сделаю, приятель? Заплачу тебе вперед за следующие восемь недель. Заплачу хорошие деньги за твою сырую долбаную комнату.
– Сырую? Всем остальным она годится, а ты откуда выискался такой важный? С тобой одни неприятности с тех пор, как ты шагнул на порог. Сколько раз ко мне уже стучалась полиция, разыскивая тебя? – Док с отвращением втягивает воздух сквозь зубы. – У меня от тебя давление подскакивает, парень, я тебя предупредил, а теперь оставь меня в покое.
– Прошлой ночью они же не меня искали, – возражает Махмуд, отделяет от стопки столько купюр, чтобы хватило на следующую пару недель, а потом бросает их на тумбочку у кровати.
– А в другие разы? – огрызается Док.
Махмуд пожимает плечами и покидает комнату.
Направляясь во двор, в уборную, он проходит в кухне мимо подружки Дока.
– Чего он всполошился?
Руки у нее по локоть в муке, она месит тесто для хлеба, набивное платье в цветочек обтягивает мускулистые плечи, брови припорошены белым. Рослая, крупная девчонка, какие по вкусу старикам, простая и добрая, как корова. Он слышал, в прошлом году она попала в газеты, потому что Док ушел в плавание и почти не оставил ей денег на хозяйство, так что в его отсутствие она продавала мебель, на выручку и жила. Едва вернувшись, Док повел ее прямиком в полицию и подал на нее в суд, но как-то вышло, что они до сих пор вместе.
– Сегодня утром приходили из местного совета обследовать дома, и теперь он думает, что это ты на него заявил. Это правда ты? – Глаза у нее блестящие, взгляд невинный.
– С какой стати?
– Вот и я ему так сказала, но ты же знаешь, какой он становится, когда вобьет себе что-нибудь в голову. Про бедняжку Вайолет Волацки слышал? Ее убил прошлой ночью прямо у нее в лавке какой-то цветной.
– Значит, так ее зовут? Это тот тип с Ямайки, которого увели прошлой ночью?
– Нет, непохоже, он отсыпается наверху – в комнате у него нашли марихуану, за это он и поплатился.
– Болван. – Махмуд сплевывает: торчков он терпеть не может – за их лень, сонливость, нежелание понимать, что в этом мире нужны вся бдительность и сила, на какие ты только способен.
– Без драки точно не обошлось, крепкая она была женщина, вдобавок всю жизнь прожила у самых доков, вряд ли она сдалась без боя. – Она шлепает тестом об стол.
– Наверное, он напал на нее сзади – вот так. – Махмуд несильно обхватывает ее за шею одной рукой, вдыхает сладкий запах пота и лавандовой воды, исходящий от ее кожи цвета кофе с молоком.
– Отстань! – Она смущенно хихикает и ерзает, пытаясь высвободиться.
Гримасы на ее лице он не видит, поэтому продолжает:
– А потом ему осталось только взять бритву и провести ей по шее вот так… – Он чиркает двумя темными, суживающимися к ногтям пальцами поперек ее твердой шеи, ослабляет захват и крадучись отступает по линолеуму, восстанавливая между ними прежнее расстояние.
Ее глаза широко раскрыты, плечи подняты и неподвижны – она напугана его прикосновениями и боится, что Манди или Док войдут и поймут происходящее превратно.
– Да иди ты! Как ты меня напугал.
– Незачем бояться. – Он улыбается и задерживает на ней взгляд чуть дольше, чем следовало бы, – достаточно, чтобы дать понять, что он гибкий, симпатичный и вдвое моложе Дока.
Это один из тех редких дней, когда Махмуд успевает застать солнце – настолько ночным стал образ его жизни. Бывают ночи, когда он является в свое временное жилье часа в четыре или в пять, находя в темное время суток больше развлечений, чем днем. Завязывая шнурки, он дает себе зарок, что уйдет от Биллы Хана к полуночи, самое позднее – в час ночи, а утром прямиком на биржу труда. Уже несколько месяцев прошло с тех пор, как у него была приличная работа; последняя досталась ему на аэродроме, где он был смотрителем – хорошая, чистая работа. От синего моря до синего неба, вот как он путешествовал, и его вновь и вновь тянуло к машинам, благодаря которым мир казался таким маленьким и доступным. Несколько месяцев он цеплялся за это место, не опаздывал и помалкивал, когда надо, но все равно продержался недолго.
Поправив свой хомбург – его теща говорит, что эта шляпа вечно напоминает ей о похоронах, – и, надвинув его пониже на лоб, Махмуд понимает, что на улицах сейчас слишком много людей, встречи с которыми он не желает: нигериец-часовщик, погнавшийся за ним из-за часов, вытащенных из кармана, долговязый и тощий еврей, хозяин ломбарда, который принял у него постельное белье, когда больше ему было нечего заложить, та русская из кафе, увидеться с которой и хочется, и колется. Сделав глубокий вдох, он выходит из дома.
Складные щиты возле газетных киосков все еще пестрят снимками из Лондона: приспущенный флаг над Букингемским дворцом, Черчилль в цилиндре чтит память покойного, новоиспеченная королева на заднем сиденье машины, неподвижный взгляд устремлен вперед. Смерть короля превращается в голливудскую постановку, хотя всем известно, что человеком он был безвольным, избалованным с самого рождения, выхолощенным богатством и чересчур легкой жизнью.
Махмуд перепрыгивает через низкую кирпичную ограду Лаудон-сквер и идет наперерез по траве с проплешинами, мимо деревьев, увешанных веревочными качелями для детей, оставивших после себя обертки от сладостей и рисунки мелом на каменных плитах дорожки. Щурясь, Махмуд вглядывается вперед, в массивную фигуру между стволами деревьев, и ступает тише. Приближается и находит какого-то мужчину, обмякшего на скамье – голова сонно поникла, в руке с серыми костяшками сжат промасленный бумажный пакет. Между шарфом и шерстяной шапкой виднеется лицо западноафриканца средних лет, потерянного для мира. Махмуд стоит над ним, наблюдает. Это не бездомный, в слишком уж хорошем состоянии его одежда и ботинки, так почему он сидит здесь на холоде, с разинутыми карманами пальто? Рабочий. Вымотался. Задремал между сменами. «Оставь его, – велит голос в голове Махмуда, – оставь это неприкаянное чадо». Махмуд поворачивается и продолжает путь по Бьют-стрит.
Вот это место у него под ногами, на углу Анджелина-стрит, всегда привлекает его внимание. Здесь собираются любители азартных игр, здесь Хайрех приставил пушку к затылку лысой головы Шея и забрызгал его мозгами обувь Берлина. В этот самый момент Махмуд ждал возле лондонского «Парамаунт-Клаба» блондинку, которая его продинамила; прождал два часа, думал, может, со временем напутал, но компанию ему в эту ночь составили только отражения огней светофоров в мокром асфальте. Был бы здесь, стал бы очевидцем того, что раньше видел только в кино, – чистой, слепой, кровавой мести. С Шеем было трудно поладить, его уже не раз предупреждали, чтобы не трогал сбережения жильцов, но кто же знал, что Хайрех способен на такое. Да еще открыто, с пушкой и при свидетелях! Не у каждого хватит духу. А он был готов из гордости отправиться на виселицу. Берлин потом рассказывал, что от потрясения у него чуть ноги не подкосились, что он держал на коленях голову самого близкого друга, пока того покидала жизнь, что ему пришлось вытирать с туфель белое творожистое месиво мыслей и воспоминаний, что все уличные игроки столпились вокруг и шепотом читали «аль-Фатиху», пока он закрывал Шею глаза.
Махмуд стучит холодными костяшками в стеклянную панель двери раз, другой, третий, дождь моросит, пока Билла Хан медленно, вперевалку спускается по лестнице. Нельзя, чтобы Махмуда заметили возле этого нелегального покер-клуба сейчас, когда у него условный срок, и он раздраженно бьет в стекло еще раз – за мгновение до того, как Билла Хан распахивает дверь.
– Масала кя хэ? – Билла Хан откидывает клок тяжелых маслянистых волос со лба и устремляет свирепый взгляд на Махмуда.
Тот отлаивается на хинди:
– Джанам меин йе каам хатм хога я нахи.
Билла Хан машет рукой, впуская его.
– Джальди каро, бхай.
Еще один моряк, переставший ходить в плавания, Билла Хан устраивает игру в покер ночи напролет в съемной комнате и этим зарабатывает себе на жизнь, взимая по фунту с каждого игрока. Говорить по-английски он отказывается, так что они столковываются на хинди, которого Махмуд нахватался в Адене. Махмуд закрывает входную дверь и безмолвно следует за широкой кормой индийца вверх по лестнице. Похожее на кеглю тело Хана всегда смешит его; его манера носить брюки, поддергивая их до самых сосков, усиливает впечатление узости плеч и женственной пышности бедер.
Камин сыплет искрами, сигаретный дым густыми клубами окутывает абажур с бахромой под потолком, из маленького проигрывателя льется воркующий голос Мохаммеда Рафи, который поет на хинди. Вот этот мир Махмуду по душе, его достаточно, чтобы вызвать у него улыбку. Он окидывает комнату взглядом. Шесть человек, два игрока с большими деньгами: сосед-еврей, домовладелец, и хозяин китайской прачечной. Он кивает, ему кивают в ответ.
– Нам ее отдали. Она у нас.
Ее кожа холодна, губы серы, широкая рана на шее стала тускло-розовой, сморщенной и почти скрытой под высоким воротником. Гроб, выбранный Дайаной для Вайолет, – насыщенного орехового цвета, с тонким слоем кремового шелка внутри. Почти как подвенечный наряд; стеганый шелк с тиснеными цветочками по краю. Красивых вещей для себя она никогда не хотела, всегда была чересчур практична, носила вдовий траур, хотя у нее и не было мужа, чтобы его терять, зато теперь сойдет в могилу в шикарном ящике, ни на что не годном, кроме как сгнить вместе с ней. Мужчины хотели, чтобы все было по галахе и чтобы Вайолет завернули в простое белое полотно, но Дайана сама пошла и купила гроб. Дом заставлен лилиями, распространяющими резкий запах из каждой вазы, кувшина и большой кружки, какие только удалось собрать. Но Вайолет терпеть не могла их тошнотворно-сладкое благоухание и оранжевую пыльцу, которая сыпалась на ее скатерти из французского льна и оставляла на них пятна. Давние друзья, обычно отказывающиеся ступать даже на мост, ведущий в Бьюттаун, явились длинными настороженными вереницами, под зонтами, с изысканными букетами и блюдами, завернутыми в старую ткань. Убийство Вайолет – эти два слова по-прежнему смотрелись в сочетании так дико и неуместно – подтвердило все их опасения насчет Бэя и вместе с тем каким-то образом придало им смелости, побудило явиться в это ужасное место и увидеть его своими глазами. Домохозяйки из Кантона, Пенарта, Эбу-Вейла, Сент-Меллонса ахали при виде уличных азартных игр, детей-полукровок и баров-развалюх, у которых болтали женщины-развалины. Широкие окна лавки Волацки занавесили черным крепом, табличка на двери была постоянно обращена к миру стороной «Закрыто», в мальтийском ночлежном доме и кафе «Каир» по обе стороны от лавки старались приглушить шум и музыку до траурного уровня. Дайана охотно окатила бы все вокруг бензином и подожгла: лавку, дом, улицу, город, мир. Почему он продолжает стоять, чем заслужил такое? Если безобидную женщину, которая только работала и старалась заботиться о близких, зарезали, как скотину на бойне. И она истекла кровью, пока ее родные в соседней комнате резали жареную картошку и просили передать им соль. Почему она, Дайана, не выглянула проверить, что там у Вайолет, когда увидела на пороге того человека? Он показался ей незнакомым, но трудно различить лицо, особенно темное, да еще ночью и под низко надвинутой шляпой, ведь так? Надо ей было оставить проклятую дверь столовой открытой, чтобы видеть или хотя бы слышать, что происходит. А она, дура, закрыла ее. Среди каких же людей она живет, если они способны на такое, зная, что свидетели совсем рядом? Не ведающих ни страха, ни жалости, дерзких. Правильно делала Вайолет, что опасалась. Скрипя зубами, Дайана моет тарелки и столовые приборы в узкой и глубокой, как окоп, фаянсовой раковине. Она грубо орудует тряпкой, и зубья вилки впиваются ей в кожу. Ярость в ней нарастает, как свирепая буря, то редеет до дымки, то сгущается, как беспросветное месиво, забивающее легкие. В таком состоянии она способна убить, схватить маленький нож для масла и вонзить его глубоко в глаз первого встречного мужчины; только мужчины становятся жертвами ее ярости в этих молниеносных фантазиях – крупные, дюжие, которых надо истребить.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?