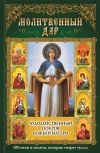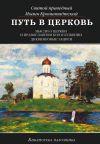Текст книги "В поисках Неведомого Бога. Мережковский –мыслитель"
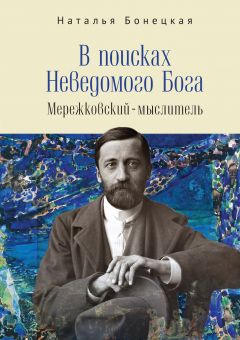
Автор книги: Наталья Бонецкая
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Д. С. Мережковский: Герменевтика и экзегетика[1]1
Глава впервые опубликована в: Вопросы философии, 2012, № 11, с. 97–113.
[Закрыть]
Кто он – Мережковский?
Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865–1941) не принято относить к сонму философов Серебряного века. В этом есть свой резон: ведь и проницательнейшие из его современников наделяли его лишь расплывчатым именованием «литератор». В 1900-е годы Мережковский уже прославился не только благодаря своим литературоведческим штудиям (прежде всего двухтомным исследованием «Л. Толстой и Достоевский», 1900–1902 гг), но и романной трилогией о Христе и Антихристе («Юлиан Отступник», «Воскресшие боги», «Петр и Алексей»); он издал стихотворный сборник и разработал основы «нового религиозного сознания». Такая писательская многогранность возбуждала недоумение, подталкивала к раздумьям. Но на заре Серебряного века, когда еще не пришло время для полноценной рефлексии, даже и Н. Бердяев – весьма, как правило, точный в оценке коллег, мог лишь констатировать, что Мережковский, этот «слишком литератор», – «замечательнейший у нас литературный критик» и «своеобразный художник-мыслитель»[2]2
Бердяев Н.А. О новом религиозном сознании // Он же. О русских классиках. М., 1993, с. 225, 224,229.
[Закрыть]. При «открытии» сочинений Мережковского в 1900-х гг. в России он предстал перед новым читателем именно с ярлыком критика. – Об идентичности творчества Мережковского более напряженно, чем Бердяев, размышлял Андрей Белый. «Определите-ка его, кто он: критик, поэт, мистик, историк? То, другое и третье или ни то, ни другое, ни третье? Но тогда кто же он? Кто Мережковский?» – со страстью вопрошал уже в 1908 г. Белый. Ведь «лирика Мережковского – не лирика только, критика – вовсе не критика, романы – не романы»[3]3
Андрей Белый. Мережковский. – В изд.: Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994, с. 376.
[Закрыть]. Белый глубже Бердяева понял Мережковского, увидев в нем «нечто неразложимое» на привычные творческие методы: «Он специалист без специальности. Вернее, <…> еще не родилась практика в пределах этой специальности. И оттого-то странным светом окрашено творчество Мережковского»[4]4
Там же, с. 381, 377
[Закрыть].
Удивление Белого перед загадкой Мережковского побуждает, по Платону, к поискам. «Для уяснения его [Мережковского] деятельности приходится придумать какую-то форму творчества, не проявившуюся в нашу эпоху»[5]5
Андрей Белый. Мережковский. – В изд.: Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994, с. 381.
[Закрыть]; но нам, кажется, уже не нужно гадать и придумывать. В нашу эпоху уже «проявилась» – уже обрела самосознание такая старинная форма философского мышления, как герменевтика. Более того, в трудах М. Хайдеггера, а в особенности его ученика и последователя Х.Г. Гадамера герменевтика в XX в. получила едва ли не универсально-философский статус. «Классическая дисциплина, занимающаяся искусством понимания текстов»[6]6
Гадамер Х.Г. Истина и метод. М., 1988, с. 215.
[Закрыть], герменевтика в ее проблематике, по словам Гадамера, «относится к совокупности всего разумного» – ко всей области знания: ведь мир, с которым человек имеет дело, «не бывает первозданным миром первого дня»[7]7
Надамер Х.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991, с. 14.
[Закрыть], – он всегда в какой-то мере осмыслен и описан, а потому является текстом в широком смысле. Мы не станем поднимать здесь трудных проблем герменевтики, – например, размышлять о возможности ее обобщения до всеобщей теории познания, приложимой и к сфере естественнонаучного опыта[8]8
Таким обобщением была борьба Хайдеггера с “фетишизацией «чистого восприятия»”. Полемизируя со своим учителем Э. Гуссерлем, он обосновал, что “первичным феноменом всегда является видение нечто в качестве нечто, а отнюдь не чувственное восприятие. <…> Всякое видение есть уже «постижение нечто…»” (См.: Гадамер Х.Г. Актуальность прекрасного, с. 127).
[Закрыть]. Наша задача проще, уже – попробовать применить понятие герменевтики для осмысления русской философии XX в. Герменевтика для нас – наука о духе, о познании неких текстов – текстов глубоких, чужих и таинственных.
Но чем же иным и занимался всю жизнь Мережковский-«литератор», Мережковский-книжник, «слишком культурный человек»[9]9
Бердяев Н. А. О новом религиозном сознании. Указ, изд., с. 225.
[Закрыть], как не герменевтическими исследованиями?! Разнообразные письменные источники; великие личности – от египетских фараонов до писателей XX века; ушедшие эпохи – древний Крит, поздний эллинизм, Возрождение, век Наполеона, петровская Русь и т. д. – суть предметы герменевтического анализа, принявшего у Мережковского жанровые формы литературоведческого трактата, монографии, романа. Мережковский был искуснейшим мастером именно такого анализа. Мы не согласны с расхожим мнением, по которому «любой из «героев» критики Мережковского – зеркало его собственной души, его самого»[10]10
Ермолаев М. Загадки Мережковского // Послесловие к изд.: Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995, с. 567.
[Закрыть]. Мнение это сложилось еще в Серебряном веке. В уже цитированном здесь очерке «Мережковский» Андрей Белый заявлял, что герои романной трилогии о Богочеловеке и Человекобоге – лишь куклы в костюмах нужной эпохи, за которых говорит Мережковский как идеолог «III Завета»[11]11
Андрей Белый. Мережковский, с. 378–379.
[Закрыть]. Однако Белый тут же сам себя и опровергает, призывая искать, кто же этот человек со своим специфическим словом о мире.
И впрямь, если бы Мережковский постоянно был занят тем, чтобы пропагандировать собственные идеологемы о «двух безднах», «демоне середины», «тайне Трех» и пр., то почему его постоянно влекло как раз к чужому – чужому духовному опыту, чужой эпохе, чужой судьбе?! В его сочинениях преобладает вопросительная интонация[12]12
Стиль философствования Мережковского обусловлен именно этой его метафизической неуверенностью. Другой «отец Серебряного века» (Мережковского мы также относим к их сонму), Вл. Соловьёв, напротив того, склонен говорить о «последних вещах» (внутрибожественная жизнь, «богочеловеческий» мировой процесс и пр.) словно о неких очевидных для него представлениях, как бы выдавая «практический разум» (веру) за разум «чистый» (достоверное знание). Философствование Соловьева, неотрывное от классической традиции идеализма, архаично, – в XX в. такой стиль сходит на нет.
[Закрыть], ибо острее прочих он чувствовал тайну бытия: «Мережковский переживал опыт былых великих времен, хотел разгадать какую-то тайну, заглянуть в душу таких огромных людей, как Юлиан, Леонардо и Пётр, так как тайна их казалась ему вселенской», – заметил Бердяев[13]13
Бердяев Н. А. О новом религиозном сознании, с. 225.
[Закрыть]. В облике Мережковского, запечатленном фотографиями, просвечивающем сквозь его тексты, заметна не до конца преодоленная брезгливость сноба – брезгливость по отношению к своей современности и к себе самому как «упадочнику», «декаденту», обреченному жить в мире, неудержимо стремящемуся к концу. «Мы – слабые, малые, от земли чуть видные»[14]14
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. – В изд.: Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. М., 1995, с. 350.
[Закрыть], – юродствует этот «русский европеец», для которого современная европейская культура – «мещанская и безбожная», «забывшая вселенские идеи и живущая частными, мелкими, провинциальными интересами»[15]15
Бердяев Н. А. О новом религиозном сознании, с. 225.
[Закрыть]. В великих эпохах, великих книгах и индивидуальностях именно потому Мережковский искал их собственную идентичность, что хотел выйти за пределы современного декаданса. Отсюда толковательная интенция его исследовательской мысли, – «гностическая», по определению Бердяева[16]16
Там же, с. 229.
[Закрыть], «герменевтическая», согласно нашей концепции. Всюду у Мережковского присутствует «центральный мотив всей герменевтики вообще, а именно мотив преодоления чуждости текста»[17]17
Гадамер Х.Г Актуальность прекрасного, с. 198–199.
[Закрыть], – он прекрасно видел барьер между своим и чужим духом. Несомненно, им владело герменевтическое «предмнение», «предвзятость» – идея «нового христианства»; но вправе ли мы считать, что Мережковский «обнаруживает в писателе только то, что уже имеет в себе самом»[18]18
Ермолаев М. Загадки Мережковского, с. 564.
[Закрыть], – что из «герменевтического круга» он выходит с тем же, с чем вошел в него? Тогда не о чем было бы и говорить – не было бы ни «замечательнейшего критика», ни живописателя удивительных картин древности, пускай и осовремененных, но ведь иными они и в принципе быть не могут.
Только ли терминологический вопрос – проблема определения той сферы словесного творчества, к которой правомерно относить литературную деятельность Мережковского? Ну, опознаем мы эту сферу как герменевтику, – следует ли что-то из этого? Кажется, да, – но чтобы это обосновать, вновь подчеркнем, что Мережковский был ключевой фигурой для Серебряного века. Дом Мурузи на Литейном проспекте, где жила чета Мережковских, это второй духовный центр Петербурга 1900-х гг., равнозначный Башне Вяч. Иванова на Таврической. «Здесь, у Мережковского, воистину творили культуру, и слова, произнесенные в квартире, развозились ловкими аферистами слова, – вспоминал Белый. – Вокруг Мережковского образовался целый экспорт новых течений без упоминания источника, из которого все черпали. Все здесь когда-то учились, ловили его слова»[19]19
Андрей Белый. Мережковский. Силуэт. – В изд.: Мережковский Д.С. В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М., 1991, с. 9.
[Закрыть]. Действительно, даже и крупнейшие авторитеты в области религиозной мысли обязаны своими идеями Мережковскому. Тайна Флоренского, по нашему глубокому убеждению, это Мережковский: Так, «Столп…» вдохновлен «новым религиозным сознанием», сосредоточенным вокруг концептов Софии и Святого Духа, создавшим культ «красоты» и «влюбленности». И вроде бы оппонент «литературного критика» Бердяев – как и Флоренский, гость и собеседник Мережковского – пил из того же «источника». Быть может, к Ницше Бердяев пришел и независимо от последнего. Однако бердяевскую «философию свободы» явно инспирировало фундаментальное для Мережковского отождествление идеи сверхчеловечества с творческой свободой («Л. Толстой и Достоевский»)[20]20
В занимавших его на протяжении всей жизни великих индивидуальностях – а это не только Наполеон, гении-художники, но и кротчайшие святые – Мережковкий видел сверхлюдей по Ницше. Именно их он считал столпами в своей Церкви Святого Духа: «новая» святость, по Мережковскому, базируется на личностном самоутверждении, которое им признавалось за некоторыми христианскими подвижниками.
[Закрыть]. Тема Достоевского разрабатывалась Бердяевым («Великий Инквизитор», «Ставрогин», даже «Миросозерцание Достоевского», даже «Духи русской революции») в полном соответствии с интерпретациями Мережковского.
Младшими современниками Мережковского усвоились не только его идеологемы, но и герменевтический метод. Нам представляется, что именно «герменевтика» – ключ к ответу на вопрос, который пришло время задать. Почему, в самом деле, в духовной культуре Серебряного века так тесно, на личностном уровне, переплелись философская мысль и искусство? почему почти все религиозные философы были одновременно стихотворцами или прозаиками, тогда как поэты преуспели в философствовании? и что за сплавы метафизики, эстетики, проповеди, а вместе и художественного слова представляют собой тексты тогдашних «литераторов»? Бог, человек, вселенная открывались заново, – действительно, происходила «переоценка всех ценностей»…[21]21
Конечно, такой была не вся тогдашняя русская философия: неокантианцев, позитивистов, наконец марксистов трудно заподозрить в «герменевтическом» уклоне.
[Закрыть] Основоположный тезис нашего исследования таков: mainstream’ом русской мысли Серебряного века является герменевтика – как стиль, метод, – более того, содержание философствования. Такая гипотеза подтверждает лишний раз изоморфность русской и западной философии первой половины XX в. В самом деле, на российской почве мы имеем экзистенциализм, метафизику нового типа, феноменологию, философскую антропологию и философию науки; нередко в творчестве конкретного мыслителя пересекаются две и более таких тенденций[22]22
Так, во Флоренском-философе несложно выявить все вышеназванные тренды.
[Закрыть]. В связи с Мережковским естественно возникает понятие русской герменевтики: именно оно не только разрешает «вопиющее недоразумение нашей эпохи»[23]23
Андрей Белый. Мережковский, с. 381.
[Закрыть] – проблему Мережковского как «специалиста без специальности»[24]24
Там же, с. 377.
[Закрыть], но также бросает свет и на другие загадки философии Серебряного века.
Однако почему эта последняя развивалась под знаком именно герменевтики? почему, философствуя, толковали чужие тексты, мысленно переселялись в давно ушедшие эпохи, старались забыть о себе и, точно в иконы, вперяли духовный взор в лики гениев? Философия подытоживает и осмысляет некий духовный опыт, – будь то опыт эпохальный или индивидуальный. Кант привел в самосознанию опыт естественных наук предшествующего века; Гегель и Шеллинг укоренены в немецкой послереформаторской мистике – в Экхарте и Бёме; Соловьева, наряду с традиционной церковностью, питали его «встречи» с «Софией»… При всей востребованности этого опыта Соловьева последующей русской мыслью, сам по себе он мог побудить к созданию одних лишь схоластических схем[25]25
Наиболее значительная из них – «большая трилогия» С. Булгакова, – софиологическая «сумма», разработанная мыслителем в эмиграции.
[Закрыть]. Мережковского вдохновлял все же не соловьевский опыт (хотя им и были взяты на вооружение такие концепты Соловьева, как Вселенская Церковь и София): он предпринял попытку именно герменевтической проработки того лучшего, что Россия дала миру в XIX веке, – феномена художественной литературы. Философия Мережковского проблематизирует опыт великих русских писателей XIX века формально в том же смысле, в каком кантовский критицизм – опыт великих естествоиспытателей XVII–XVIII вв. Скудость бытийственного опыта не позволяла Мережковскому философствовать «от себя»; но ведь можно опираться и на чужой опыт бытия, – как правило, так и происходит.
Приведем здесь свидетельство одного из основоположников западной герменевтики. Характеризуя ситуацию в философии в годы после первой мировой войны, Гадамер пишет: «Одна сфера опыта вновь вошла в эти годы в философию – то был опыт искусства», – в России это случилось на четверть века раньше. Не только Мережковский, но и Л. Шестов в его поисках истинной «философии жизни» обретал ее в произведениях Шекспира и Л. Толстого. Шестовскому тогдашнему убеждению полностью соответствуют слова Гадамера: «Искусство – это подлинный органон [орудие, инструмент. – Н. К] философии, если не ее соперник, превосходящий ее во всем»[26]26
Гадамер Х.Г Актуальность прекрасного, с. 9.
[Закрыть]. Опыт искусства вправе претендовать на истину, и ее, как представлялось в философских кругах, где вращался Гадамер, «знает Достоевский, знает Ван Гог, знает Ницше»[27]27
Там же, с. 10.
[Закрыть]. Эти предчувствия немецких мыслителей[28]28
Восходящие к эстетическим концепциям немецкого идеализма, но переоценивающие в пользу искусства его «соперничество» с философией: так, Гегель отводил верховную роль в познании истины именно философии.
[Закрыть] довел до философской осознанности М. Хайдеггер, обосновавший, что в великих творениях искусства обнаруживает себя истина бытия.
Русская герменевтика идет здесь дальше западной: Мережковский и его последователи (а ими были Бердяев, Вяч. Иванов, С. Булгаков) фактически сакрализовали русскую литературу XIX в., обнаружив в художественных текстах религиозные откровения, предназначенные для современности. Речь для Мережковского идет не просто о философской истине: «В русской литературе, до такой степени проникнутой веяниями нового таинственного «христианства Иоаннова», как еще ни одна из всемирных литератур», начинается «второе Возрождение»[29]29
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский, с. 154.
[Закрыть]. Хайдеггер любил диалог Платона «Ион», где говорится о поэтах как вестниках богов[30]30
Хайдеггер М. Из диалога о языке. Между японцем и спрашивающим. – В изд.: Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993, с. 288.
[Закрыть]: в своих трудах он как бы секуляризовал эту интуицию[31]31
Ниже мы обсудим данное наше утверждение.
[Закрыть]. Между тем Мережковский вполне всерьез называет русских художников пророками, тайнозрителями, ясновидцами, а то и вообще существами сверхъестественными (Лермонтов, Гоголь). Он задается, очевидно, герменевтической целью, когда хочет указать на открытые ими истины и перевести на язык нового религиозного сознания.
Герменевтика и революция
Русская герменевтика созвучна своему западному аналогу и в отношении исторического генезиса. Герменевтика Нового времени возникла в Германии в эпоху Реформации: начало ей «было положено реформационным принципом Писания»[32]32
Гадамер Х.Г Актуальность прекрасного, с. 203.
[Закрыть]. Лютеру и его сподвижникам, противопоставившим себя Риму, предстояло перетолковать Священное Писание, дабы обосновать свой разрыв с церковной традицией и доказать фундаментальный для Лютера тезис об оправдании одной верой («sola fide»). В трудах Меланхтона и Флация священные тексты интерпретировались без оглядки на церковный авторитет и догматику – новые экзегеты игнорировали аллегорический принцип, взамен чего предлагали сосредоточиться на самом тексте и прислушаться к живому Божественному призыву, звучащему в нем. Именно тогда, в контрреформаторской экзегетической практике, совершилось и «самоосмысление герменевтики» как усилия по «преодолению чуждости текста»[33]33
Там же, с. 198–199.
[Закрыть]. И само слово «герменевтика» впервые было использовано немецким протестантским теологом И.К. Даннхауэром, автором труда 1654 г. «Hermeneutica sacra»[34]34
Там же, с. 191.
[Закрыть].
Но если в охваченной Реформацией Германии «история герменевтической теории разворачивалась <…> под давлением настоятельной теологической полемики»[35]35
Там же, с. 189.
[Закрыть], то в точности то же самое можно сказать и о развитии русской герменевтики. Сумеречная эпоха рубежа XIX–XX вв., выявившая всю глубину религиозного кризиса, может считаться аналогом лютеровской: в трудах Соловьева, Мережковского и прочих носителей нового религиозного сознания открыто звучат призывы к реформам в православии. Однако русские мыслители были, думается, дерзновеннее Лютера, поскольку обновление Церкви связывали и с «обогащением» христианства языческими элементами. На фоне замыслов Мережковского реформы Лютера могут показаться косметическими, так как религия, зачинавшаяся в доме Мурузи, это «вовсе не православие, не историческое христианство, даже не христианство вообще, а то, что за христианством, за Новым Заветом – Апокалипсис, Грядущий Третий Завет, откровение Третьей Ипостаси Божеской – религия Св. Духа»[36]36
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский, с. 345.
[Закрыть]. Так мыслил Мережковский в момент первой русской революции («Пророк русской революции», 1906), которая ему представлялась началом «великой русской и всемирной религиозной революции»[37]37
Там же, с. 346.
[Закрыть]. Эта революция, мнилось Мережковскому, сметя старые Церковь и царство, установит новые «церковь как царство» – «царство небесно-земное, духовно-плотское»[38]38
Там же, с. 347.
[Закрыть]. Теократический проект переносил в социальный план мечту философа о примирении «духа и плоти».
…Маленький, щуплый, глубоко ушедший в себя и поражавший современников мертвенной холодностью своего воскового лица, Мережковский по натуре был пламенным революционером, устремленным к апокалипсической «брачной заре новой жизни»[39]39
Андрей Белый. Мережковский. Силуэт, с. 6.
[Закрыть]. При осмыслении герменевтики Мережковского кажется уместным указать на эту черту его темперамента: и в экзегетике он шел дальше, чем реформатор Лютер. В Новом Завете Мережковский обнаруживал приметы «Третьего Завета» подобно тому, как в образах Завета Ветхого отцы Церкви видели аллегорические указания на Христа. И прежде всего Мережковский изымал Писание из сферы церковного предания: «Первая и последняя глубина учения Христова, заслоненного историческим христианством – «солью, переставшею быть соленою», нам все еще не открылась»[40]40
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский, с. 181.
[Закрыть]. Позднее Вяч. Иванов, именно вслед за Мережковским «примирявший» уже не только в теории, но и в практике башенных радений Христа с Дионисом и Люцифером, вещал перед своими почитателями о том, что «Евангелие еще не прочитано»[41]41
Герцык Е. Воспоминания. М., 1996, с. 207.
[Закрыть]. Вообще для русской мысли Серебряного века – философии? богословия (Г. Флоровский)? герменевтики наконец? – Христос – это «Иисус Неизвестный». Так Мережковский назвал свой собственно экзегетический труд начала 1930-х годов. Однако и ранние его книги наполнены многочисленными экзегетическими вставками. Новозаветная весть, по словам Мережковского, эпатирует, потрясает человека: «Есть ли вообще другая религия с большими загадками и соблазнами?» – намекает он на эзотеричность канонических книг. Вспоминается представление о «скандальном» характере евангельского «провозвестия» – «керигмы» Р. Бультмана, имя которого здесь нелишне упомянуть. Друг и собеседник Хайдеггера в начале 1920-х годов, этот протестантский богослов причастен к возрождению герменевтической мысли…
«Революционность» интерпретации Нового Завета Мережковским в том, что уже в Евангелиях ему видится воскресший Христос Откровения, – Бог, вернувшийся на землю во славе. «Тёмный Лик» (Розанов) церковного Христа его отталкивает: евангельский Иисус почему-то кажется ему «воплощенным «веселием сердца», и все вокруг него были веселы, пьяны от веселия»[42]42
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский // Он же, с. 254.
[Закрыть]. При этом своего апофеоза веселие достигает на Голгофе, понимаемой новейшим экзегетом в качестве трагедии в смысле Ницше. А именно, речь идет о «радости бытия, включающей в себя и радость уничтожения», о «страшном оргийном «веселии»», о «воли жизни» – воле, утверждающей жизнь «в самых ее темных и жестоких загадках»[43]43
Там же, с. 263.
[Закрыть]. Ученики Христовы в их переживаниях уподобляются при этом «сладострастно-девственным вакханкам», сам же Христос отождествляется с Дионисом, «учителем» Ницше. В языческом ключе трактуются и последние богословские основы Евангелия, когда Бога Мережковский подменяет языческим роком, а любовь Сына к Отцу – ницшеанской «amor fati»: ««Любовь к року» не есть ли самое внутреннее существо Героя последней и величайшей трагедии <…>?»[44]44
Там же.
[Закрыть].
«Революционная» экзегетика Мережковского-темаособого обширного исследования. В связи с нашей проблематикой укажем лишь на его толкование отдельных пунктов Евангелия. Интересно, что Рождество Мережковский исключал из события собственно Боговоплощения – Бог, в его интерпретации, соединился с человеком Иисусом только в момент Его крещения на Иордане. Об этом мыслитель сообщает в велеречивых выражениях, характерных для книги «Иисус Неизвестный»: «В этот-то молнийный миг и поколебались силы небесные, длани Серафимов наклонили ось мира, солнце вступило в равноденственную точку, – и Христос вошел в мир»[45]45
Мережковский Д.С. Иисус Неизвестный. М., 1996, с. 178.
[Закрыть]. Возрождая древнюю ересь Нестория, Мережковский, думается, ориентировался здесь на современную ему христологию Р. Штейнера. – Эпизод брака в Кане Галилейской, использованный Достоевским в «Братьях Карамазовых», Мережковскому служит аллегорическим прообразом великого религиозного переворота – «претворения горькой слезной воды старого христианства <…> в вино радости новой», «в христианство новое, утреннее, восточное, солнечное, брачное, пиршественное»[46]46
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский, с. 348.
[Закрыть]. В своих исканиях «утаенного Евангелия»[47]47
Мережковский Д.С. Иисус Неизвестный, с. 190.
[Закрыть] он тщится заглянуть через плечо Иисуса, пишущего «перстом на земле» во время суда над «женщиной, взятой в прелюбодеянии»: «Что пишет Он? Какое слово? Не слово ли последней любви и последней свободы о тайне пола преображенного, о тайне святого целомудрия и святого сладострастия?»[48]48
Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский, с. 337.
[Закрыть] Дух Святой, полагал Мережковский, отнюдь не сходил, как Ипостась, на землю в событии Пятидесятницы – Он явит Себя лишь в Христе Грядущем, в событии Второго Пришествия. Заявляя это с целью унизить Церковь (лишенную, по его мнению, благодати Сошествия), интерпретатор искажает текст Евангелия, что вообще делает нередко[49]49
Мережковский закавычивает такой текст: «Не оставлю вас сирыми, пошлю вам Духа Своего» (там же, с. 294). Между тем слова Христа из Его последней беседы с учениками таковы: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам» (Ин 14, 18). Для Евангелия принципиально то, что Дух для Христа – это Дух, который исходит от Отца, а не есть Его, Христа, принадлежность, как у Мережковского. Ср.: «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит…» и т. д. (Ин 15, 26).
[Закрыть]. И в новое религиозное сознание, пронизанное земными, «человеческими, слишком человеческими» интенциями, кажется, не вмещается церковный догмат о Христовом Воскресении. Вернее сказать, Мережковский «демифологизирует» евангельское событие, следуя в этом за библейской критикой, – прежде всего за весьма любимым им в 1900-е годы Э. Ренаном. Русский богослов лишает Воскресение исторической конкретности и сводит к «проведению» учениками «какой-то бесконечной реальности», того, что «должно быть» в «неизмеримой дали» мировой эволюции, но «что уже есть в вечности»[50]50
Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский, с. 347.
[Закрыть],[51]51
В «Иисусе Неизвестном» концепция Воскресения приближается к традиционной, но затемнена велеречивостью и парадоксальностью экзегетического дискурса. Тайна «пустого гроба», по Мережковскому, и доныне остается «неразгаданной», хотя он и исключает «маленькое плутовство» – похищение тела Распятого учениками (см.: Мережковский Д.С. Иисус Неизвестный. М.,1996, с. 612–614). Также и в по смертных явлениях Христа апостолам что-то было, хотя это и недоступно одному «здешнему знанию» (там же, 618). Как и в 1900-е годы, Мережковскому хочется провести «границу между тем, что «кажется», и тем, что есть» (там же, 623). Но все же по поводу явлений Христа Воскресшего, о которых сообщают Евангелия, Мережковский заключает: «Все это было однажды, во времени, и будет всегда, в вечности» (там же, 627).
[Закрыть]. Сонное видение умершего старца Зосимы Алёше («Братья Карамазовы») и встречи апостолов с воскресшим Учителем – события примерно одного порядка в глазах Мережковского.
* * *
Герменевтика Мережковского, т. е. интерпретация литературно-художественных текстов, опирается на его экзегетику – интерпретацию Нового Завета. При этом замечательно то, что герменевтика как таковая, которую в связи с Мережковским принято называть «критикой», в определенном смысле тоже является экзегетикой! Мы уже замечали, что Мережковский фактически сакрализовал опыт русской литературы XIX в.: художественные тексты для него – если и не новое Священное Писание, не собственно «Третий Завет», то пролегомены к нему Потому анализ романов и стихов, обыкновенно относимый к рутинной и профанной области литературоведения, у Мережковского оказывается чем-то вроде «третьезаветной» экзегезы. Речь идет об интерпретации текстов с опорой на предмнение нового религиозного сознания. Заступимся за Мережковского: да, он входит в многочисленные герменевтические круги с данным предмнением, однако выходит из них с богатым уловом, – например, с выразительными и точными духовными портретами Гоголя, Толстого, Пушкина, Тургенева… Герменевтика Мережковского приносит свои плоды и в области философской антропологии.
О том, как возникло в его сознании подобное предмнение, как в его душу ворвалась «буря света» новой религии[52]52
Андрей Белый. Мережковский. Силуэт, с. 6.
[Закрыть], можно только догадываться. Андрей Белый, глубже других понимавший Мережковского, встраивал в его биографию событие своеобразного «посвящения» соловьевского типа: «Красота мира явилась ему в Лике Едином»[53]53
Андрей Белый. Мережковский, с. 380.
[Закрыть]. Сам Мережковский сообщает в очерке «Акрополь», действительно, о своем инициирующем мистическом опыте красоты, пережитом им в 1892 г. во время путешествия в Грецию. При виде величественных храмов богини Афины «в душу хлынула радость того великого освобождения от жизни, которое дает красота. <…> Все двадцать болезненных и скорбных веков остались <…> за священной оградой, и ничто уже не возмутит царящей здесь гармонии <…>…И не было времени: мне казалось, что это мгновение было вечно и будет вечно»[54]54
См. в изд.: Мережковский Д.С. Л. Толстой и Достоевский… С. 356–357.
[Закрыть]. Встреча с красотой сообщила смысл жизни Мережковского, а вместе с тем была им воспринята, как платоновское воспоминание: «Мне казалось, что я все это уже где-то и когда-то, очень давно, видел и пережил, только не в книгах»[55]55
Там же, с. 356.
[Закрыть]. Эстетизм Мережковского, обыкновенно понимаемый весьма поверхностно, на самом деле проистекает из этого его опыта приобщения к вечности, опыта религиозного порядка. Книгу Мережковского о любимых писателях «Вечные спутники», открывавшуюся «Акрополем», как замечала в своих воспоминаниях о супруге 3. Гиппиус, было принято дарить успешным гимназистам на выпускных вечерах. Понимали ли тогдашние наставники молодежи, что этот безобиднейший, казалось бы, и даже назидательный томик содержит в себе динамит «великой духовной революции», которая, по мысли автора сборника, сметёт с лица земли Церковь, и монархическое государство?
Между тем, исток воззрений Мережковского надо искать именно в очерке «Акрополь». Та «святыня», которую этот путешественник обрёл на месте поклонения Афине, включает в себя и мечту о «новом эллине, богоподобном человеке на земле», и задание примирения с природой, и пафос «героизма», «счастья», свободы, покоя. В греческих архитектурных формах, как бы продолжавших природные облики, Мережковский распознал одну лишь винкельмановскую светлую античность, и с этого момента в его душе стало быстро всходить семя неоязычества[56]56
Дух греческой античности Винкельман сводил к «благородной простоте и спокойному величию». На его взгляд, даже и в «жесточайших страданиях» героя гармония его внутреннего мира не нарушалась и идеальный грек сохранял «великую и уравновешенную душу» (см.: Винкельман И.-И. Избранные произведения и письма. М.; Л., 1935, с. 107). Интересно, что Винкельман, знаток античной скульптуры и живописи, воспитал в себе, по словам Гёте, «языческий образ мыслей». То, что Гёте пишет в своих «Набросках к характеристике Винкельмана», можно было бы отнести и к Мережковскому – с его «отдаленностью от всего христианского мировоззрения», «отвращением к последнему». «К церквам, на которые подразделяется христианская религия, он [Винкельман] был совершенно равнодушен» (там же, 605–606), – равно как и Мережковский, как и сам Гёте..
[Закрыть]. Мережковского захватила утопия золотой поры человечества, упразднённой жестоким пустынным духом семитства: «Всё, что доводит нас до невыносимых противоречий – небо и земля, природа и люди, добро и зло, сливалось для древних в одну гармонию»[57]57
Мережковский Д.С. Акрополь. – Указ, изд, с. 358.
[Закрыть]. Позже его «новое религиозное сознание», встав под знак Ницше, окрасилось трагизмом и антихристианским демонизмом. Эту-то духовность Мережковский попытался скрестить с евангельской образностью и назвал причудливый гибрид «новым христианством».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?